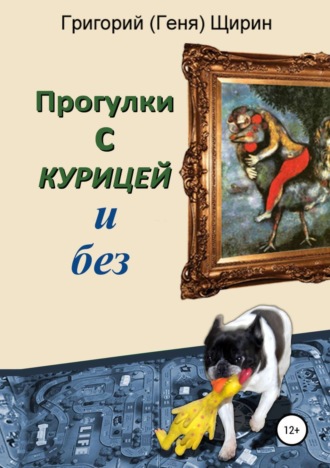 полная версия
полная версияПрогулки с курицей и без
Ах, словари, ох, словари… Недавно перечитывал Гоголя, встретил слово «гугля» – ну, думаю, ага; вот откуда оно все пошло. Потом по смыслу понял, что это, конечно, не поисковая система, а просто шишка, гуля. У мамы в Баку был коллега доктор Мамиконов, у него на голове была такая врожденная выпуклость, и друзья называли его Гуля, ну а я, мальчишка, – дядя Гуля. Но я все же полез из любопытства за «гуглей» в Даля. У Даля «гугли» нет, а интернет по запросу дает только Google и ничего больше. Не отстаю, лезу в украинский и пожалуйста: «ҐУЛЯ 1, і, жін. Заокруглена опуклість, наріст на тілі людини або тварини від запалення, удару і т. ін.». Значит, было слово и пропало. Слова, как многие люди, живут и умирают в безвестности, а некоторые, мат к примеру, остаются на века.
Не знаю, как вам, а мне всегда интересно копаться в словах и языках. Помню, прилетели мы впервые в Афины, взяли напрокат машину, едем – я и мой зять Саша – физик до мозга костей. И все вокруг на греческом, на великом греческом, от которого и латинский, и русский. Восхищенный, тут же пытаюсь читать прямо в аэропорту: «έξοδος» – э-ксо-дос – исход. Ура – «Эксодус», кто же этот роман не читал! «Саша, а ты пробовал читать по-гречески?» – «И не пытаюсь, вижу только какие-то формулы, не имеющие никакого смысла».
Интересно изучать любой язык. Люблю и уважаю Язык. Любовь пришла, что удивительно, не от русского, а от немецкого, где-то в классе 5-м. До четвертого я, как и большинство еврейских детей, занимался музыкой. Но отношения с моей учительницей по фортепьяно, супругой известного азербайджанского композитора Кара Караева, почему-то не сложились. Приходя на уроки в дом маэстро на улице Красноармейской, ныне Самеда Вургуна, и барабаня этюды Черни на рояле, за которым, возможно, были написаны «Семь красавиц» и «Тропою грома», чувств пиетета и любви к Евтерпе не возникало. Особенно меня раздражало носить огромную нотную папку с витыми шнурками–ручками и стилизованной лирой на боку. Короче, я все чаще стал просить маму отправить меня учить что угодно, лишь бы не эти диезы и бемоли. Мама, недолго подумав, согласилась (теперь жутко жалею, что не получил тогда решительный отказ – может быть, написал бы мюзикл «Прогулки с курицей»), но твердо сказала: «Вместо музыки будешь учить немецкий».
Ошалев от счастья, что больше не сяду за пианино, я бросился в немецкий с головой. Откуда взялся немецкий, а не что-то другое? Во-первых, у мамы самой был прекрасный немецкий (до войны почти никаких других «иностранцев» в школах не преподавали), но главное – у мамы была подруга Наталия Генриховна Эйгенсон, которая преподавала немецкий в Бакинском военном училище. И я стал ездить два раза в неделю на уроки немецкого к этой красивой женщине, оказавшейся замечательным педагогом. С ней было всегда интересно, но удивительно, что я впервые почувствовал красоту Языка, хотя у него, как и в музыке, оказались свои ритмы, счеты, темпы, высоты и полутона и даже диезы и бемоли (умлауты). Как и в музыке, здесь тоже надо приложить много труда, проиграть много гамм и этюдов, прежде чем понять и оценить красоту настоящего произведения. Но мне вдруг это все понравилось несмотря на то, что в бакинской 160-й нам впихивали и Пушкина, и Чехова, и «войну с миром» в период, когда кроме девочек, сигарет и джазовых пластинок нас ничего не интересовало. А вот перечитал «Смерть Ивана Ильича» в 45 лет, уже после смерти папы, и страницы зазвучали могучим симфоническим оркестром…
Наталия Генриховна научила меня понимать переводы. Мы не просто читали в оригинале Ein Fichtenbaum («Сосна») Гейне, но и разбирали бесподобные переводы Лермонтова. Кто не знает: «На севере диком стоит одиноко / На голой вершине сосна». Оказалось, что многие знакомые нам стихи Лермонтова – это блестящие переводы Гейне и Гете. Мы тоже делали опыты в переводе. Помните популярную в 50-е годы песню Трошина: «…Знаю, даже писем не придёт, Память больше не нужна. По ночному городу бредет Тишина»? Забылись почти все слова, но живо чувство озарения, когда нашел немецкое Stille Nacht («Тихая ночь»), и ощущение, что это хоть и не буквально «тишина», но точно ложится на музыку.
Потому и держу на полке книгу Корнея Ивановича Чуковского «Высокое искусство». Почитайте, не пожалеете. Как же такое выбросить.
А как тяжело было все это доставать. До недоступного в те времена доллара книга была самой стойкой валютой. В магазине подписных изданий (рядом с Бакинским бульваром) случайных людей не бывало, а должность директора явно входила в номенклатуру ЦК. От маминых докторских «борзых щенков» порой перепадало и мне. И вот он на полке – десятитомник Пушкина. По тогдашним правилам при оформлении подписки вносили задаток за последний том, который вы должны были получить потом бесплатно. Записала меня мама на Пушкина еще школьником, а за десятым томом я пришел уже студентом. Цены на книги росли, как и на все, и даже быстрее. Поэтому бесплатно не вышло. Просить деньги у мамы неудобно, свои студенческие жалко. «А что там, в десятом?» – «Письма». Может, плюнуть на письма, мелькнула подленькая мыслишка, но любовь к Пушкину пересилила. Но, как говорится, раз уж уплачено… Так я прочел этот том от корки до корки. Получил огромное наслаждение. И продолжаю испытывать еще большее, когда иногда перечитываю сегодня. Протер и положил обратно.
Народ вывозил в эмиграцию кто что мог. Мы тут как-то устроили конкурс и установили приз за предмет, который вы вывезли из Советского Союза и ни разу им не воспользовались. Приз получила известная в наших краях врач-стоматолог за моток резинки для трусов. Надо было бы мне выставить тогда англо-русский словарь по вычислительной технике 1974 года, да не сообразил. Но книги вывозили почти все. Такое родное и близкое не оставляют. Да и теплилась надежда: если не дети, так внуки будут листать эти переплывшие океан пожелтевшие страницы мудрости. Увы, уже и перелистывать книги дети не умеют. То ли дело нажимать на кнопки.
И в Австралии, и в Германии, и в Израиле, почти во всех иммигрантских домах, где я бывал, как и у меня на полке, красуется коричневый (почему Гослитиздат выбрал такой цвет?) шеститомник Шолом–Алейхема. По-моему, никто его никогда не раскрывал, но он продолжает стоять как сертификат, отождествляющий аутентичность владельца. Ну, так пусть постоит еще. А рядом столь же широко распространенный в эмигрантских семьях черно-бордовый двенадцатитомник Лиона Фейхтвангера. Смешная история, связанная с Фейхтвангером. Младшая дочка Белла по-русски продолжает говорить хорошо и на своем четвертом десятке, но читать – нет. Только по-английски. Но за тем, что читает, по крайней мере пока она училась в школе, мы следили и пытались давать советы. Очередной совет был прочитать «Испанскую балладу» и «Иудейскую войну». Английского издания у нас не было, и Белла отправилась в городскую библиотеку. Доложила, что там такого писателя нет. Я не поверил и отправился искать сам. Действительно, нет. Я даже залез в энциклопедию немецкой литературы, чтобы убедиться в правильном английском спеллинге. Да и там Фейхтвангеру уделено не так уж много места. То ли за его прокоммунистические взгляды, то ли из-за «пятого пункта». Но на «Амазоне» можно еще кое-что из Фейхтвангера на английском найти. Чудом сбежав из гитлеровской Германии, ему удалось добраться то Америки, где он и скончался в 1958 году, в Лос-Анджелесе, но продолжает жить на наших книжных полках. Надолго ли?
Больше не отвлекаемся, а продолжаем малоуспешные попытки очистить полки. Вот мой любимый пятитомник Ильфа и Петрова. Первые два тома затерты больше, чем другие. Естественно: «12 стульев» и «Золотой теленок». Лет пять назад познакомился с молодой парой, только приехавшей из России. Прекрасные программисты, но, как выяснилось, не читали Ильфа и Петрова. Похоже, что знание этих произведений наизусть, как в наше время, сегодня не является обязательным в России. Может, это и хорошо. Не знаю. Однажды они меня спросили: «Что такое примус?» Это я объяснил, а на второй вопрос до сих пор не знаю ответа. В девятой главе «Где ваши локоны?» есть фраза: «Взвод красноармейцев в зимних шлемах пересекал лужу, начинавшуюся у магазина Старгико и тянувшуюся вплоть до здания губплана, фронтон которого был увенчан гипсовыми тиграми, победами и кобрами». Вопрос – что такое «победы»? Ответа не знаю до сих пор. А вы?
Ильфа с Петровым оставим, а пять книг воспоминаний Александра Бенуа подарим друзьям–петербуржцам. Еще можно подарить: двухтомники Нодара Думбадзе, Федерико Гарсиа Лорки, Кнута Гамсуна, Байрона. Все это ни разу не открывалось за последние 30 лет. Кладем в ящик #2. А Стринберга не отдам. Его надо бы еще раз перечитать, особенно после долгой семейной жизни.
Переходим в другую комнату. Кого же из этих запыленных «приятелей» мне приходилось снова брать в руки? Достоевского – брал, перечитывал «Бесов» не так давно. 25 томов «Библиотеки американской литературы» – это уже и не подарить. Да и не у всех была, надо было иметь знакомство в горкоме комсомола. А теперь могу это и на втором, почти родном, читать. Кое-что я на английском прочел, даже набрался храбрости и взялся за «Улисса» Джойса. Потом перечитал «Улисса» на русском. Стало легче, но не очень. О русских переводчиках можно и нужно говорить много хорошего, но это отдельная тема, сегодня будем фокусироваться на разборке книг. А где «Лучшие зарубежные детективы» и «Библиотека научной фантастики»? Ах да, это я уже не так давно отдал. Бунина вдруг оказалось просто в избытке – и трехтомник, и четырехтомник. По-моему, кто-то хотел трехтомник выбросить лет пять назад, так я его «усыновил». Теперь я созрел – во второй ящик его. И Тургенева все 12 томов туда же. Прощайте, Иван Сергеевич! «Месяц в деревне» на Малой Бронной останется в моей памяти величайшим театральным шедевром, но все лавры отдаю Эфросу.
А на самой верхней полке многотомный бордовый Бальзак через коричневого Паустовского плавно переходит в бежевого Эренбурга. Чистой воды фен-шуй. Туда без лестницы не добраться, а за лестницей в гараж лень. Да вот и день прошел. А ведь я еще не дошел до кулинарных книг – полный шкаф, а еще последние «докиндловские» покупки: Толстая, Улицкая, Сарнов, Рубина…
Проект явно не удалось довести до конца, но надо как-то закончить это сочинение, похожее на школьное: «Как я провел день». Есть у меня в архиве «Полюбившееся» стихотворение Марка Шехтмана «Русские книги в Израиле». Думаю, там есть все, что мне не удалось сказать:
Что морочить вам голову сказками или интрижками,
Если рядом сюжет очень горестный и настоящий.
У подъездов в Израиле ящики с русскими книжками,
Будто траурный знак, появляются чаще и чаще.
Через Чехию, Венгрию, Австрию и Адриатику
Мы за взятки везли, превышая пределы загрузки,
Философию, физику, химию и математику,
И Толстого, и Чехова – всё, как понятно, по-русски.
А когда на таможне уже и за доллары медлили
Брать багаж – перегруз, мол! – тогда эмигрант непреложно
Оставлял половину ковров, и посуды, и мебели,
Но не книги, поскольку уехать без книг – невозможно!
Цену мы себе знали и были не глупыми, вроде бы,
Но как много углов оказалось в обещанном круге…
И не шибко счастливые на исторической родине,
Русским словом спасались мы, книгу раскрыв на досуге.
Нанимались на всё, до рассвета вставали в полпятого -
и за швабру, и лом, и лопату! – а чтоб не дичали,
Судомойка-филолог в уме повторяла Ахматову,
А маляр-математик листал Фихтенгольца ночами.
Мы пробились к профессиям – к музыке, скальпелю, формуле,
И гортанный язык перестал тяготить, как вериги.
Мы остались людьми, мы судьбину поводьями вздёрнули! –
Но состарились люди, а рядом состарились книги.
Нашим детям и внукам иврит уже много привычнее,
Чем их простенький русский, бесцветный, как стены приюта.
И когда старики умирают, конечно, приличнее
Ящик с книгами вынести – вдруг пригодятся кому-то.
Вот такие приметы, печальные и настоящие,
Нынче в наших делах, в нашем доме, у нашего века.
Не считая своих – слава богу, не сложенных в ящики!
Этих траурных книг у меня уже – библиотека…
Неделя азербайджанской кухни в Сан–Франциско
Нет ничего лучше азербайджанской кухни. Вокруг Каспийского моря с его уникальным рыбным богатством расположились и Россия, и Казахстан, и Туркменистан, и Иран. Пробовал я кулинарные восхищения всех этих стран, вкусно, конечно, но с азербайджанской не сравнить. Мое скромное мнение, что две основные вещи делают эту кухню самой лучшей в мире и, увы, практически невоспроизводимой в других географиях. Первое – нежно-жирные баранина и осетровые, и второе – нежные женские руки (жены, сестры, тети, племянницы, соседки), раскатывающие и слепляющие к праздничному обеду все эти чудеса из теста: гюрза, дюшбаря, кутабы …
Масло и правильный жир – ключ к вкусной еде. Грандиозность события в Баку, например, свадьбы, порой измерялась количеством затраченного масла. Я сам слышал не раз: «Такая свадьба была, такая свадьба – 30 килограмм масла ушло».
Прошли годы, но музыкой и сегодня для меня звучат: «сабза – каурма», «бадымджан долмасы», «кутум– лявенги», «гойэрти кутабы» – эх, да что там душу травить, когда сам уже второй месяц на диете. Решил худеть. Поэтому, наверное, я об этом всем и вспомнил. Хотя нет, не только.
Недели две назад пошел я с Додиком Г. на наш очередной ланч, и вот на эту самую тему и зашел разговор. Додик тоже бакинец, уехал из Баку в 14 лет, но вкуса еды не забыл. Он сейчас крутой бизнесмен, живет в Сан-Франциско, водит компанию с себе подобными, уже не русскоязычными, но, как и я, любит готовить. А наш разговор о бакинской кухне начался с того, что он и его друзья периодически устраивают тематические обеды, вроде как «Кухни народов мира». Они узнали, что Додик из Баку, и поручили ему организовать обед в духе азербайджанской кухни.
«А ты с Ирой тоже приходи, приготовь чего-нибудь вкусненькое». «Как насчет моего любимого плова?» «Нет, нет, – сразу же отмел идею плова Додик, – наши худеющие дамы поставили условие, чтобы поменьше жиров и углеводов». Я с ужасом представил себе азербайджанскую кухню без жиров и углеводов, но все же мы пришли к соглашению. Решили, что я принесу блюдо на свой вкус плюс свежеиспеченные чуреки и лаваш; без них, как мы оба согласились, никак нельзя, несмотря на очевидную «углеводность».
Обед был назначен через три дня, в воскресенье, но я так еще и не решил, что же мне приготовить. И тут я вспомнил про редкое и дорогое в Баку «гранд-финале» шашлычно-водочного застолья – бараньи, даже не знаю, как политературнее выразится: тестикулы, семенные железы, или яйца. Пусть будут – «яйца». Естественно, что оного продукта на рынке всегда значительно меньше, чем мяса. И в Баку это было угощением исключительно для «уважаемых людей». Известная история, как Подгорный, будучи председателем Президиума Верховного Совета СССР, приезжал в Азербайджан и так вошел во вкус этого продукта, что попросил еще и еще – да так, что повара уже срезали продукт чуть ли не живьем. Говорят, что после этого пришел даже специальный указ: повысить яйценоскость баранов в республике. А тут у нас, в районе Залива, есть небольшой иранский магазинчик, где «это» всегда найдешь. Но вот беда: я забыл самый сложный этап процесса готовки – как продукт чистить. Впрочем, если есть гугл, то проблем нет. Я был поражен количеством советов и комментариев на эту тему. Запомнился один, который был размещен сразу же после детального видео: «Посмотрел… И вот уже год, как я вегетарианец».
За час до обеда заехали мы с Ирой в соседний иранский магазин, купили дюжину «продуктов» в пластиковом мешке, дождались, когда из печки вытащат чурек, завернули его в банное полотенце и поехали в Сан-Франциско. От запаха свежеиспеченного лаваша можно было одуреть, но дотерпели.
И вот мы нажимаем на звонок дома по указанному адресу. Дверь открыла очень милая хозяйка по имени Афина. Компания, как это принято в Сан-Франциско, всех понемногу: и индус, и китаянка, и филиппинец. В большинстве – супружеские пары адвокатов, разных сфер деятельности, при этом две адвокатши, мне показалось, составляли (прошу прощения) нетрадиционную пару. Все гости были, скорее всего, демократами и борцами за расовую справедливость, но на 100% не уверен, ибо меня строго-настрого предупредили – о политике ни слова.
Додик колдовал на кухне, заканчивая свой вариант «сабзи каурма». Рядом стояла литровая банка с каким-то по виду очень жирным бульоном. Оказывается, Додик в угоду компании отделил бараний бульон и, как я понял, делал сабзи уже с вываренной бараниной на воде и соке трав. Довольно нетипично для азербайджанской кухни; я попробовал – постно, но вкусно (что еще надо людям на диете). Додик приготовил еще и довгу – замечательный кисломолочный суп с зеленью и горохом. Если не пробовали, посмотрите на «ютубе» – куча прекрасных рецептов.
На стойке бара стояло множество бутылок «Ркацители» и «Саперави», купленных, как я выяснил, в сан-францисском магазине «K&L». На вопрос «почему вина грузинские?» организаторы вечера ответили, что это ближайший к Азербайджану регион, вина которого можно приобрести в городе. Вина, хоть и похуже калифорнийских, но пились неплохо. Ира с хозяйкой ставила на стол тарелки, вилки-ложки, блюда с зеленью и сыром, маленькие блюдечки с солью и еще теплые, из полотенца, углеводы. И вот Додик водрузил кастрюли с сабзи и довгой и объявил, что обед начинается.
Но народ не торопился, явно ожидая инструкций. Додик сказал, что традиционно обед начинается с зелени. Вот, демонстрирует он, берем зеленую луковицу, макаем в соль – и в рот. Все покорно повторили процесс и восхищенно сказали «Wow!». Потом Додик попросил меня показать, как заворачивают зелень с сыром в лаваш. Я сказал, что это напоминает мексиканское буррито: взял небольшой кусок лаваша, положил набор из кинзы, базилика и тархуна, добавил сыра, свернул самокруткой и отправил в рот. Идея самокрутки явно пришлась по душе публике, и большинство довольно ловко справились с поставленной задачей, откусили и сказали «Wow!». Потом все пошло-поехало. Появилась и бутылка водки, настоянной на травах типа тех, что идут на зубровку. Эту водку теперь не экспортируют в Америку из-за того, что в траве зубровке есть кумарин, которой вроде имеет какое-то негативное воздействие на печень. Я всегда по наивности полагал, что любая водка не может влиять на печень положительно. Короче, в той настоянной Додиком водке травы были как раз те, что надо. Народ сильно и быстро повеселел, и я понял, что пора готовить яйца. Для порядка спросил, не хочет ли кто мне помочь. Неожиданно вызвались обе дамы нестандартной ориентации, и мы втроем отправились на кухню. Советы на «ютубе» явно помогли, и дело быстро пошло на лад. Мои помощницы тоже попробовали тестикулы, уважительно взвесив продукт на ладони и хладнокровно вонзив в него нож. Блюдо с жареными яйцами мы разнесли вокруг стола, и гости поначалу со страхом, а потом с удовольствием его опустошили, а один, как и Подгорный, попросил еще.
На десерт хозяйка изготовила по интернетовскому рецепту очень неплохие шемаханские мутаки. Ира опустошила весь запас рассыпного чая из кухни Афины и заварила по-настоящему крепкий и душистый, как говорили в Баку, «мехмери чай». Гости его попробовали так же осторожно, как и яйца, и сказали «Wow!». Вечер безусловно удался. Расходились поздно и неохотно.
Уже на улице нас догнала хозяйка дома с банкой бараньего бульона и категорически настояла, чтобы мы его забрали с собой.
Завтрашний обед по моему диетному расписанию был записан как овощное рагу с чечевицей. Идея рецепта не заставила себя долго ждать. Лук прожарил в бараньем жире, что плавал поверх бульона, овощи и чечевицу залил половиной бульона и поставил тушить минут на 30. Получилась – просто сказка. Запах…ммм… пахло, как в хорошей бакинской ханышке. Через пару дней по тому же сценарию приготовил фаршированные перцы из постной индюшатины. Да, на такой диете можно сидеть!
Так у меня получилась аж целая неделя любимой кухни. Но банка все же опустела… Ладно, решил я, потерплю еще месяц, дойду до желаемого веса и устрою настоящий азербайджанский обед. Надо же отпраздновать похудение. Вот если бы достать курдючный жир и сделать люля-кебаб… Wow!
Сметана из Тмогви
Удивительная женщина Натела. Перемещение в жизненном пространстве из Тбилиси в Силиконовую долину дело не простое; но не прошло и двух лет, как она, грузинка, и ее муж-еврей, оба талантливые математики, успешно освоились, купили дом, посадили сад. Впрочем, здесь такое не редкость. Удивительно другое: здесь, в Купертино, она создала свою мини-Грузию. В кухне витает аромат хмели-сунели, в баре – «правильные» вина и чача, в саду – инжир, лимоны, мандарины, вишня, слива ткемали. Если кто не знает, то настоящий соус ткемали надо готовить из специальной мелкой сливы, которая по-грузински так и называется – «ткемали». И компания друзей в ее доме напоминает мне по составу старый интернациональный Тбилиси. A эти незабываемые домашние обеды …
Один недостаток – курит Натела. И много. Причем исключительно сигареты «Capri light».
К сигаретам мы еще вернемся, а пока начнем с того, что не так давно мы с сестрой решили навестить родную Нателе и любимую нами Грузию. Бывали мы там и раньше, но вот уже лет 30, как не пили в Тбилиси на Руставели «воды Логидзе» со знаменитыми слоеными хачапури. К кому же пойти за советом перед дальней дорогой в Сакартвело, как не к Нателе!
Было выпито много вина. И получили мы длинный список рекомендаций: на какой спектакль театра Габриадзе идти, а на какой нет; где заказывать «котнис» – лобио с копченным мясом, а где «цоцхали»; и что по дороге из Мцхета обедать нужно исключительно в ресторане Армазис Цкаро и многое другое. Да, и обязательно купить сыр гуда (не путать с голландским гауда) или же гудис квели (сыр из мешка). Гуду делают из овечьего молока. Однако главная особенность сыра гуда в том, что его выдерживают много месяцев в специальном овечьем бурдюке шерстью вовнутрь. Я попробовал гуду у Нателы – сказка, пахнет живым бараном. Но на любителя, не зря его еще называют – «вонючий». Самый дорогой сыр в Грузии, кстати.
Но было и поручение – привезти Нателе банку сметаны из Тмогви, маленькой деревушки недалеко от Вардзии. В свое время я по Грузии немало поездил, но про Вардзию к своему стыду даже слыхом не слыхивал. Записали мы и Тмогви в наш план. Натела показала фотографию миски с этой сметаной, в которой торчмя стояла металлическая столовая ложка. Надо заметить, что качество молочных продуктов в избалованном осетриной и черной икрой Баку было, мягко сказать, не на высоте, поэтому вид этой миски с ложкой произвел на меня неизгладимое впечатление. Конечно же, я обещал сделать все, чтобы привезти это чудо, хотя смутно представлял, как все организовать, как пройти через службу TSA в аэропорту и что станет со сметаной за время обратного полета.
И вот мы отправились в Грузию, в путешествие за этим «золотым руном». Прилетели в Тбилиси в 6 вечера, приехали в гостиницу недалеко от метро «Авлабари» и помчались по совету Нателы в соседний ресторан обедать и смотреть закат над Мтацминдой. Вид действительно не просто красивый, а «фантастический», как сказала Натела. Вспомнился старый псевдогрузинский анекдот: «Гиви, ты говорят «Жигули» купил. Какого цвета?» – «Потрясающего. Помнишь закат над Мтацминдой? Вот такой точно, только зеленый!»
День-другой мы бродили по Тбилиси, поднимались на Мтацминду, Пантеон, ездили на базар, ходили в театр, баню и периодически уезжали то в Мцхету, то с ночевкой в Казбеги, то в Кахетию.
Поездка за сметаной в Тмогви была запланирована в середине нашего пребывания в стране. Добрались мы до Вардзии из Тбилиси часов за пять с остановками и перекусами. Это удивительный пещерный город 11 века, вырезанный в горах, напоминает еще более древнюю Петру в Иордании. Поглядите на гугле или съездите сами – не хочу «растекаться мыслью» (чуть было не сказал сметаной).
Полазив по пещерам, мы наконец приехали на ночлег в Тмогви. Очаровательная деревушка. И пахнет по-настоящему: цветами, навозом, курами. Родниковая вода льется без остановки из патрубка, вделанного в каменный забор. Хозяйка дома, в котором мы остановились на ночлег, Кето, угостила нас свежей форелью, жареной картошкой, только что выкопанной, с божественным запахом. В Калифорнии рыба еще как-то пахнет рыбой, но картошка уже давно ничем не пахнет. У нас оставалось еще литра два «Кинзмараули» домашнего разлива, так что вечер вполне удался. Во время обеда возникла идея – а не попить ли нам с утра парного молочка. Кето любезно согласилась, и в 7 утра Ира, Нана и я с фотоаппаратом отправились доить корову. Давно забытый запах и вкус.
На завтрак Кето подала только что испеченные слоеные хачапури, в Тбилиси таких не сыскать, уже упомянутую выше картошку, лаваш, яйца, масло и – миску с вожделенной сметаной. Такой же, которая и предназначалась для Нателы. Сметана была потрясающая, но ложка в ней все же слегка заваливалась. Перед отъездом Кето налила нам полную пластмассовую банку, мы ее законопатили со всех сторон, поблагодарили гостеприимную хозяйку и продолжили наше путешествие по Грузии. Путь до Тбилиси с остановками в Боржоми и в Гори занял 8 часов. Мы, конечно, волновались за сохранность сметаны, но лучшее, что мы смогли придумать по возвращении в гостиницу, положить «несчастную» в холодильник на оставшиеся пять дней.

