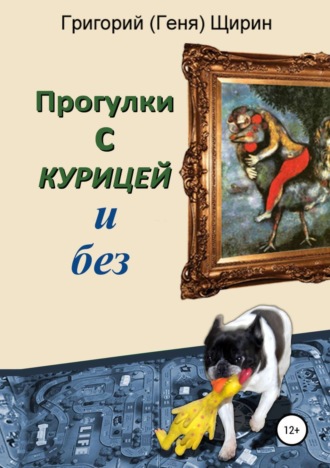 полная версия
полная версияПрогулки с курицей и без
При покупке железнодорожных билетов паспорт не требовался, на билетах фамилий наших не было, имен и адреса родственников в Черновцах Толя не знал. Но когда в 3:50 поезд остановился у перрона львовского вокзала, Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб, улыбаясь, стоял прямо напротив нашего окна.
Недреманное око
Одно из запомнившихся событий моей жизни – первая поездка в Америку, в гости к Нане. В конце 80-х это стало вдруг возможным без особых усилий в смысле денег и блата. Папа с мамой уже съездили, привезли кучу подарков и цветных фотографий. Снимки, сделанные «поляроидом», казались фантастически красивыми, а сам факт моментального появления цветной фотографии был за пределами воображения, не говоря уже о шмотках. Короче, осенью 1988 года мы с Женей получили разрешение ОВИР, визу в американском посольстве в Москве, билеты из Москвы до Нью-Йорка на самолете авиакомпании «ПанАм» и трехнедельный отпуск на работе. Сказка становилась былью. Следует добавить: в шестом отделении милиции, которое находилось рядом с домом, у нас забрали серо-зеленые паспорта и выдали взамен красивые краснокожие паспортины, кстати без «пятого пункта». Но чтобы мы не обольщались, вежливо добавили: «По возвращении зайдете и обменяете снова».
И вот Нью-Джерси. Мы не виделись с сестрой почти 9 лет и с нетерпением ждали этой встречи. Особенно Нана с Сашей. Руте, их дочери, три, а мальчику Дане всего годик. Бабушек и дедушек рядом нет. Поэтому договорились, что мы с Женей побебиситерствуем (наверняка в современном русском уже есть такое слово) обоих детей неделю, а они с Сашей слетают в Перу поглядеть на Мачу-Пикчу и Титикаку. По приезде они обещали заняться только нами и показать Америку во всей красе. По-моему, это был прекрасный quid pro quo, тем более, что нам оставляли: дом с не виданными ранее деками, барами, компьютерами, телевизор со 120 каналами, холодильник, заполненный не пробованными еще вкуснятинами, ключи от машины «сентра», машинку для стрижки газонов и прочее. Правда, двое маленьких детей. Учтите, что все, включая кого, чем и когда кормить, куда и когда поехать, как менять Дане не виданные никогда дайперсы и много чего еще, надо было освоить и запомнить за три дня, остававшихся до Наниного и Сашиного отлета. Мы справились, хотя приключений за эту неделю было много. Некоторые стали моими байками, как например, вот эта.
В синагогу с детьми, как и обещали Нане, мы поехали по маршруту, начерченному на листе бумаги, и доехали без проблем – было еще светло. Но на обратном пути, в темноте, я сбился с дороги, заехал в очень богатый район и, конечно, заблудился. Кто живет в Америке в пригородах, знает: чем богаче район, тем темнее там ночью. Могу смешно (это теперь смешно) рассказать, как я на машине метался от дома к дому, к любому силуэту, появившемуся на улице, с криками на полуанглийском-полурусском: «Стойте! Помогите!» И как силуэты эти сломя голову бежали от меня. Ну да ладно, неделя прошла в целом благополучно, сейчас о другом.
По возвращении из Перу Нана и Саша стали бебиситерствовать уже нас с Женей. На нас обрушился водопад подарков, музеев, шопингов, ресторанов плюс одна поездка, имеющая прямое отношение к этой истории: купленная Наной двухдневная автобусная экскурсия в Вашингтон c русскоязычным гидом. Несколько важных деталей – внимание! Билеты приобретены за наличные, на билетах не было наших имен, единственное место, где мы записали свои фамилии, мотель под Вашингтоном. Там группа переночевала.
Поездка была очень интересной. Мы посетили Белый дом, Арлингтонское кладбище и побродили по городу. Большинство группы составляли пенсионеры из Бруклина. И еще несколько визитеров из Союза. Гид, которого звали Юра – эрудированный, обаятельный, много и остроумно шутивший – записывал номера телефонов экскурсантов (мы свои не дали). Вечером следующего дня он высадил всех в Бруклине, где нас уже ждала Нана.
О своих впечатлениях об Америке я расскажу в другой раз, а сейчас перенесемся на самолете «ПанАм» из солнечного Манхеттена в хмурое Шереметьево, где первое, что мы увидели – пограничники с автоматами. Еще один перелет и, наконец, вдыхаем родной нефтяной воздух Баку, раздаем подарки, делимся впечатлениями и с ужасом наблюдаем, как не по дням, а по часам зреет Карабахский конфликт…
А я вхожу в шестое отделение милиции с двумя краснокожими паспортами в руке. Жалко, конечно, отдавать такие замечательно красивые книжечки с большими фотографиями и без «пятого пункта», но порядок есть порядок. Меня встретили непривычно тепло (похоже, у них не было стопроцентной уверенности, что увидят меня снова) и пригласили в кабинет к какому-то начальнику. Начальник встал из-за стола, пожал руку и сказал: «С возвращением!» Явно заваривалось что-то непонятное. После двух-трех вопросов о поездке начальник сказал без обиняков: «Вы не возражаете, товарищ Щирин, если прежде чем мы вернем паспорта, с вами побеседует товарищ из одной организации? В удобный для вас день и час. У него есть несколько вопросов, буквально на пару минут. Как насчет завтра здесь же в 5 часов вечера?» Я согласился, лихорадочно пытаясь вообразить, что меня завтра здесь ждет, ибо насчет того, из какой организации товарищ, у меня сомнений не было.
Наконец завтрашний вечер наступил. В шестом отделении меня встретили еще теплей, чем вчера, и проводили вниз в подвал. В подвале оказался очень мило обставленный кабинет с портретом Дзержинского на стене, письменным столом и двумя креслами. На столе лежали два наших паспорта. За столом сидел и тут же поднялся мне навстречу человек в штатском. Пожал руку, представился: «Майор КГБ …(вот уже фамилию я подзабыл, хотя помнил долго). Присаживайтесь, Григорий Владимирович». Все это доставляло мало радости, но я держался. Майор начал с вопроса, как живет сестра, потом – счастлива ли она с новым мужем, по-прежнему ли Саша работает в Bell Lab. Ну, просто родной и близкий человек. На все вопросы я отвечал положительно. Потом пошло: «А чем Саша сейчас занимается? Были ли вы у него на работе?» Да, я был, но тут уже решил стоять, как партизан – не был, не видел, не знаю. «Ну, да ладно, Григорий Владимирович, это не так важно,– сменил тему майор, – вы лучше расскажите про поездку в Вашингтон». Тут я собрал все силы, чтобы не сползти с кресла на пол. Как они знают? Откуда? И начался долгий разговор про экскурсию: кто там был, как звали экскурсовода, что он говорил, какие анекдоты рассказывал, куда привез ночевать и т.д. Если я еще понимал, почему их интересует Саша, физик, доктор наук, то смысл этих вопросов не укладывался у меня в голове. Я честно рассказал майору все, что слышал и видел во время экскурсии, не ведая в этом греха.
Разговор про гида и экскурсию продолжался минут двадцать. Потом майор поблагодарил, снова пожал мне руку и вручил наши старые паспорта. В момент передачи паспортов он как бы мимоходом спросил, не хочу ли я регулярно встречаться с ним. Я вежливо отказался и к своему оргазмическому облегчению оказался на улице. На улице шла очередная колонна демонстрантов, скандировавших «Карабах, Карабах!»
Про наш разговор с майором, как я ему обещал – полный молчок с моей стороны. Но когда мы ровно через год оказались в Америке насовсем, это была одна из первых историй, рассказанная в кругу друзей. На мои «как они знают?», «почему экскурсия?», «причем тут гид?» один из старых отказников сказал, что «знают они все, а это, скорее всего, процедура проверки, как работает их агент – по инструкции или нет?» Поговорили и забыли.
Через пару недель в одном из домов Нью-Джерси состоялся концерт Юрского. Мы с Наной поехали, получили море удовольствия. После концерта был небольшой прием, выпивка, закусочки, подъехали еще люди. И вдруг…в комнату входит наш гид с бутылкой. Тот самый, с прошлогодней Вашингтонской экскурсии. Половина присутствующих его явно знала и хлопала по плечам. Меня он, слава Богу, не узнал. Я бы его тоже давно позабыл, если бы не все вышеизложенное. Шепчу Нане на ухо: «Вот он, тот самый! Ты помнишь? Из Вашингтона». «Ну и что теперь делать? – спросила Нана, – кричать «вяжите его!». Успокойся и забудь». Успокоился, что поделаешь. Но не забыл.
Иначе не получилось бы этой истории.
Гражданин cтраны Советов
Мы все были в какой-то мере заражены советской идеологией. В нашей семье, которая состояла из дедушки, бабушки, папы, мамы, меня и Наны, в меньшей степени это коснулось бабушки, дедушки и Наны. Старшее поколение еще помнило жизнь «до того» и поэтому просто помалкивало. А Нана, наверное, потому, что росла при приподнятом «железном занавесе». В социальном плане, помимо школы и комсомола, меня в основном воспитывали родители. Не так, что внушали любовь к системе, скорее нажимали на мои обязанности будущего гражданина. «Воспитательная работа» усилилось, когда в 16 лет я получил паспорт со всеми положенными пунктами, включая пятый, и в дополнение к этому право голоса. Не знаю, как сейчас, а тогда участвовать в выборах так называемых «народных депутатов» можно было с шестнадцати лет.
Когда дело подошло к очередным выборам, мама стала мне напоминать о том, что участие в них мой гражданский долг, и чтобы я ни в коем случае не забыл в этот знаменательный день сходить и проголосовать. Я, конечно, обещал и, конечно же, забыл.
Было это, если не соврать, в марте. Домой пришел с очередной гулянки поздно. Но не очень – часов в 10 вечера. (Избирательные участки закрывались в 10 или в 11). В дверях стояла мама, смотревшая на меня, как на предателя родины. Протягивая мне повестку (тогда присылали повестки-приглашения на выборы) сказала с презрением в голосе: «Так ты начинаешь жизнь, как гражданин своей страны… Немедленно иди и проголосуй!» Я виновато потупился и помчался на избирательный участок. Благо – недалеко.
На участке было много красных знамен и плакатов, работники избирательной комиссии собирали на стол какую-то снедь, похоже, там были и бутылки. Они крайне удивились, увидев меня в столь поздний час. «Чего тебе?», – спросил один из них. «Да вот, много уроков было, только закончил. Пришел проголосовать», – протянул я свою повестку и паспорт. Работник полистал кокой-то толстенный список и сказал: «Все нормально, ты уже проголосовал» – «Нет, – пытался возразить я, – я должен…Мне нужно вернуться домой и сказать маме, что я выполнил свой гражданский долг!» Тут откуда-то из кумачевых занавесей вышел очень солидный и очень усатый дядя и произнес: «Иди, мальчик, домой и скажи маме, что ты проголосовал и все сделал правильно. Ты понял, мальчик? Иди, иди». Это было сказано столь настойчиво и убедительно, что я повернулся и пошел домой. За спиной снова послышалось звяканье посуды.
Дома меня ждала мама. Я сказал, что проголосовал и еще раз извинился, что забыл. «Вот видишь, – заметила мама, – теперь ты можешь считать себя полноправным гражданином».
Я что-то почувствовал в тот день, но понадобилось еще много лет, чтобы прочувствовать до конца и дозреть. После того случая больше голосовать не ходил, да и мама перестала спрашивать.
И когда в Америке я слышу дебаты по поводу того, нужно ли предъявлять удостоверение личности при голосовании, хорошо понимаю доводы тех, кто против.
Если бы Сталин любил КВН
Я в детстве раза два сидел за письменным столом Сталина. Мой папа был военным врачом, и к концу войны его прикомандировали к спецотряду, который, как папа мне рассказывал, готовили к десанту в Альпы. Их тренировали в грузинском местечке Бакуриани, вероятно, считая эту гористую местность близкой к будущей боевой обстановке в Италии. Десант не состоялся, война окончилась, папу демобилизовали, но несколько его друзей так и остались в Бакуриани. Причем одного из них перевели в МВД и назначили смотрителем сталинской дачи. До Сталина это была дача великого князя Константина. Папа, мама и я ездили туда отдыхать каждое лето, вплоть до смерти вождя, после чего папиного друга убрали с должности, и халява кончилась. Дача была роскошная, помню огромные винные подвалы, где папа с друзьями проводили много времени, а меня, чтоб не мешался, порой сажали рисовать за огромный письменный стол, на котором была бронзовая табличка: «За этим столом в 19…годах работал вождь и учитель…» Вот так-то.
Не знаю, почему, но я решил сделать именно такое вступление к рассказу об очень уважаемом человеке, сыгравшем большую роль в моей жизни, о ректоре нашего Азербайджанского института нефти и химии академике Исмаиле Алиевиче Ибрагимове. Назначение Исмаила Алиевича на должность ректора совпало с моими вступительными экзаменами туда же. На четвертом экзамене «физика (устный)» после «четверки» по русскому и двух «пятерок» по математике я схлопотал «тройку». Дома, естественно, был большой хай с заключениями типа: «Вот и пойдешь мусор убирать! Учиться надо, а не по девочкам бегать! Ясно, что института тебе не видать!» В слезах я ушел на улицу, и ноги сами привели меня в институт. Было уже темновато, вечерело. Я грустно и беспомощно стоял в коридоре второго этажа и вдруг увидел нашего нового ректора. Хорошо помню его почему-то стриженную под машинку голову. Я инстинктивно пошел за ним. Похоже, он не очень комфортно чувствовал себя, слыша сзади шаги в пустынном темном коридоре. У ближайшего окна он резко развернулся и, дождавшись, когда я подойду, спросил в лоб: «Вы что хотели, молодой человек?» Робея и сбиваясь, я поведал о своей трагедии. Ректор поинтересовался, на какую специальность я подаю и на какую оценку рассчитываю на следующем экзамене. Следующим экзаменом был иностранный язык, немецкий, и я сказал, что получу «пятерку». Ректор удивился: откуда такая уверенность. Я объяснил. Ректор спросил, как моя фамилия, и после небольшой паузы сказал: «Значит, так. Если получишь «пятерку», считай, что поступил». Вернувшись домой, я все рассказал, но, похоже, это никого не успокоило.
А «пятерку» я все-таки получил. И в институт я поступил. Исмаил Алиевич сдержал слово, как держал его всегда за все 25 лет моей учебы и работы под его началом.
Потом был КВН, который ректор очень любил. Любил настолько, что наша институтская команда имела выделенную комнату на втором этаже и даже свой номер телефона. Снимая трубку, говорили: «КВН АЗИНЕФТЕХИМ слушает!»
В финале чемпионата Баку наша команда играла с командой КВН СКБ «Нефтехимприбор». Очень талантливые ребята, в основном выпускники нашего института, старше, а потому и много опытнее нас. Игру мы проиграли, хотя и достойно. Назавтра всю команду вызвали к ректору. Я, как капитан команды, чувствовал себя особенно нервно. Вот, думал я, достанется на орехи. Нас пригласили в кабинет. Ректора в нем не было. Как в лучших традициях, Исмаил Алиевич появился незаметно, молча и неторопливо обошел всех нас, робко прижавшихся к стене, и сказал с классическими паузами следующее: «Вы знаете, зачем я вас пригласил? (пауза). Чтобы поблагодарить за прекрасную игру (пауза). Я очень рад (пауза), но особенно я рад, что победили не вы, а наши выпускники. Вы еще студенты, а они уже инженеры. И должно быть именно так (пауза), а не наоборот! Спасибо вам». Исмаил Алиевич не курил и не носил усы, а то было бы настолько похоже…Сделаю паузу и я.
И позже, когда мы выступали уже одной командой «Парни из Баку», он продолжал внимательно следить за нашими успехами. Ректор искренне любил КВН. В лучах этой любви пригрелся и я. И, возможно, поэтому получил после окончания института распределение на свою же кафедру на должность младшего научного сотрудника.
Дело было так. В то время, конец 60-х, страна играла в демократию, и выпускники могли сами выбирать место будущей работы. Его выбирали из списка, полученного из Министерства высшего образования, и выбор этот зависел от среднего балла выпускника. В нашей группе я был вторым после моего сокурсника Чупатова, круглого отличника. Каждый выпускник указывал три возможных варианта. Чупатов отметил только один: «кафедра, м.н.с.». Я поставил первым – «кафедра, м.н.с.», но, полагая, что мои шансы невелики, добавил второй – «СКБ Нефтехимприбор», а третий не помню.
Итак, процедура распределения. Зал ученого совета института, в зале представители заводов, фабрик, конструкторских бюро, профессора нашего института. Обсуждается каждый выпускник. Все движется без эксцессов, довольно монотонно и предрешенно. Но вот доходит дело до нашей группы. Секретарь совета объявляет: «Чупатов, средний балл – 5.0. Выбор – кафедра ИИВТ, м.н.с. Есть возражения? Нет возражений?» Вдруг тишину зала нарушает голос Исмаила Алиевича, абсолютного хозяина этого спектакля: «У меня нет возражений, но есть вопрос. Можно задать?» – «Конечно, Исмаил Алиевич, конечно!» После точно выдержанной паузы ректор продолжил: «Я хотел бы спросить, для кого мы готовим инженеров? (пауза). Я думаю, что мы готовим инженеров для страны, для наших заводов и фабрик (пауза). Мы не готовим их для себя (пауза). Может, я не прав? (пауза). Посмотрите на товарища Чупатова. Прекрасный инженер. Я горжусь им (пауза). И что? Мы берем его себе. Такую задачу возлагает на нас партия? (пауза. Гробовая тишина). Вот я хочу спросить представителя Череповецкого металлургического комбината: хотите вы такого инженера, как товарищ Чупатов? Так берите! А вы, товарищ Чупатов, хотите поехать в Череповец? Ах нет, ну вы все же запишите товарища Чупатова на этот завод, а мы с ним еще поговорим. Давайте дальше, уже поздно». Секретарь: «Щирин…». Ректор: «Мы знаем товарища Щирина, дальше». И все это без усов и трубки. Класс!
Так под мудрым руководством Исмаила Алиевича я прошел путь от м.н.с. до кандидата наук, заведующего сектором. Мы даже были вместе в списке соискателей Государственной премии Азербайджана. На мой вопрос: «Есть ли у нас шансы?» он ответил: «Трудно будет. Два еврея в списке. Но попробуем». Он действительно двигал наши бумаги, как мог – до самого финала. Но из двух оставшихся работ Комитет все же выбрал третью. Там, кстати, в длинном списке авторов был действительно только один еврей.
А последнюю подпись Исмаила Алиевича, за которую я ему особенно благодарен, я получил, оформляя документы на выезд в Израиль. Я знал, что он собирается на пенсию, и хотел получить его подпись под выездной характеристикой. Кто знает, кто займет его место. Когда я зашел в кабинет, он встал из-за стола, пожал мне руку и поинтересовался, как дела. Я молча протянул бумаги. Он посмотрел и спросил: «Ты подумал?» Я кивнул. «Ты хорошо подумал?» Я снова кивнул. Ректор сделал паузу, подписал, одобрительно пожал мне руку, но больше никогда не здоровался со мной, встречаясь в институтском коридоре. Но мне уже оставалось недолго по нему ходить.
В 2011 году спустя 22 года я приехал в Баку. Встретились с Назимом Абдуллаевым, вспомнили институтские годы. «А как Исмаил Алиевич? – робко спросил я. – По моим расчетам, ему уже должно быть лет 95» – «Жив-здоров, на даче, – ответил Назим, – хочешь, позвоню». И через минуту я услышал знакомый голос: «Слушаю вас» – «Здравствуйте, Исмаил Алиевич, – сбиваясь от волнения, произнес я, – это говорит Геня Щирин. Помните такого? Капитана команды КВН «Азинефтехим». После некоторой паузы Исмаил Алиевич сказал твердо: «Нет, не помню». И еще после небольшой паузы добавил: «Но вы приезжайте, у меня есть хороший коньяк». Мы с Назимом, конечно, решили не беспокоить старика. Я потом вспоминал этот разговор много раз, удивляясь жизненной силе этого человека и неизменному умению держать многозначительные паузы.
Интересно, отрастил ли Исмаил Алиевич на старости усы?
Король в Алма-Ате
Мне повезло: после окончания института я остался по распределению в том же институте младшим научным сотрудником на кафедре информационно–измерительной и вычислительной техники. Кафедра получила одну из первых в Баку вычислительных машин «Минск-22». Машина занимала огромный зал, хотя по своей вычислительной мощности она составляла, наверное, одну тысячную мощности мобильного телефона наших дней. Я входил в группу из 4 человек, чьей обязанностью было так называемое обслуживание машины. Тогда это казалось естественным, а сейчас почему-то напоминает уход за коровами в стойле: вытереть пыль, протереть спиртом соски, извините – головки магнитных накопителей, вытащить блоки, протереть спиртом контакты и вставить все обратно. Одна радость – спирта было много.
Я отвечал за устройства ввода-вывода. Месяца через два мне пришлось ехать в командировку, первую в жизни. Кафедра получила по разнарядке плоттер – устройство для вывода цветной графики из ЭВМ на бумагу. Но бандуру эту размером с обеденный стол не присылали просто так, а за ней надо было лететь. На завод-изготовитель в Алма-Ату. Требовалось присутствовать при тестировании, то есть убедиться, что она работает. Потом ее упаковывали и отправляли багажом. Естественно, я нервничал, но еще больше нервничала моя мама. Ее волновало не только и не столько то, что я лечу черт знает куда. Дело в том, что тогда, помимо КВНа, я очень увлекался картами, в частности, преферансом. Мама знала и не одобряла мои ночи в различных компаниях и часто повторяла, что до добра это не доведет.
За день до отлета мама попросила меня зайти и сказала примерно следующее: «Дай мне слово, что ты ни с кем в карты играть не будешь. Поверь, случится такая ситуация – сначала будешь выигрывать, а потом тебя обдерут, как липку. Такое бывало со многим, и я не хочу, чтобы это произошло с тобой». Я, конечно, обещал, но забыл этот разговор быстро.
Итак, лечу в Алма-Ату. Никогда там не был, никого не знаю. Смогу ли устроиться в гостиницу? В те времена интернета не было. Все по Дарвину. Прилетаю в Алма-Ату, строю из себя бывалого командировочного, сажусь в такси и говорю уверенным тоном: «В гостиницу «Алма-Ата». Легкий блеф – я понятия не имел, есть ли такая гостиница, но, как и проспект Ленина, должна была быть. Приехал, очень приличная гостиница оказалась. Охмурил администраторшу и получил номер, вернее – койку в четырехместном номере. Четыре кровати с тумбочками, стол посередине с четырьмя стульями. Умывальник и туалет. В номере чисто и никого нет. Было уже поздно, и я, счастливый и усталый, выбрав себе кровать, улегся спать.
Только я закрыл глаза, как в комнату ввалились трое здоровых розовощеких парней со свертками, полными снеди, с бутылками. «Как тебя зовут? Как-как, Хеня? Здорово, Хеня! Вставай, посиди с нами». Оказалось, что ребята – комбайнеры с целины. Приехали тоже что-то получать. Посидели, выпили-закусили. Еще поели, еще выпили. Отвалились от стола. И тут прозвучало: «Ну, чиво, Хеня, поиграем в картишки. Как раз четверо». Сквозь алкоголь выплыли мамины слова. «О-о-о, – подумал я, – начинается» – «Во что играть хотите?» – «Да в кинга. Давай по рублику». Тут мне стало страшно. При моей мэнээсовской зарплате 105 рублей «по рублику» могло ее и не хватить. «Не-е,– говорю,– я так не играю» – «Ну, давай по 20 копеек, Хеня!» Я стоял мертво, но отказаться играть по 5 копеек было уже совсем не по-джентльменски и обреченно согласился. Я понял, что, как говорится, «приехал», убедился, что мама, как всегда, права и мысленно попрощался с десятирублевкой в загашнике. Начали играть.
Ребята были, как говорили в Баку, «без малейшего понятия», и я после первой игры вышел победителем. Но от этого мне стало еще страшнее. После второй игры – история повторилась, и стало по-настоящему страшно. Мамины наставления крепко сидели в моей голове, и я с ужасом ждал, когда же меня начнут обдирать. Но этого не произошло. В конце концов я твердо убедился, что умения у ребят много меньше, чем денег, и радостно вздохнул, когда осоловевшие комбайнеры предложили закончить игру и лечь спать. Выиграл я примерно рублей 16 и, засыпая, все подсчитывал – сколько бы получилось, если «по рублику». Думаю, что ребятишек этих проигрыш и в 320 рублей не сильно бы огорчил. Они называли какие-то сумасшедшие зарплаты. Утром мы расстались и больше не виделись никогда. А жалко. Я бы еще поиграл…
Однажды здесь, в Америке, за покером я попытался рассказать двум американцам эту историю как пример чувства страха перед неизбежно надвигающимся роком. Но их заинтересовало другое: почему я спал в четырехместном номере с незнакомыми мужиками. Что это был – гей-отель? Похоже, мой ответ их не убедил.
Прощание со «славянкой»
Надо все же собраться с духом и отдать ну хотя бы половину или просто взять и выбросить. Постараться как-то преодолеть себя.
Все. Выделяю целый день на чистку книжных шкафов и полок. Ставим два ящика: один – «в мусор», другой – «отдать» и начинаем поход по полкам. Тонна словарей. Тут и англо-русский политехнический, и немецко-русский политехнический, и англо-русский по вычислительной технике (1974!), и русско-еврейский (на обложке в скобках эдакое извинительное – идиш), четыре тома Даля…Чего только мы не привезли в эмиграцию. Решено: все техническое – в мусор.
А вот какой красавец – роскошный «Историко-этимологический словарь современного русского языка», 2001 год. Как же он ко мне попал уже здесь, в Америке? Не помню. Оставляем, хотя не понимаю, зачем.

