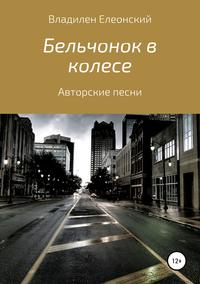Полная версия
Кто жизни не знает
Встреча с Грыжуком радости не принесла, он по-прежнему был в своем репертуаре, мне даже показалось, что сегодня он был еще злее, чем вчера. Капитан беспощадно ругал всех за лень и неумение ничего делать. Доставалось всем, кроме Старикова и меня.
– Вы хоть раз палатки в своей жизни ставили? Откуда вы на белый свет появились? Эх, чувствую, что мне самому все придется делать!
Со Стариковым Грыжук добродушно балагурил, а на меня смотрел, как ребенка, которого лучше не трогать. В общем, тяжел был в общении капитан Грыжук. Когда незадолго до обеда брезентовый полог был, наконец, натянут, наш мучитель вдруг смягчился и неожиданно похвалил меня.
– Так, всем смотреть, как надо ямы копать! Глубина четко соблюдена, отверстие не слишком большое, поэтому столб будет стоять как влитой. Молодец, Тобольцев! После обеда отдыхай, тебе вечером в наряд заступать, понял? А то опять что-нибудь напутаешь, профессор!
Все-таки напоследок ужалил! С большим облегчением уходил я из-под его опеки.
Так окончилось мое первое знакомство с капитаном Грыжуком. Ничего, кроме досады, оно у меня не вызвало. Понятное дело, что многие из нас жизни не знают, приехали из городских квартир, и кроме телевизора, двора, и сада с огородом у дедушки с бабушкой ничего не видели. Кто в этом виноват? Вместо того, чтобы поощрить за то, что мы не испугались, не пошли легким путем, решили хоть что-то в жизни испытать, Грыжук сурово клюет за неприспособленность. А где, интересно, мы могли приобрести эту самую приспособленность? Такое отношение не только поражало, оно возмущало, и я испытывал к нему нечто, очень похожее на настоящую ненависть.
Он, как видно, хочет, чтобы мы стали еще более неуверенными и замкнулись в себе. Что-то очень недоброе, я даже сказал бы бандитское, привиделось мне в его манере поведения. Тогда я еще не в полной мере понимал, что столкнулся всего лишь с первым моим звоночком в познании некоторых пикантных нюансов советской общественной жизни, поскольку все еще надеялся, что такие типажи, как Грыжук, – исключение, а не правило.
В наряд по столовой я заступил впервые, до сих пор помню то изнеможение, которое осталось после него. Сонные, поскольку ночью чистили картошку на почти шестьсот человек, мы не успевали вымыть все тарелки для второй смены. Их катастрофически не хватало (неужели кто-то экономил на этой грубой алюминиевой посуде?), и нас подгоняли все, кому не лень, – сержанты, офицеры, в том числе заезжие дяди с большими звездами на погонах, и даже преподаватели. Некоторые пытались шутить, однако в целом весь этот ажиотаж и суета производили гнетущее впечатление.
Никаких положительных эмоций, за исключением того, что мы наелись до отвала пшенки с мясом, наряд не доставил, а на следующий день вечером, когда мы освободились от дежурства, меня ожидал сюрприз, – мои наручные часы исчезли из тумбочки. Носовой платок лежал на месте, а часов в нем не оказалось.
Я отлично помнил, как завернул часы в платок и засунул сверток в дальний угол тумбочки. В нашей группе только я прошел «по эксперименту», досрочно сдав вступительные экзамены, поэтому, когда все ушли на очередной экзамен, я остался в комнате один, засунул часы в тумбочку, после чего двинулся на хозяйственные работы к Грыжуку.
О том, что мои наручные часы находятся в тумбочке, я никому не говорил. Окна нашей комнаты, как я упоминал, выходили на лужайку, за которой рос редкий березняк, а за ним проходила граница лагеря. Может быть, оттуда к нам пробрался какой-нибудь местный житель или бродяга?
Я терялся в догадках. Неужели к нам в комнату, в самом деле, влез кто-то посторонний? Поверить в это было сложно. Днем вряд ли кто решился бы сюда залезть, – кругом снуют люди, а казарму убирают дневальные, к тому же один из них постоянно торчит в коридоре возле тумбочки.
Выходит, что кто-то забрался ночью, однако в это также было непросто поверить. Все окна нашей комнаты запирались на ночь на шпингалеты, и вообще, откуда, интересно, посторонний мог узнать, что у меня в тумбочке спрятаны часы!
Только если что-нибудь еще у кого-нибудь из жильцов нашей комнаты пропало, или если в других тумбочках не было ничего ценного, вот тогда, наверное, можно было предположить, что неизвестный забрался к нам наобум, а не по наводке. Он решил чем-нибудь поживиться и не знал, что в моей тумбочке лежат часы, просто случайно наткнулся на них.
После мучительных терзаний я отправился к нашему старшему офицеру, капитану Анатолию Михайловичу Рыкову, обаятельному спортивному крепышу с походкой кавалериста и лицом человека, который многое видел и теперь ничему не удивляется.
Я заявил ему о пропаже. Его выпуклые, как у рака, глаза буквально застыли на моем лице.
– Первый раз такое. Никогда ничего ни у кого не пропадало. Еще кому-нибудь говорил?
– Нет.
– Правильно сделал. Пока никому не говори, я сам наведу справки.
Вечером он пригласил меня к себе в комнату и показал характерный светло-коричневый ремешок от наручных часов. Я изумленно вскинул брови и привстал. Сомнений быть не могло!
– Где вы его нашли?
– Твой?
– Мой!
– Мы прошли с замполитом по комнатам, проверили тумбочки и койки. Этот ремешок мы обнаружили под матрасом Пчелинцева.
Пчелинцев!.. Недобрые мысли тревожно загудели в моей голове. Валера Пчелинцев был долговязым юношей под метр девяносто ростом с повадками десятилетнего мальчугана, непрестанно давившего перед зеркалом прыщи на своем большом как картофелина носу. Его словарный запас, как у Эллочки Людоедки из бессмертного произведения Ильфа и Петрова, кажется, в самом деле, ограничивался тридцатью словами.
«Э-э», «слышь», «блин», «хавло», «глянь», «это», «курить есть?», «дай глянуть», «ага», «короче», «прикольно», «схавал», «прикинь», – вот практически и все, что можно было от него услышать. Когда он написал сочинение на «хорошо», ребята были просто шокированы, и поползли слухи, что у него имеется волосатая лапа, хотя он не уставал заверять всех, что написал сочинение самостоятельно и бубнил в курилке одно и то же:
– Э-э, прикинь, повезло, блин, тема попала, я, слышь, это, ее готовил, знал, короче.
Его мама, видная и чрезвычайно настырная женщина с эффектной густой гривой каштановых волос, могла своей впечатляющей грудью пробить, кажется, любую стену. Она постоянно приезжала в лагерь на такси, крепко переживала, что ее ребенок ходит вечно голодный, требовала от начальства, чтобы в столовой ему выдавали двойную порцию, и без устали привозила какие-то умопомрачительные продуктовые наборы в посылках размером с чемодан. В них завлекательно пахла дефицитная по тем временам колбаса, и щекотал нос запах других замечательных вкусностей.
Пчелинцев всегда старался скрыть факт очередного приезда матери. Если такой фокус удавался, то по ночам он тайком пожирал мамины продукты под одеялом при свете фонарика, устраивал себе, так сказать, праздник желудка, а чтобы днем тоже не голодать, прятал кое-какой запас во внутренний карман спортивных штанов, расположенный на животе. Этот кармашек его неизменно выдавал, – все знали, если Пчелинцев что-то достает из него и жует, то, значит, накануне пришла посылка. Тогда начиналась оживленная игра. Его пытались раскрутить на продукты, а он делал честные глаза, уверяя, что никакой посылки не приходило.
– Э, парни, слышь, хавла нет, у старшины, короче, спросите, ага, не было посылки!
В связи с этим наши острословы мгновенно прозвали его Скиппи по кличке кенгуру – главного героя известного австралийского телесериала, который с успехом транслировался по советским телеэкранам как раз в тот год. Кстати, внешне Валера Пчелинцев тоже крепко походил на огромного кенгуру. Ноги и ступни у него были просто огромные, а торс и плечи – гораздо более скромные по своим размерам, чем бедра и голени.
Вроде бы добродушный внешне парень своей примитивностью и животными повадками лично меня крепко раздражал. Несмотря на то, что нашелся лишь ремешок, а не сами часы, было несложно представить, куда Пчелинцев их дел. Скорее всего, снял с ремешка и засунул в упомянутый потайной карман штанов, похожий на сумку кенгуру. Правда, его непомерная алчность, кажется, проявлялась лишь в еде, однако она вполне могла распространиться на ценные вещи. Тем более, что совсем недавно именно он интересовался моими часами.
– Э, Тобольцев, слышь, прикинь, твои? Дай глянуть, ага…
У него самого на руке красовались довольно дорогие по тем временам позолоченные часы «Полет», однако его, как видно, как сороку, привлекало все блестящее, и мои часы он рассматривал как абориген с далекого тихоокеанского острова, впервые в жизни увидевший стеклянные бусы. Он вполне мог взять без спроса мои часы, теперь я в этом почти не сомневался!
Глава пятая
– Чего задумался, Тобольцев? – сказал Рыков, оторвав меня от моих невеселых мыслей. – Подозреваешь его?
– Да.
– Погоди, не спеши.
– Почему?! Пока не поздно, следует с ним разобраться!
– Да подожди ты, не горячись! Сам подумай, зачем ему понадобилось прятать ремешок от украденных часов под свой матрас?
– Мало ли зачем! Он снял часы с ремешка, часы спрятал, а ремешок не успел, в этот момент кто-то зашел в комнату, и он в спешке сунул его под матрас, чтобы потом выбросить.
– Маловероятно.
– А вы как думаете, товарищ капитан?
– Тот, кто украл твои часы, снял их с ремешка и подсунул под первый попавший под руку матрас, им оказался матрас Пчелинцева.
– Чтобы отвести от себя подозрения и навлечь их на Пчелинцева?
– Именно.
– Я не пойму, если это был посторонний, как он проник в комнату? У нас на ночь все окна запираются на тугие шпингалеты, а в коридоре у входа постоянно находится дневальный.
– Дневальными дежурили Чернов, Голиков, Сивков и Пчелинцев.
– Пчелинцев!..
– Да, опять Пчелинцев. Вроде бы все сходится на нем, однако все-таки прошу тебя, Валера, пока не предпринимай никаких действий, хорошо? У него очень скандальная мама, и если мы ошибемся, дело непременно дойдет до начальника школы, тогда плохо будет всем. Желательно все выяснить наверняка. Потерпи, я обязательно во всем разберусь!
Прошла неделя, закончились вступительные экзамены, на общем построении офицеры зачитали список поступивших, нас разбили повзводно, и начались наши суровые будни в рамках курса молодого бойца. Теперь мы, одетые не в спортивные костюмы и кроссовки, а в милицейские брюки-галифе или, как их некоторые называли, бриджи, а также сапоги и рубашки без погон, но с галстуками, должны были утром подняться по команде «Подъем» и за сорок пять секунд, одевшись, покинуть комнату. Тесной гурьбой мы, сломя голову, бежали на плац на утреннее построение, – это непередаваемое состояние, сопровождаемое оглушительным грохотом сапог в узком коридоре казармы, я вспоминаю до сих пор, в нем чудилось дыхание начала войны, – жуткое и в то же время притягательное и романтичное.
Теперь жизнь в лагере проходила намного более динамично, – подъем в семь утра, утреннее построение с утренней поверкой, трехкилометровый кросс в сапогах с обнаженным торсом, завтрак, учебные занятия, обед, снова учебные занятия или хозяйственные работы, ужин, два часа свободного времени, вечернее построение, вечерняя поверка и отбой в двадцать три часа. Тяжело было первую неделю, а затем все стало казаться естественным и привычным.
Я, например, очень скоро стал просыпаться за минуту до команды «Подъем» и, когда она звучала, мгновенно срывался с постели и натягивал бриджи. Это было первым действием. Портянки обматывались вокруг сапог, чтобы успели просохнуть на ночь. Так было положено делать по уставу, кто забывал или ленился, получал наряд вне очереди.
Я, как и все, срывал портянку с сапога, расстилал на полу, ставил на угол ступню, обматывал ногу двумя быстрыми движениями и совал в сапог, затем вторую, раз, два, и ты в брюках и обут, а прошло секунд тридцать, не больше. Дальше хватаешь форменную рубашку без погон со стула, галстук к ней приколот с вечера, и бегом из комнаты. Рубашку натягиваешь, пуговицы застегиваешь, и галстук прилаживаешь уже на ходу. Вот и вся премудрость.
На учебных занятиях мы изучали воинские уставы, военную тактику, огневую и строевую подготовку, и, кроме этого, ежедневно проводились политинформации, на которых освещались важные события в стране и за рубежом. Все это называлось боевой и политической подготовкой. Наряды, естественно, продолжались, однако теперь они казались почти раем, от восьмисот человек осталось двести тридцать, их обслуживать стало гораздо легче.
Викторов, как и я, по случайному совпадению тоже оказался в восьмом взводе или учебной группе, как у нас официально именовались взвода. Восьмая группа стала нашей на четыре года, а Кошелев попал в седьмую группу. Кроме Викторова я успел сблизиться с Сашей Ти, симпатичным брюнетом-крепышом, который практически всегда улыбался, но иногда был задумчив и грустен, особенно когда получал письма из дома, и мы как-то сразу оказались с ним на одной волне.
Папа у него был кореец, а мама русская, наши фамилии шли по алфавиту одна за другой, и потом, на старших курсах ребята из других групп со смехом рассказывали, что долгое время считали, что в нашей группе учится слушатель со смешной фамилией Титобольцев. Причина этого забавного недоразумения состояла в том, что старшина наш зачитывал список в журнале скороговоркой, поэтому вместо «Ти, Тобольцев» ребятам, стоявшим в строю в других группах, и не слышавших наши с Сашей ответы «Я!», слышалось: «Титобольцев!»
Дни шли своим чередом, по поводу часов Рыков молчал, а я ничего не спрашивал. С каждым днем надежда найти их таяла все больше, а в одну из ночей нашу группу подняли по тревоге, причем подгоняли так, словно, в самом деле, началась война. Ничего не понимая, мы, сонно хлопая ресницами, выстроились на плацу.
Казалось странным, что командир нашей группы Владимир Касатонов, приятный молодой человек с обаятельным животиком, отслуживший в погранвойсках, тоже стоявший на плацу, теперь исполнял роль статиста. Всем заправлял сержант Михаил Стрижевитов, сухопарый крепкий парень с носом и взглядом хищной птицы, который никакую должность в группе не занимал. Поговаривали, что он – помощник начальника школы по вооружению, заведует тиром и складом оружия Шатской школы милиции и поступил по блату. Не прошло и двух недель нашего впечатляющего курса молодого бойца, как кто-то метко окрестил Стрижевитова фюрером, – он, в самом деле, имел оловянный взгляд и косую челку, а то, что он вытворял, не показывали в советских фильмах.
Точно не знаю, из каких соображений, скорее всего, это была установка заместителя начальника школы по строевой подготовке полковника Леднева, сержанту Стрижевитову, как и другим слушателям, отслужившим в армии, был дан карт-бланш. Они должны были показать нам, карасям и салагам, что такое настоящая армия!
Курс наш делился на два дивизиона по четыре учебной группы в каждом. Капитан Анатолий Рыков и замполит Владимир Ковалев были нашими офицерами, все группы курса имели сквозную нумерацию, наша группа, как я говорил, была восьмая, и нам очень не повезло, что в нее включили Стрижевитова. Он деловито прокашлялся и хмуро посмотрел на нашу «коробку», так называлось построение учебной группой в количестве двадцати девяти человек в колонну по четыре.
К этой памятной ночи хождение строем стало для нас достаточно привычным делом, как и бег. Утром мы бегали кросс исключительно строем, а вечером после вечерней поверки все группы проходили торжественным маршем перед трибуной, за которой стояли начальник курса и курсовые офицеры – командиры обоих дивизионов и замполиты.
Каждая группа должна была иметь своего запевалу и строевую песню. По предложению неуемного Викторова наша группа выбрала для себя задорный текст «Зеленою весной». Наши офицеры, посмеявшись, песню утвердили, однако случился маленький скандал, когда начальник курса услышал ее в нашем исполнении при прохождении торжественным маршем по плацу перед трибуной.
Полковника смутили такие слова:
Маруся молчит и слезы льет,
От грусти болит душа ее,
Кап-кап-кап, из ясных глаз Маруси
Капают слезы на копье…
– Что за текст такой, не слишком ли фривольно, что за Марусины слезы? – недовольно сказал он.
Ему начали объяснять, что это музыкальное произведение из известного фильма Леонида Гайдая, и что оно отлично подходит на роль строевой песни, в фильме, кстати, ее поют марширующие опричники царя Ивана Грозного. В конце концов, здравый смысл возобладал, и он разрешил нам петь эту песню. Так мы ее и пели, с каждым годом все реже и реже, а на четвертом курсе и вовсе забыли.
А сейчас с трудом разлепляя глаза, сонные, мы стояли на плацу, стрелки на часах у казармы показывали два часа ночи, а сержант Стрижевитов, похлопывая ивовым прутиком по голенищу сапога, прохаживался перед нашей «коробкой» и насмешливо смотрел нам в лица своими холодными голубыми глазами. Его взгляд казался стальным, и мало, кто мог его выдержать, даже Викторов отвел глаза, безуспешно попытавшись сыграть с сержантом «в гляделки».
– Сегодня вы на себе узнаете главный армейский принцип, согласно которому нарушение приказа одним бойцом – головная боль для всех. Викторов, выйти из строя!
– А кто он такой, чтобы командовать? – взвившись, сказал Андрей. – У нас командир взвода – Володя Касатонов!
– Викторов! – строго сказал Касатонов. – С моего ведома взводом командует сержант Стрижевитов. Если я позволю, то ты тоже сможешь командовать, ничего противозаконного нет, устав позволяет.
– Так бы сразу и сказали, чего голову морочите, – пожав плечами, сказал Викторов и болтающейся походкой, словно мим ярмарочного балагана перед публикой, отделился от строя.
Стрижевитов коротко окатил его недовольным взглядом, а затем вновь уставился на нас.
– После отбоя всем положено спать. Викторов бодрствует, разговаривает, мешает спать другим. Курить в казарме запрещено, кругом старая сухая древесина, вы все можете сгореть, однако Викторов курит в нарушение всех запретов.
– Я окно открываю, и окурки тщательно гашу!
– Викторов, – снова строго сказал Касатонов, – за пререкания со старшим по званию наряд вне очереди!
– Я все равно буду курить.
– Два наряда! Что следует ответить согласно уставу?
– Есть два наряда, только я все равно буду…
– Три наряда!
– Есть три наряда, только я все равно…
– Вот так из-за одного бойца страдает весь взвод, – с неожиданным сочувствием к нам в голосе перебил его Стрижевитов. – В колонну по одному к уборной марш!
Мы перестроились в колонну по одному, подбежали к нашему туалету, и по приказу Стрижевитова стали группами в несколько человек забегать в нужник, после чего возвращались в строй. Такого опыта у нас еще не было. Справлять нужду по команде и в колонне по одному…
Глава шестая
После этого наша «коробка» побежала в чистое поле. Касатонов и Стрижевитов бежали сбоку, подгоняя отстающих. Никто ничего не мог понять. Куда бежим, зачем?
Кросс длился, наверное, полчаса, и некоторые стали выбиваться из сил. Стрижевитов, наконец, остановил нас, снова вызвал из строя Викторова и подал ему окурок.
– Сегодня вам повезло. В армии для того, чтобы похоронить запретный окурок, вам бы пришлось рыть яму два, два на полтора. Сегодня я добрый, так что Викторов просто закопает окурок сам. Рядовой милиции Викторов, берите палку и закапывайте окурок!
– Я не буду! Издеваетесь, товарищ сержант?
Воцарилась тягостная пауза. Стрижевитов насмешливо ел Викторова своим неподражаемым оловянным взглядом.
– Что ж, подождем, пока Викторов соизволит.
– Андрей, да хватит тебе выкаблучиваться, – раздался из глубины строя чей-то возмущенный голос. – Спать хочется!
Викторов вырвал окурок из руки Стрижевитова и раздраженно затоптал его в землю.
– Все?
– Встаньте в строй!
– Есть, товарищ сержант! – язвительно сказал Андрей.
– Теперь вы поняли, что такое система? – похлопывая прутиком по голенищу, невозмутимо сказал Стрижевитов. – Может каждый из вас по отдельности ее сломать? Вы можете возмущаться, ругаться, не выполнять приказы, грубить командиру, однако ни к чему хорошему это не приведет, будет только хуже. Вывод?
– Товарищ сержант, – взмолился хор голосов, – все понятно!
Обратно мы не бежали, а летели как на крыльях, однако, те, кто думал, что на этом все закончилось, крупно ошибался. Когда мы снова оказались на плацу, Стрижевитов скомандовал «Отбой!», мы кинулись в казарму, на ходу стягивая с себя рубашки, но сержанту не понравилось, как мы легли в койки.
– Медленно, очень медленно, а портянки и бриджи валяются, где попало. Подъем!
Мы с недовольным бурчанием нехотя стали подниматься и одеваться.
– Разговорчики!.. Отбой…
Мы со стоном снова повалились в койки.
– Медленно, и слишком много разговоров. Сделаете, как положено по уставу, – будете спать. Подъем, строиться в коридоре!
Стиснув зубы от ненависти, мы соскочили с коек и, одеваясь на ходу, выстроились в коридоре. Стрижевитов вынул спичку из коробка.
– Пока горит спичка, время есть. Спичка погасла, время закончилось. Чиркаю спичкой, время отбоя пошло!
Он помедлил секунду, как будто испытывая наше терпение, и, наконец, чиркнул спичкой. Мы, сбрасывая с себя галстуки и рубашки, бросились в комнату к нашим двухъярусным койкам, однако двое не успели вовремя раздеться и лечь под одеяло, кроме того, у многих форма была уложена неаккуратно, а портянки были криво обмотаны вокруг голенищ для просушки.
Видимо, нет смысла описывать, сколько все это продолжалось, а продолжалось это до тех пор, пока Стрижевитов не добился своего, – мы стали проводить подъем и отбой образцово, и все, как один, лежали под одеялами, когда гасла спичка.
– Направо! – скомандовал Стрижевитов.
Мы не поняли.
– Снова хотите подъем?
– Мы же лежим, а не стоим, – простонал Викторов.
– Отставить разговоры! По команде «Направо!» все поворачиваемся на правый бок. Напра-во!
Пришлось, скрипя зубами, подчиниться. Мы послушно повернулись в постели на правый бок. Стрижевитов нас всех просто бесил! Помимо этого, он явно упивался властью, и от этого на душе становилось еще хуже.
Когда сержант выключил свет и вышел из комнаты, тихонько притворив за собой дверь, Викторов попытался обсудить происшедшее.
– Вот гад!.. Что творит, а вы чего, парни? Нельзя поддаваться!..
Дверь резко распахнулась.
– Подъем!
Стрижевитов подслушивал!.. Все повторилось сначала, – подъем за сорок пять секунд, построение в коридоре и отбой. Мы все стали плохо соображать, что происходит, и делали все машинально, на автомате.
В конце концов, истязание закончилось. Сержант погасил свет, вышел из комнаты и плотно притворил за собой дверь.
– Я знаю, кто на меня настучал, – опять подал голос Викторов. – Ох, плохо ему будет!..
– Да хватит тебе, Филин, выеживаться! Все равно ты никому ничего не докажешь. Спи!
Филином Викторова прозвали практически сразу после поступления за его впечатляющие густые брови вразлет. Они выглядели довольно забавно, в особенности, когда он, изображая деланное изумление, хлопал своими длинными, как у девушки, пушистыми ресницами.
Ноги гудели после продолжительной пробежки, тело ныло так, словно его избили. Мысли бестолково вертелись в голове и неловко натыкались друг на друга, словно усталые овцы в тесном загоне. Я почти мгновенно уснул, как будто провалился в глубокий черный колодец, даже не предполагая, что это ночное происшествие станет ключом к разгадке тайны пропажи моих часов.
Утром следующего дня до построения на завтрак Касатонов приказал Викторову забить гвоздями угловое окно нашей комнаты, которое Андрей открывал по ночам, чтобы курить. Именно это окно было плохо видно из сержантской комнаты и комнаты офицеров, До этого Андрей успешно использовал это обстоятельство, а теперь его лишали привычного удовольствия.
Бормоча ругательства, он взял в руки внушительный гвоздь и молоток. Меня вдруг осенило.
– Погоди, Андрей, – сказал я.
– Чего ты?
Я открыл створку и внимательно осмотрел нижнюю часть оконной коробки между рамами. Она была чистой. Тогда я высунулся из окна и попытался осмотреть его снаружи. Почти две недели дождей практически не было, и железный слив был слегка покрыт пылью, которую теплый июльский ветер принес с лужайки.
Вдруг в углу я заметил небольшой плоский твердый кусок луговой грязи, на котором остались характерные следы, они засохли и четко прорисовывались. У меня мурашки побежали по спине. Кажется, все-таки кто-то залазил в наше окно. Кто это мог быть, – Викторов со своим неуемным стремлением к свободе или…
– Строиться на завтрак! – донесся грозный бас старшины из коридора.
– Андрей, скажи, давно ты здесь лазил?
– А тебе зачем?