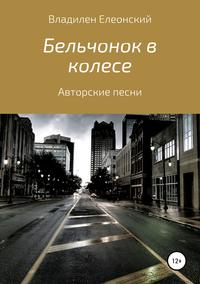Полная версия
Кто жизни не знает
Короче говоря, я прошел по эксперименту, так в тот период, когда еще не было нынешнего пресловутого ЕГЭ, называлось зачисление в высшее учебное заведение абитуриента, набравшего хотя бы девять баллов после сдачи первых двух экзаменов. Если он набирал необходимые баллы, то от остальных двух экзаменов освобождался. Я написал сочинение на «хорошо», историю сдал на «отлично» и набрал заветные баллы.
Все шло прекрасно, пока я не повстречался с капитаном милиции Романом Викторовичем Грыжуком, преподавателем боевого самбо. Он стал моим злым ангелом, и до сих пор тот случай я вспоминаю с досадой, смешанной с сожалением, однако все следует рассказать по порядку.
Слова ветерана не выходили у меня из головы. Несмотря на свою очевидную тягу к анализу и юношеские амбиции, в глубине души я был с ним полностью согласен и прекрасно понимал, что сыщицкой сметки у меня маловато. Может быть, именно мое подсознательное горячее желание проявить себя в раскрытии жизненно важных тайн притянули ко мне последующие загадочные происшествия, описание которых, собственно говоря, составляет сердцевину этого повествования.
Нас поселили в деревянные летние казармы, все обязаны были ходить в спортивных костюмах, кедах или кроссовках, и потекли абитуриентские дни по армейскому распорядку с общими передвижениями только строем. Этот порядок стал моим родным на долгие три с лишним года. В самом деле долгими они мне показались, и лишь на четвертом курсе армейский режим соблюдался с заметными послаблениями.
Подъем в семь утра, отбой – в одиннадцать. Утром после подъема и пробежки строем в колонну по четыре – обязательное построение. Вечером перед отбоем – еще одно обязательное построение, так называемая вечерняя поверка, во время которой обаятельный, плотный и огромный, как морж, белобрысый старшина Звагинцев зачитывал по списку фамилии, и тому, чья фамилия объявлялась, следовало громко и внятно ответить: «Я!»
Иногда кто-то по каким-то делам не мог присутствовать на построении и заранее просил соседа, чтобы тот ответил за него. Некоторые по неопытности соглашались, и поначалу, когда старшина еще только знакомился с нами, такой трюк проскакивал, однако, в конце концов, ничего хорошего из этого не получалось. Тот, кто отсутствовал, получал наряд вне очереди, а тот, кто его прикрыл, – два наряда.
С первого дня меня шокировало то обстоятельство, что теперь мы ходили в общую уборную, – довольно большое здание в ста метрах от казармы. Там не было ни индивидуальных кабинок, ни перегородок, и, садясь на корточки на возвышении на одно из очков, а их там было семь или восемь, ты справлял нужду как на сцене. Любой, кто входил, а чаще вбегал, лицезрел действо во всей его красе, поэтому я старался заходить в этот Дворец отправления нужд, когда там никого не было, однако, едва только заходил и присаживался, как назло, обязательно находился кто-нибудь, кому срочно приспичило, и он вбегал рысью в самый интересный момент.
Кто-то садился на корточки с газетой и делал вид, что читает, прикрываясь ею, как ширмой. У меня газет не было, и первое время каждый поход по большой нужде доставлял, скажем так, досадные неудобства. Короче говоря, любой юноша, стремящийся поступать в военное или военизированное учебное заведение, должен, прежде всего, решить для себя вопрос, – готов ли он спокойно справлять нужду на глазах у своих товарищей.
Среди нас особняком держались сержанты, так я буду их называть, хотя в тот период мы все были абитуриентами. Тем не менее, с самого первого дня они выделялись выправкой, взрослостью, уверенным поведением и возрастом, все были старше нас, выпускников десятилетки. Помню, что самому старшему из них исполнилось двадцать семь лет, и с чьей-то легкой руки его почти сразу стали звать Дедом, а он не обижался.
Сержантами я их зову, потому что с самого начала наших абитуриентских дней мы их так называли. Они все отслужили в армии, а многие к тому же успели поработать в милиции, и все поголовно, в самом деле, имели воинское или милицейское звание «сержант». Кто-то из них выглядел забавно, мог пошутить, но большинство смотрелись грозно и казались неприступными.
Практически все они за редким исключением успешно сдали экзамены, поступили на первый курс и заняли должности старшин, командиров взводов и их заместителей. Вот почему с самого первого дня они общались исключительно друг с другом, а на нас смотрели свысока. В отличие от нас они были достаточно осведомлены о своих перспективах. Школы милиции советской страны остро нуждались в тех, кто успел отслужить в армии и милиции, но таких явно не хватало, поэтому правительство разрешило Шатской школе милиции в порядке исключения набирать выпускников общеобразовательных школ, не служивших в армии. Сейчас это является обычной практикой для учебных заведений министерства внутренних дел, а тогда подобные послабления преподносились как эксперимент, и никто не знал, как долго он продлится.
В нашу сторону некоторые сержанты смотрели едва ли не с презрением.
– Салаги, караси! Жизни не знают. Меланхолики…
Все без исключения абитуриенты ходили в наряды – дневальными, в столовую и в караул. Выпускники десятилетки шли в качестве рядовых, а те, кто отслужил в армии, – старшими, то есть дежурным по столовой, начальником караула или начальником дневальной смены. Дневальные мыли просторные комнаты с двухъярусными койками, на которых мы спали, поливали водой из шланга упомянутую выше уборную и попеременно, по четыре часа, стояли у входа в казарму возле тумбочки, где хранился журнал со списком поступающих.
В столовой дежурные накрывали длинные столы, за каждым из которых помещалось десять человек, чистили по ночам картошку и мыли посуду, а мыть и чистить приходилось много. Тем, кому довелось сходить в наряд в столовую в те дни, очень не повезло, – мытье алюминиевых тарелок в огромной ванной казалось бесконечным процессом, им приходилось делать это шесть раз в сутки, поскольку посуды не хватало, и пока не отсеялись люди на экзаменах, лагерь обедал в две и даже три смены. Я видел этих ребят, – от горчицы, которую повариха щедро сыпала в ванную с грязной посудой, их руки были ярко-бордовыми.
В карауле лагерь охранялся по всему его периметру, мы исполняли роль часовых, только ни боевого, ни учебного оружия нам как абитуриентам естественно не выдавалось. Самым неприятным было недосыпание, ночью в нарядах мы спали всего четыре часа, не больше, а днем редко удавалось подремать, офицеры и сержанты постоянно озадачивали какими-нибудь поручениями, лишь в столовой можно было урвать для сна чуть больше – часов шесть.
В общем, никаких солдат внутренних войск или вольнонаемных, которые бы нас обслуживали, не было и в помине ни в лагере, ни на наших зимних квартирах в Шатске. Некоторые, узнав о том, что придется все драить самим, крепко напряглись и уехали после сочинения, отказавшись сдавать остальные экзамены, но таких было немного.
Конкурс оставался большим, и медицинская комиссия почти не уменьшила его, ее мы прошли, едва прибыв в лагерь, – на двести свободных мест по-прежнему претендовало восемьсот с лишним человек. Соответственно проходной балл оказался довольно высоким для учебного заведения МВД – восемнадцать. В общем, для того, чтобы поступить, следовало написать сочинение, сдать экзамены по русскому языку, истории и иностранному языку так, чтобы в итоге получилось две четверки и две пятерки или три пятерки и тройка.
Конечно, молодежь завлекали сюда тем, что якобы можно убить двух зайцев – не через пять, как в университете, а через четыре года получить престижный диплом юриста-правоведа и к тому же избежать службы в армии. Мы еще не знали, какая засада нас ожидает, и наряды, в которые мы погрузились с головой с самого первого дня прибытия, оказались всего лишь цветочками.
Мы стали потихоньку знакомиться в курилке и казарме и с удивлением узнали, что некоторые молодые люди фанатично стремились именно в Шатскую школу милиции, проваливали экзамены, однако на следующий год снова приезжали поступать. Они узнали от друзей и родственников, что это единственное в стране учебное заведение, которое специализируется на подготовке сотрудников уголовного розыска, имеет неплохую базу и сильный преподавательский состав, тщательно отобранный из учебных и научных заведений со всего Советского Союза. Помимо этого, как я упоминал, только Шатская школа принимала семнадцатилетних юношей, выпускников средних общеобразовательных школ, остальным школам милиции такое право предоставлено не было.
Рассказы этих удивительных ребят давали емкое представление об абитуриентском периоде, поскольку они красочно рассказывали, как все было организовано в прошлом и позапрошлом году, на чем они срезались и так далее. Многим запомнился стройный парень-блондин с правильными чертами лица, который в свободное время замечательно пел под аккомпанемент своей простенькой гитары песни Андрея Макаревича, в особенности здорово у него получались «Марионетки» и «Старый корабль». Все просто обалдели, когда узнали, что он поступает сюда в пятый или шестой раз, правдами и неправдами избегая призыва в армию.
Лица стерты, краски тусклы –
То ли люди, то ли куклы,
Взгляд похож на взгляд,
А тень – на тень.
И я устал, и отдыхая,
В балаган вас приглашаю,
Где куклы так похожи на людей.
Забегая вперед, скажу, что Саня, так, кажется, его звали, и в тот раз, к сожалению, не смог набрать нужное количество баллов. Хотел бы я сегодня после стольких перемен, произошедших в нашей стране, пообщаться с ним! Интересно, как теперь он оценивает свое былое фанатичное юношеское рвение стать сотрудником советского уголовного розыска и по-прежнему ли жалеет о том, что не смог поступить.
Глава третья
Лагерь располагался на овеваемой ласковым прохладным ветерком огромной поляне, окруженной живописной березовой рощей, которая пришлась бы по душе многим нашим поэтам. Погода стояла замечательная, режим и свежий воздух сделали свое дело, моя болезненность стала потихоньку отступать, однако вскоре случился удар – трехкилометровый кросс. Его по плану, спущенному сверху, устроили наши офицеры в воскресенье, поскольку именно воскресенье было единственным днем, свободным от консультаций и экзаменов.
Ноги не слушались! Я еле передвигал их, напоминая со стороны стреноженного жеребенка. Лекарство, которым меня три месяца накачивал профессор, будучи уверенным, что у меня порок сердца, сыграло злую шутку. Мало того, что оно разжижало кровь, и потом еще два года даже незначительные царапины плохо заживали, поскольку кровь не желала нормально свертываться, так к тому же оно действовало на суставы и мышцы, причем так, что они отказывались подчиняться, делаясь как будто деревянными.
В общем, я приковылял практически последним. Была еще парочка человек, однако они, едва почувствовав усталость, сразу перешли на шаг, отказавшись бежать, а я, несмотря на ужасную скованность мышц, упрямо продолжал свой кошмарный бег. Это мое отчаянное передвижение, которое и бегом-то назвать было очень сложно, было скорее похоже на ползание черепахи, однако я не сдался, не остановился, не перешел на шаг, чем горжусь до сих пор, хотя в тот момент, кроме стыда, ничего не испытывал, – из многих сот человек я пришел практически последним!
Правда, горе мое по этому поводу длилось недолго. После того, как окончились экзамены, и состоялось зачисление, мы оставались в лагере еще два месяца, – проходили так называемый курс молодого бойца и убирали на совхозных полях лук, – и трехкилометровые кроссы из воскресного соревнования превратились в ежедневную утреннюю зарядку. Через две недели такого распорядка лекарства профессора ослабили свои коварные тиски, я не бегал, а летал, и больше никогда не отставал, более того, неизменно прибегал к финишу в первых рядах, в общем, на всю жизнь полюбил бег.
В день перед экзаменом нас освобождали от нарядов, и мы валялись за казармой на лужайке, читали учебники, а когда надоедало, травили анекдоты или просто смотрели в синее небо, по которому лениво брели забавные ягнята-облачка. Первыми, с кем я познакомился, были Андрей Викторов и Алексей Кошелев, оба земляки из Архангельска, поэтому держались они особняком. Андрей что-то спросил меня по истории, я ответил довольно удачно, ему понравилось, так мы познакомились, и я оказался в их компании.
Андрей подкупал своим оптимизмом и легкостью в общении, много рассказывал о своих первых опытах с девочками и зрелыми женщинами, причем у него это получалось так изящно, будто он говорил о живописи известных фламандских художников. Мне на эту тему рассказывать было нечего, поэтому я помалкивал, да меня никто не спрашивал, моя роль внимательного слушателя моих новых знакомых вполне устраивала.
Кошелев запомнился тем, что знал наизусть нецензурную версию «Евгения Онегина» и цитировал ее по памяти без устали и со вкусом, уверяя, что ее, в самом деле, написал сам Александр Сергеевич Пушкин в качестве, так сказать, остренького дубликата. Он читал так проникновенно, и матерные слова вылетали из его уст так органично, что какой-то крепкий брюнет в импортном синем спортивном костюме и впечатляющих алых кроссовках, скорее всего, тоже заграничных, остановился рядом с нами, приоткрыв рот. Он, кажется, забыл, куда и зачем шел.
– Вот эта да! В школе такое не учат.
– Сигарета есть? – повернувшись к нему, спросил Викторов.
– Нет, не курю.
– Жаль! Придется в казарму тащиться.
– Днем там запрещено находиться, – сказал я.
– Эх, Валера, правила создаются, чтобы их нарушать!
Андрей лениво поднялся, вышел из освежающей тени молоденьких березок, прошел лужайку и вместо того, чтобы уйти за угол, там был вход в казарму, подошел к угловому окну, поддел его какой-то железкой, бережно положил ее обратно в траву, влез через окно внутрь, и через минуту вернулся с сигаретой.
– Будешь? – предложил он мне.
– Не понимаю, какое в этом удовольствие.
– Ты прям как девочка! Они тоже поначалу не испытывают никакого удовольствия. Честно сказать, я сам особого удовольствия не получаю, так, иногда, под настроение, я имею в виду табак, а не девочек, с ними другое дело.
Как я понял из этого случая, легкость Викторова, оказывается, была не только в общении. Он так же легко относился к соблюдению правил внутреннего распорядка. Чем больше я его узнавал, тем больше мне казалось странным, что он поступил в военизированное учебное заведение. Казалось, что его призванием были театральная школа или институт культуры.
После отбоя он мог спокойно подняться с койки, открыть то самое угловое окно, оно выходило не на асфальтированный плац, по которому после отбоя частенько ходили наши офицеры, а на лужайку, и, сидя на подоконнике, выкурить сигарету перед сном. Видимо, он так постоянно делал дома, или на свиданиях с подругой, о которой он непрестанно рассказывал, поэтому не собирался отказываться от своей привычки, хотя, забегая вперед, скажу, что после поступления и возращения из лагеря на зимние квартиры в Шатск, он, насколько помню, практически не курил.
Вскоре, как я говорил, моя жизнь абитуриента закончилась, я сдал экзамены «по эксперименту». Викторов с Кошелевым откровенно позавидовали мне и мгновенно отдалились от меня.
– Везет же людям! А нам еще русский и английский язык сдавать. Жуть!
Через неделю наш статус уравняется, они тоже успешно сдадут экзамены и поступят на первый курс, а пока, таких как я счастливчиков, во всем лагере набралось человек двенадцать. После утренней зарядки, построения и завтрака все ушли на консультацию перед очередным экзаменом, а нас передали в распоряжение капитана Грыжука, плотного невысокого светловолосого крепыша. Он был, как я упоминал выше, преподавателем боевого самбо. Кто-то шепнул, что на четвертом курсе нам от него достанется, – он очень требовательно принимает зачет перед отправлением на стажировку.
Тогда я даже не предполагал, каким язвительным человеком является капитан милиции Роман Викторович Грыжук. Он был похож на охотника, который расставляет силки, и потирает от удовольствия руки, когда глупая жертва запутывается в сетке. Что ж, каждый забавляется, как может.
Как и все наши офицеры в те дни, Грыжук был одет по-спортивному, и на его костюме была вышита на груди крупная белая буква «Д». Такие удобные и довольно симпатичные шерстяные костюмы выдавались сотрудникам милиции, которые все поголовно являлись членами спортивного общества Динамо. Среди других офицеров его выделяли новенькие импортные кроссовки.
Такая же спортивная обувь была только у Старикова, кудрявого глазастого стройного брюнета. Я вспомнил, что он подходил к нам, чтобы послушать, как Кошелев читает «Евгения Онегина» в скабрезном варианте, а Викторов спросил у него сигарету.
Кто-то сказал, что Стариков – кандидат в мастера спорта по дзюдо, и Грыжук обеспечил ему поступление «по эксперименту», поскольку школе милиции позарез нужны борцы для успешных выступлений на различных ответственных соревнованиях. В действительности Стариков нес на экзамене по истории какую-то околесицу, а сочинение списал со шпаргалки.
У капитана была довольно-таки безобидная внешность, он не ходил, а как будто катался, словно забавный румяный колобок с белесыми волосиками на макушке, всегда широко улыбался и выглядел, кажется, неизменно дружелюбным и доброжелательным, однако, едва раскрывал рот, становилось не по себе. В каждом его слове чувствовалась саркастическая насмешка, и сквозило превосходство, словно знание дзюдо, которым он владел в совершенстве, одновременно давало ему таинственную осведомленность о таких вещах, которые простым смертным просто недоступны для понимания.
Наша задача состояла в том, чтобы под руководством Грыжука оборудовать класс для проведения занятий по огневой подготовке на свежем воздухе. Здесь новоиспеченные слушатели, проходя курс молодого бойца, будут учить теорию, а затем разбирать и собирать пистолет Макарова на время. Следовало врыть столбы, на которых оборудовать длинный учебный стол и лавки, а затем натянуть сверху брезентовый полог для защиты от влаги и солнца. Накануне прошел теплый летний дождь, земля была влажной, и ямы рылись легко.
Стариков делал вид, что копает. Грыжук смотрел на его имитацию сквозь пальцы, зато остальные мгновенно стали объектом для подтрунивания и насмешек.
– Валера, Валера, Валерий, Валерия, – как кот, промурлыкал он, глядя, как я нетвердо всаживаю лопату в грунт, – а тебе не кажется, что имя у тебя женское?
Он знал, что я не могу ему ответить, и с удовольствием балансировал на грани фола.
– Ладно, не красней, не в службу, а в дружбу, сходи-ка в столовую, узнай, когда накрывают обед.
Умел Грыжук смущать и выводить из равновесия! Толком не осознав, что он на самом деле хочет узнать, я сходил в столовую и, вернувшись, сообщил, что как обычно, в час дня будет обед. Глазки капитана сузились в ехидные щелочки, и он покачал головой, как рыбак, поймавший на крючок редкую особь.
– Вот кого к нам набирают! Валерий Тобольцев, Советский Союз, ага?
Я стоял и с недоумением смотрел в его хихикающее личико, а он, вяло махнув в мою сторону рукой, принялся ходить с рулеткой, отмеряя точки, в которые следовало забить металлические штыри для брезентового полога, не забывая саркастически покачивать головой.
Я не выдержал.
– А что я сделал не так, товарищ капитан?
Вместо ответа он повернулся к Старикову.
– Жора, сходи, узнай, а то, чувствую, пока мы с Тобольцевым будем разбираться, обед давно закончится, и солнце сядет!
Стариков кивнул и спортивной рысцой убежал в столовую, а Грыжук повернулся ко мне.
– Ты, Тобольцев, не стой столбом, яму копай!
Я, сгорая от непонимания и досады, закусил губу и стал углублять свое отверстие в земле. Скоро вернулся Стариков.
– Роман Викторович, нам назначено время – двенадцать двадцать, просили не опаздывать, и посуду самим убрать со стола, а то они не успевают.
Грыжук почти по-дружески похлопал своего подопечного по плечу.
– Молодец, Жора, сядь, отдохни, а ямы пусть такие, как Тобольцев, копают!
Только сейчас до меня дошло, что в столовой следовало спросить не о времени обеда, а том, когда накроют столы для нашей группы. Стало противно.
С другой стороны, он мог нормально объяснить, когда отсылал меня? Я же не знал, что мы будем обедать отдельно от остальных!.. Да, но, однако, должен был сообразить, что нет смысла узнавать время общего обеда, это время всем известно. Вот они, проклятые яблоки на дубе…
И, тем не менее, зачем было так едко глумиться? Похоже, что издевательство над более слабыми и чувство превосходства доставляют ему наслаждение.
Стариков с доброй улыбкой взглянул на меня и отошел к скамеечкам курилки. Минут десять я копал, а затем отложил лопату в сторону.
– Яма готова.
Грыжук замерил глубину.
– Еще на штык углуби.
– Какой такой штык?
Глава четвертая
Грыжук отвернулся, всем своим видом показывая, что с круглыми идиотами разговаривать бесполезно, затем повернулся, чтобы идти, однако задержался и повел глазами в сторону моих часов на руке.
– С противоударным механизмом? – с хохотком сказал он. – Не жалко?
Я ничего не понял. Мои новенькие часы назывались «Командирские», имели удобный циферблат с секундной стрелкой и миниатюрным компасом и смотрелись великолепно. Мне подарил их отец перед отъездом в Афганистан, тогда такие часы были большой редкостью, на черном рынке спекулянты просили за них сто рублей, что равнялось зарплате учителя или инженера.
– Штык – это слой земли, который за раз берет лопата! – крикнул мне из курилки Стариков.
– За раз?..
Грыжук продолжал веселиться. Казалось, что сейчас он зарегочет и покатится по земле от смеха, как колобок из известной сказки. Ему, в самом деле, доставляло удовольствие злить меня.
– Лопату, Тобольцев, не бросай, а втыкай в землю, понял?
– Почему?
– Кто-нибудь наступит, споткнется и получит травму. Техника безопасности! Не удивлюсь, если этим бедолагой окажешься ты, а мне потом за тебя отвечать придется. Что-то ты слишком рассеянный, не иначе будущий профессор!
Я вновь недобро поджал губы, а он едко захихикал.
– Если тебе часы, в самом деле, жалко, то не таскай их на хозяйственные работы. Разобьешь! Неужели непонятно?
У самого Грыжука на руке красовались импортные японские часы. Таких дорогих наручных часов мне раньше видеть не доводилось. Я, насупившись, снял свои часы с руки, положил их в карман и с силой вонзил лопату в проклятую яму.
В общем, первый день после сдачи экзаменов, который, как мне казалось, должен был быть счастливым, светлым и радостным, совершенно неожиданно принес одно лишь расстройство и словно окатил ледяным душем. Я вдруг понял, что вот она – система собственной персоной, и Грыжук – ее замечательный винтик.
Мне очень захотелось плюнуть на все и написать заявление на отчисление, однако надо же было так случиться, что именно в тот злополучный день подобное заявление написал другой абитуриент, который так же как и я прошел по «эксперименту», то есть сдавал всего два экзамена, а не четыре, и в отличие от меня он даже набрал больше девяти баллов, – получил две пятерки.
Я услышал, что стали говорить о нем.
– Не выдержал трудностей и сбежал!..
Нет, таких разговоров и такой памяти о себе я не желал. Только это в тот неприятный день остановило меня, а потом многое изменилось, и никогда больше я не помышлял об уходе из школы милиции.
Вечером я пошел к нашему замполиту Владимиру Ковалеву.
– Товарищ капитан, прошу не направлять меня в распоряжение Грыжука.
– Почему, Тобольцев?
– Хочу пойти в наряд.
– Грыжук объявил тебе наряд вне очереди?
– Нет, я сам хочу в наряд.
Ковалев внимательно посмотрел мне прямо в глаза.
– Хорошо, завтра до обеда все-таки побудешь у него, а после обеда останешься в казарме и будешь готовиться в наряд по столовой.
Я был очень благодарен ему за проявленную внимательность и человечность. В его тоне не было въедливой и унизительной насмешки, которая меня так раздражала тогда и раздражает сейчас, если я вижу ее в людях.
Утром, когда все ушли на экзамен, я стал собираться к Грыжуку, вспомнил его едкое замечание и решил не надевать часы вообще. Койки наши были, как я говорил, двухъярусные. Рядом с каждой стояла высокая просторная тумбочка, верхнее ее отделение занимал абитуриент, который спал наверху, а нижнее тот, чья койка располагалась внизу. Впоследствии такой порядок сохранялся у нас все четыре года обучения.
Я снял часы с руки, бережно завернул их в носовой платок и засунул подальше в угол своего отделения. Если открыть тумбочку и не заглядывать специально в ее углы, то разглядеть носовой платок с завернутыми в него часами за мыльницей, зубной пастой и бритвенным станком было практически невозможно.