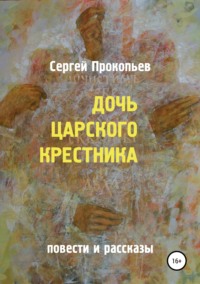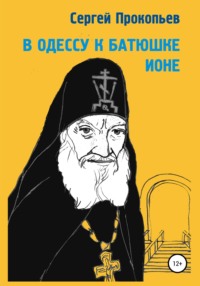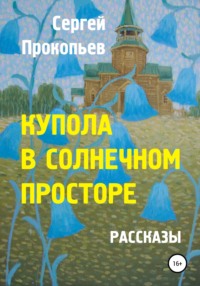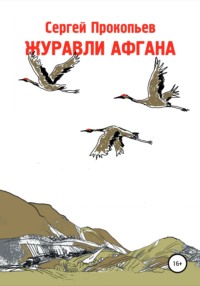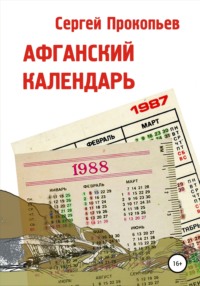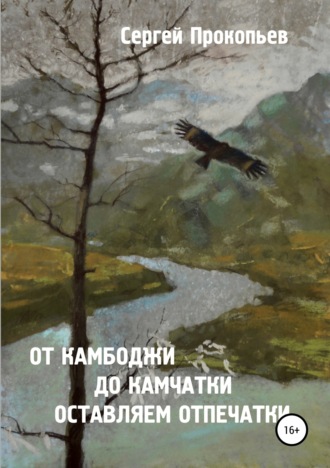 полная версия
полная версияОт Камбоджи до Камчатки оставляем отпечатки
Весёлый получился бы кадр. Оба длиннющего роста, но Ропанов – сплошные мышцы и мясо, Серёга наоборот – жилы да кости. Этакая жердь о двух ногах. Вот была бы пирамида-каланча из этой парочки.
Идём, полной грудью вдыхаем таёжный воздух, очищаем лёгкие от субстанций омских предприятий, посвистываем, анекдоты травим… Впору за бабочками с сачками бегать. Кайф. На пути стали встречаться священные бурятские деревья, ветки коих увешаны матерчатыми ленточками. Мы притормозились у первого, поглазели – невидаль для жителей омских равнин, второе древо миновали без остановки… Тогда как Сараев и Лёня-бурят (о чём позже поведал нам Гоша) у каждого такого древа совершали ритуальные действия.
Подъехали к первому, Лёня выпрямился в седле и скомандовал:
– Стоп, машина, слазь шофёр, не работает стартёр!
Причина остановки: не моги на сухую проследовать мимо священного древа – иначе не видать удачи! Пути не будет.
Сараев с уважением отнёсся к местным традициям. Не стал возражать. Лёня достал спирт, полученный от нас в качестве платы за провоз багажа, металлическую рюмашку, имелась у него такая… Выпили по чуть-чуть. Через километр опять священное растение, требующее поклонения. Снова «стоп, машина»… Так караван короткими тактами двигался от одного культового места к другому… Уже и лес вместе с ними закончился, но «слазь, шофёр» продолжалось, пока было с чем «слазить»… Собственно, Лёня с Гошей уже и не спешивались…
Поначалу мы видели движение каравана, поднимающегося на перевал, потом он скрылся из глаз.
Туристов-пешеходников ехидно кличут лошадьми. Есть, конечно, за что. Но даже коням с нашими рюкзаками было тяжко подниматься на перевал, зато мы налегке шли ходко и быстрее лошадей одолели последний отрезок, нагнали караван. Поднялись на перевальную точку, смотрим: стоят понуро лошади с нашими рюкзаками, замумукались бедняги, а караванщики устроили в честь взятия перевала экстремальные состязания горных стрелков. Выглядело это так: Гоша с руками по швам замер у здоровенного валуна, а Лёня целился в него из карабина:
– Я белке в глаз стреляю и в тебя попаду!
Гоше и самому амбиций не занимать, сорвался с места до выстрела, выхватил у бурята карабин:
– Вставай, Лёня, ты первым! Я тоже неплохо стреляю…
Дескать, я хоть и житель мегаполиса, но кое-что микичу в снайперском искусстве.
Мы вовремя ярмарку тщеславий закрыли. Отобрали карабин у альпийских стрелков… Следы ритуальных действий караванщиков были налицо: оба еле-еле языками ворочали. В дымину пьяные.
У Лёни не только дикция захромала. Как сказал Серёга Иванцов:
«У него же крыша течёт». В походе Серёга был медиком, нёс в рюкзаке аптечку, поэтому его диагноз приравнивался к научному. Караванщик Лёня наехал на нас с претензией, мы, мол, не рассчитались сполна согласно договору, пять рублей зажилили.
– Ты ещё скажи: спирт не дали! – возмутился от такой наглости завхоз Петя Альбинович.
– Не-е-е, спирт пил!
– А пятью рублями, поди, закусил!
– Зачем? Закуска градус вредит! – пытался ёрничать Лёня. – Пять рублей жена-баба отдам, чё-нибудь покупать будет!
Как ни втолковывали, что отдали ему деньги, бубнил пьяное:
– Вы меня обманываете!
В конце концов разобиделся, сбросил с лошадей наши рюкзаки и ускакал.
– Недолго музыка играла, – изрёк Игорь Ропанов, – окончен бал, завяли помидоры.
– Ага, – вздохнул Серёга Иванцов, навьючивая себя рюкзаком, – любовь об стенку, нам с тобой не по пути! Только привыкнешь к комфорту, тебя опять физиономией в грязь!
Кончилась лафа на половине пути к Шумакским источникам. Километров двадцать осталось. Одно хорошо, все они под уклон, но плохо – дождь начался. Нам-то ещё ничего, через сто метров
втянулись в привычную лямку – топаем и топаем. Хуже вернувшемуся на землю Гоше. Он после ритуальных возлияний еле нёс себя да плюс рюкзак, те самые пятьдесят килограммов с гаком. Они сами не идут. И началась работа Ленина «Шаг вперёд и два шага назад». Рюкзак Гошу мотанёт вправо, Гоша побежит-побежит за ним, наконец остановятся оба, Гоша замрёт в раздумье, затем сделает шаг влево… Рюкзак не против данного вектора, он против черепашьего ритма, начнёт ускоряться и… уронит тормозного Гошу. Или на себя – на спину Гоша приземлится. Это ещё ничего. Хуже, когда лицом вперёд пригвоздит к тропе… Одним словом, работа Ленина в весёлых картинках…
Вдруг дал о себе знать Лёня. Начали попадаться следы продвижения каравана. Первой весточкой стала плащ-палатка. Взяли. Через триста метров увидели мешок картошки.
– Если только на Сараева нагрузить? – сказал Серёга, разглядывая Гошу, который стоял на нетвёрдых четвереньках, собирался с духом. Наконец рывком попытался поставить себя в вертикальное положение, но не рассчитал траекторию подъёма – рюкзак в который раз сместил центр тяжести хозяина в критическую зону, и Гоша распластался на земле. Что заставило Иванцова отказаться от идеи помощи потеряйкину Лёне:
– Придётся овощи оставить на тропе.
Мы отметили на карте место, где караван облегчился на картошку… Вскоре на карту попали два бидончика масла. Лёня растерял всё транспортируемое добро.
В девять вечера мы притопали на источники. Место уникальное. Мало того, что красота в долине Шумака обалденная, так ещё на крохотном пятачке в два квадратных километра более ста излияний минеральных источников! И все разные по содержанию микроэлементов. У каждого табличка о составе воды, тут же перечень заболеваний, при которых рекомендуется употреблять данную минералку. Натуральный дикий курорт, бальнеологическая лечебница. По когда-то заведённому неписаному правилу на левом берегу Шумака рядом с источниками располагались буряты, приехавшие подлечиться, на правом – зона проживания русских. Через Шумак мост на тросах проброшен. Можно в гости ходить…
Мы на русскую сторону пришли, там ряд избушек рубленых. Одна стояла свободной, туда мы с большим удовольствием завалились. Рюкзаки побросали. Кайф. Сараев, не снимая заплечную ношу (сил не осталось), упал на спину и как умер. А всё-таки молодец, дошёл.
– Гоше больше не наливать! – сказал Ропанов.
– И меньше! – не открывая глаз, промычал Гоша.
– О, жить будет! – констатировал медик Серёга Иванцов.
Сели мы ужинать, я ложку не успел до рта донести, заскакивают пять воинственно настроенных бурятов. С Лёней во главе и карабинами. Только что не скомандовали: «Руки вверх! Деньги на бочку!» Однако вместо «здрасьте» сразу перешли к теме финансов. Опять скандально всплыли злополучные якобы недополученные Лёней пять рублей. Да ещё добавились к ним картошка с маслом.
Наставляя на нас карабины, буряты потребовали немедленно всё вышеперечисленное отдать.
– Тогда пусть вернёт спирт, который вылакал! – указал завхоз Петя Альбинович на Лёню. – Заколебал с этими пятью рублями! Плащ-палатку забирайте, отдать не успели. Нам чужого не надо, но и своё не отдадим!
– Чьё бы оно ни было! – мрачно пошутил Ропанов и подвинул бурятам свой рюкзак: – Ищите! Может, где бидончик с маслом и завалялся!
Кое-как удалось успокоить гостей. Показали на карте, где лежат посеянные Лёней продукты, выставили мировую, выпили с ними по чуть-чуть спирта.
На Шумак тогда много народу приезжало. Из Москвы, Ленинграда, Украины… Одних на вертолёте забрасывали, других на лошадях доставляли, третьи своим ходом за здоровьем шли. Забывчивый Лёня вторую категорию обслуживал. В тот раз на Шумак он приехал, дабы вывезти на Большую землю трёх бурят, прошедших водолечение. Во время их транспортировки произошло ЧП. Думаю, не просто так лошадь под Лёней оступилась, когда он вёл караван с людьми через перевал, а в назидание – не пеняй на зеркало, коли сам дурень. Верный конь запнулся, упал. В результате дорожного происшествия Лёня получил открытый перелом ноги. При этом скакун даже не ушибся… Пятирублёвая жадность наездника обернулась гипсом в разгар туристического сезона…
Сделали мы первое кольцо, взяли перевалы Грозный, Ветреный. Славно поработали, перевалы жёсткие, мощные, есть что вспомнить. Вернулись на Шумак. Провели ревизию рюкзаков.
И, помня ощущение, когда идёшь и видишь из таёжной экзотики одни ботинки, пришли к выводу: перемудрили с провиантом, чересчур много взяли. Поиронизировали над Петей Альбиновичем, завхозом и страшным любителем поесть. При подготовке он настойчиво твердил: продуктов брать больше. Часть их оставили в избе на Шумаке, может, кому понадобятся.
– Мы ведь не лошади-тяжеловозы! – сказал Серёга Иванцов. – Это коняке по барабану, везёт воз и везёт, мы удовольствие получать пришли.
– Когда питаться нечем, – проворчал Альбинович, – я удовольствие не получаю! Как бы потом жалеть не пришлось! – и добавил народную мудрость: – Хлеб сам себя везёт.
Жалеть-то мы, ой как потом жалели…
В этом походе нам ещё раз «повезло» на незапланированного попутчика. Один другого краше. Следующим стал медведь. Лёня хоть рюкзаки подвёз, а этот навязался на нашу голову без всякой пользы. Что уж мы ему так приглянулись? Баламут какой-то. Так мы его и прозвали – Баламут Потапыч. Это сейчас писать весело, только вы не поленитесь, сходите в зоопарк. На картине Шишкина «Медведи в сосновом лесу» мишки миляги из себя, их погладить хочется. В зоопарке стоит вообразить встречу с этаким симпатягой на тропе, не по себе делается – у него один коготь сантиметров пять. Да при нём гора мышц лохматая. Представляете, как этим коготком царапнуть можно?.. Или встанет в клетке на задние лапы… Туша о-го-го! Поэтому, разбивая вечером лагерь, колотили мы камнем в сковородку, кричали, шумели, гремели. Баламута Потапыча наши громкие старания не убеждали в факте его нежелательного соседства с палаткой. Найдёт себе кедр поблизости, расковыряет ложе и завалится на ночлег. Вы, дескать, ночуйте в своих спальниках, а мне привычнее на земельке. Честно доложу, не очень-то расслабишься в палатке после дневной пахоты, когда голову мысль точит: а ведь эта зубасто-клыкастая морда рядом почивает. Вдруг у Баламута Потапыча откроется бессонница, и надумает он лечить её поздним ужином. Шутки шутками, а топор, ножи под рукой держали.
– Ребята, – блеснул таёжной эрудицией Гоша Сараев, – знаете, какое самое надёжное средство против медведя? Схватить его за мошонку и сжать со всей мочи. Болевой шок парализует зверюгу, и тогда делай с ним что хошь! Так действуют ханты-медвежатники.
– А если Баламут Потапыч на самом деле Потаповна? – поинтересовался Игорь Ропанов. – За что тогда хватать прикажешь?
Как ханты ловят голыми руками медведей женского пола, Гоша не знал.
– Ты сначала, Гоша, сходи и загляни Потапычу под колёса, – посоветовал Серёга, – чтоб мы точно знали, хватать или ножом орудовать в борьбе за существование.
– Ножом в глаз надо бить, – снова блеснул эрудицией Гоша, – иначе ему твой кишкорез как слону дробина.
– Но сначала, – Петя Альбинович тоже включился в разработку методики обороны от медведей, – надо попросить: «Баламут Потапыч, убери, пожалуйста, передние лапки за спину, вдруг ненароком зацепишь, когда я тебе в глазик ножичком тыкать буду».
Баламут Потапыч шёл параллельным курсом четыре дня. Утром встаём на тропу, и он в пределах видимости топает. Шуганём, убежит. Вроде тихо, ну, думаешь, наконец-то отвязался. С полчаса пройдёт… Да что ты будешь с ним делать – снова треск сучьев. Опять зверюга приставучий догнал.
Но на перевал Эхе Гол не пошёл, отстал.
– Медведь, медведь, а не дурак, – прокомментировал Игорь Ропанов позицию Потапыча, – сообразительная скотина! В отличие от нас не захотел мордоваться.
Перевал ли испугал мишку или погода – она вверху совсем испортилась. Снег повалил. И стали мы выбиваться из графика. Думали, нагоним, когда по берегу Китоя пойдём. Однако на деле получился капкан… С нами сыграло злую (нет – злейшую) шутку описание, которое составили наши братья по разуму, оснащённому неподъёмными рюкзаками, коллеги-пешеходники, ранее одолевшие этот маршрут. В описании чёрным по белому накатали: «Китой идти левым берегом и никак не правым». Действительно, тропа сначала была натоптанной, конкретной. Резво по ней двинули, никакие Потапычи повышенным вниманием не одолевали. Бравенько шагаем. И стали нам попадаться ручьи, впадающие в Китой, причём свое-образного характера: правый берег – конкретная стенка, а левый – пологий. Спускаться по стенке – не карабкаться вверх: основную верёвку привязываем, к узлу вспомогаловку, на ручей сбрасываемся, вспомогаловкой узел сдёргиваем, верёвки в рюкзак и двигаемся до следующего ручья.
Хорошо идём, но вдруг упираемся в ручей с двумя глухими стенками. Тупик. Вперёд мы пройти не можем, но и обратной дороги нет, так как, если мы поворачиваем, то начинается сплошной альпинизм, иначе не пройти стенки, с которых мы сбрасывались. Надо бить крючья, тогда как мы, как говорил выше, для облегчения ноши рюкзачной крючья не взяли. Особенно напирал на это Петя Альбинович: «Лучше харчей поболе взять». В результате и с харчами пролетели, и с крючьями. Да были бы они – разве дошло до голода? Потоптались день в раздумье… Но думай не думай – взад пятки не пойдёшь. Приняли решение: свалиться к Китою и попробовать переправиться на другой берег. Мы шли по полке над самым Китоем. Внизу тянулась метров на триста песчаная коса, на неё и сбросились. Посмотрели и ещё больше пригорюнились и запечалились. Было хорошо, стало ещё горше. Китой метров шестьдесят шириной и прёт во всю мощь. Посредине реки стоит бугор воды, сразу за косой начинаются пороги – Мотькины щёки. Щёчки у Мотьки персиковыми не назовёшь. Ситуация безрадостная: здесь бугор – не переплыть, там пороги – вообще ловить нечего.
Из продуктов к тому времени осталась соль в достаточном количестве и чай. Соль ложками есть не будешь, чай тоже голод не утоляет… На востоке говорят: чай попил – орёл летаешь, водка пил – свинья лежишь! «Орёл летаешь», если бешбармак перед чаем много кушал, на пустой желудок и от ведра чая орлом не взлетишь. Спирта имелось три фляжки. Но его тоже на завтрак-ужин-обед не употребишь. Ещё один день просидели на косе в тоске и раздумьях… Исследуя местность, я двинул вверх по течению в самый конец косы, где она переходила в каменную стенку, там прижим – вода в камень давит, за прижимом ещё одна коса. Дай, думаю, попробую на неё перебрести. На наше счастье воды оказалось всего по пояс, перебрался на соседнюю косу, и не зря, смотрю – валяются пять брёвен. Остались с тех времён, когда туристы-водники на деревянных плотах ходили. Из этого материала мы сделали плотик. Вспомогаловку резали и вязали брёвна. Ладненький получился плотик. Но попробовали вдвоём плыть, нет – тонет, брёвна сырые. Одного отлично держит.
Что значит хорошая группа. Петя Альбинович имел в арсенале личных достоинств первый разряд по плаванию. Когда встал вопрос, кого отправлять на другой берег с верёвкой для переправы, определили: лучше Пети никто Китой не покорит.
Петя не стал сопротивляться. Сказал: «Если что, завещаю свой спирт любому, кроме Гоши Сараева, он своё с Лёней выхлестал», – и взошёл на палубу плотика, точнее – возлёг на неё. Доплыл до водяного бугра, перепрыгнул его, оттолкнувшись от плотика, а дальше вплавь. Вода, само собой, холоднющая. Но Альбинович мощными гребками добрался до берега. Метрах в десяти от уреза воды стояли рядом три берёзки. Петя быстро верёвку за деревья завязал, мы со своей стороны конец закрепили. Переправа получилась около восьмидесяти метров (связка из двух основных верёвок), из них метров шестьдесят над водой. Через систему трёх карабинов сделали натяжку. И вот тут впервые серьёзно сказалось трёхдневное голодание. Натяжка потребовала серьёзных усилий, а ну-ка восемьдесят метров верёвки натяни струной!
Отправил я Гошу Сараева посмотреть натяжку. И не заметил, как он вместо обвязки на солдатский ремень защёлкнулся и полез. Добрался до связки двух верёвок и застопорился – узел не даёт дальше двигаться, надо через него ремень сначала перебросить. Гоша дёргался-дёргался – не получается. В один момент ноги (ими обхватывал верёвку) сорвались, повис на ремне, как ни пытался зацепиться ногами за верёвку – не смог. Оголодал бедняга, кишкой болтается над Китоем. Ремень начал его поддушивать. Кричу:
– Гоша, вылезай из ремня!
Гоша выскользнул, плюхнулся в воду, и его прямиком к Мотькиным, как говорилось выше, не персиковым щёкам в эту водно-каменную мясорубку понесло. Перед самым порогом Гоша выскочил на косу. На нашей стороне…
Последним переправлялся Игорь Ропанов, он отвязал верёвку (вспомогаловку на плот истратили), подпоясался ею, и мы его на верёвке перетащили по воде. Накупался хорошо. Я тоже набултыхался. Переправлялся перед Игорёхой, за собой рюкзак тащу по верёвке, сначала всё нормально шло, но когда добрался до места связки и начал рюкзак перебрасывать через узел, вдруг верёвка ослабла, и я полетел в Китой, не успел сообразить, что же произошло, меня с силой вырывает из воды и подбрасывает вверх, а затем снова ухожу под воду… Вот это аттракцион! Оказывается, из трёх берёз, за которые привязал верёвку Петя, две трухлявые. На коре держались, их понемногу пережимало, пока другие переправлялись, но стоило дать дополнительную нагрузку, когда я рюкзак перебрасывал, стволы срезало. Верёвка, струной натянутая, как резинка, заиграла, и давай меня швырять вверх-вниз. Нахлебался Китоя, но выбрался на берег. Мокрый… Серёга Иванцов ехидненько говорит:
– А рюкзак оставляешь?
Ё-мое, про рюкзак я забыл после ледяной купели, он сиротливо болтался в районе узла. Пришлось опять лезть…
Что значит молодость и здоровье! Сейчас представлю эту ситуацию и, честно скажу, не тянет в подобной оказаться.
Обессиленные, изголодавшие, выбрались на правый берег.
И тут же обнаружили тропу. Нормальная, отличная тропа… Я не поленился, после похода нашёл в Омске автора описания, которое нас отправило на левый берег. Наехал на путаника:
– Ты чё написал? Тропа ведь по правому берегу Китоя идёт!
Он секунду подумал:
– Конечно! А по какому другому может идти?
– У тебя в описании на левом! Мы чуть с голоду не опухли!
– Извини, перепутал, с кем не бывает…
«Перепутал», а мы, переправившись через Китой, последнее доели, опустошили заплечные амбары полностью. Поэтому радовались как дети, когда вечером, встав на стоянку, обнаружили граммов семьсот гороха, что предшественники оставили. Но больше подобных подарков от зажравшихся коллег на маршруте не попадалось, как ни высматривали. Пир на нашу ораву из семисот граммов не закатишь, тем не менее горошницу сварили и чуток подкрепились. Сигаретку бы ещё. Курцов в группе насчитывалось двое: я и Гоша Сараев. А курить, надо сказать, в ситуациях двойного (продуктового и сигаретного) голода хочется больше, чем есть. Просто полный ужас! Уши пухнут!
Вышли к слиянию Шумака и Китоя. Когда-то в этом месте золотишко добывали, памятником прииску – изба. Мы кинулись шарить по всем углам – вдруг кто поесть оставил? В избушках нередко с таким сталкиваешься. На этот раз не свезло. Зато нам с Гошей перепало чуток радости. Надо было видеть, как между половицами мы палочками (археологи, блин) ковыряли в поисках окурков. И ведь не зря раскопки вели – нашли парочку. Ух, кайфовали… С голоду голова поплыла-поплыла с первой затяжки…
Да ведь отравленный никотином организм добро долго не помнит, через пару часов опять как из пушки хотелось курить…
В состоянии голода, холода, под нудным дождём подходили под перевал Аршан, за которым одноимённый посёлок – конечная точка похода. Воображение безудержно рисовало картины гастрономического счастья: полки аршанского магазина с куревом, хлебом, консервами, а также столовая с большими, аппетитно пахнущими котлами, скворчащими сковородками полуметрового радиуса с рядами котлет… Обуреваемые радужными мечтами, двигались по тропе, что шла высоко над Китоем. Вдруг ба – на берегу двухместная палаточка, полиэтиленом от дождя накрытая. Мы с Гошей, не сговариваясь, сбросили на тропу рюкзаки и лосями сорвались вниз, только треск пошёл. Как ноги не переломали и шеи тоже… Летели, будто за счастьем… Полог палатки отбросили и как закричим в один голос:
– Курево есть?
Два мужика в палатке. Они на рыбалку из Аршана пришли. Да какая рыба, дождина беспросветный. Сидят в тоске и раздумье: то ли плюнуть на это дело и домой тащиться, то ли ждать дальше погоды…
И нас не обрадовали:
– А мы не курим!
Ё-моё! Полезли с Гошей обратно. Ну что за непруха-невезуха. Курить нечего, есть нечего, который день мокрые… Вечером сушишься у костра, сушишься, чтобы утром минут двадцать сухим пройти и снова до последней нитки промокнуть… Поднялись на тропу.
– Ну чё? – Игорь Ропанов поинтересовался.
– Чё-чё! Носом в печку горячо! – огрызнулся Сараев. – Некурящие оба!
– Чё и куска хлеба не дали? – спросил Петя Альбинович, не желая услышать отрицательный ответ.
Ё-моё, мы даже и не попросили.
– Я больше не пойду, – категорически отказался Гоша, будто его кто-то заставлял.
И я не побежал вниз.
Но ведь покурили мы в тот вечер. Эта пачка московской «Явы» как с неба на тропу спарашютила. Я глазам своим не поверил. Лежит под ногами. Полнёхонькая. Всего без двух сигарет. Жаль, остальные восемнадцать нельзя было сразу пускать в дело – размокшие…
– Чтоб сухие в такую погоду, это уж совсем надо быть дураком везучим, – прокомментировал находку Гоша, потирая руки, как алкоголик при виде поллитровки.
Вечером на стоянке мы с ним осторожно из каждой сигареты табак извлекли… Вид он имел отвратный, какая-то поносная масса, на сковороде её разровняли, посушили на костре, свернули по самокруточке… И снова кайф несравненный…
– Теперь бы поесть, – размечтался Гоша.
– Ага, кто разорялся: «Жратвы много взяли! Горбатиться с ней зазря!» – проворчал Петя-завхоз. – Терпи до Аршана!
Однако побаловать желудки удалось раньше. Подошли на следующий день под самую перевальную точку. Дождик наконец-то прекратился. Небо по-прежнему серым затянуто, солнце который день не видно, да это ладно, лишь бы не мочило. По карте избушка охотничья на нашей тропе должна быть. Всё правильно – стоит.
И как в той волшебной сказке, открывается дверь и… Хотите верьте, хотите нет – выходит Володя Соснин и жена его Лена. Омичи. Не один раз с ними в походы ходили. Лесные люди. Не нужны им моря, курорты, Сочи с Ялтой и Гагры с Пицундой – уехали в обратном направлении за пару тысяч вёрст на рыбалку и охоту.
Обнимались мы под стать передаче «Жди меня», когда встречаются близкие родственники после тридцатилетней разлуки. Лена готова была скормить все припасы голодающим. Угостила супом. Пришлось изо всех сил держать себя в руках, дабы не злоупотребить гостеприимством, не обезжирить друзей, им ещё две недели в лесу без магазинов жить. Володя убеждал, что они не пропадут, рыбы наловят. Нет, рыбацкое счастье может и подвести. Чуток бросили в опустошённые желудки, истосковавшиеся по пище.
На следующий день поднялись на перевальную точку. Внизу дождь, а здесь снежок. И ровненький пологий травянистый склон. Гоша Сараев ступил на него, поскользнулся, шлёпнулся на пятую точку и заскользил со свистом. Игорь Ропанов видит такое дело и тоже следом. Сел на травку, снегом припорошённую, лёгкий толчок… И – полёт. Просто замечательно – утомлённые ноги отдыхают, а ты, с умом используя особенности ландшафта, несёшься к магазину и столовой. Я третьим катился. Летим, визжим от удовольствия. Вдруг Гоша перепуганно кричит:
– Стоять! Камни!
Травяной покров закончился, началась сыпуха – мелкие камни. А это уже не травка. Если задница вам дорогá, лучше не рисковать. Гоше была очень дорогá, он, завидев опасный участок, включил тормоза и остановился у самой границы. В отличие от него Игорь Ропанов так увлёкся спуском, представляя себя профессионалом слаломистом на горной круче. Да ладно бы летел по своей трассе, он след в след мчался за Гошей, ну и врезался в него на полном ходу. Сам-то остановился за счёт преграды в лице спины Гоши, тогда как преграда, получив толчок Игорёшиными башмаками сорок пятого растоптанного размера, полетела на камни, как из пращи пущенная…
Штаны до спуска Гоша имел одни. После завершения оного штанами оставшееся назвать было никак нельзя. На Сараева без смеха смотреть не представлялось никакой возможности. От брюк (вид сзади) остались слабые воспоминания – на пятой точке висели жалкие лохмотья, которые едва прикрывали и саму точку, и плавки цвета пионерского галстука.
Гоша оглядел свой жалкий портрет в горном интерьере и жалостно обратился ко мне. Не только жалостно, но и, что характерно, вежливо:
– Шура, дай, пожалуйста, штаны.
Он знал, что, как человек расчётливый, я имел запасные. А он, как тоже считавший себя расчётливым – «зачем лишнюю тяжесть нести», не взял сменку.
– Нет, – отказал я. – Ты в посёлке жалким видом будешь вызывать чувство сострадания и милосердия, на этом мы можем хорошо сыграть.
План оправдался на все сто.