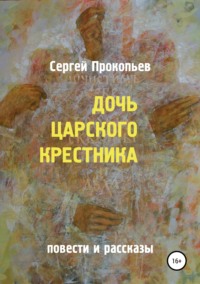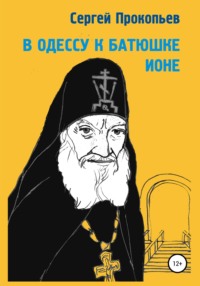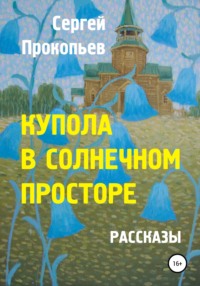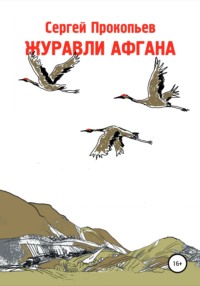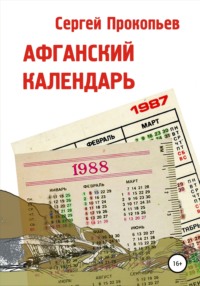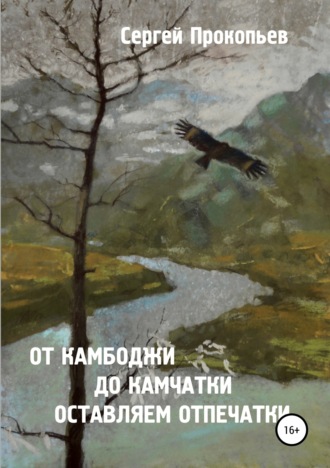 полная версия
полная версияОт Камбоджи до Камчатки оставляем отпечатки
– Есть у меня свои нюансы, – сказал кок, – травки да специи, но главное – вода.
С коком переговорил, гляжу – штурман идёт. «Как – спрашиваю, – состояние с ощущением?» Он подмигнул и шепчет: «Спиртец – высший класс! Спасибо! Теперь главное воздержаться, воду не пить, а то опять захорошеет!»
Пока ребята спали, я сварил краба в морской воде. Проснувшись, они позабавились, начали издеваться, опять, мол, хочешь нас плеваться заставить, лучше бы суп из пакетиков заварил. Витя даже обиделся, он в тот день не с той ноги встал, а я с крабом. Заворчал:
– Я тебе что – подопытная собака всякую гадость жрать?!
Сам потом добавку просил.
– Собакам, – говорю, – в последнюю очередь, если только что от людей останется в кастрюле.
Когда в Омске зимой фильм монтировал, обнаружил штурмана среди передовиков на Доске почёта. Гордо смотрел с портрета. Настоящий морской волк. Фильм я отправил в Москву Сенкевичу в телепередачу «Клуб кинопутешествий». Он через месяц письмо прислал и Почётную грамоту. Добрым словом отметил съёмки вулканов, о кадрах рыбалки хорошо отозвался. Фрагмент фильма весной показали в «Клубе кинопутешествий». Штурман, который нас по нашей доброте и нашей же дурости чуть не утопил, тоже промелькнул на телеэкране.
Пещера снежного человека
Жара
О Якутии я бредил долго. Мечтал увидеть своими глазами хребет Черского, ледник Атласова, ледник Обручева. За год до этого мы ходили на Шумак, прошли по верховью Китоя. Гнус доставал – что-то невообразимое! Казалось, весь мир вокруг тебя – это огромный рой мошки, который, сколько бы ты ни шёл, никогда не кончится. В верховьях Китоя брусника уродилась, хоть горстями ешь, и вкуснейшая, но стоит умерить шаг, наклониться, и физиономия чёрная от кровососущей напасти. У меня ещё кожа толстая, жуткими волдырями не покрывалась, с нами ходила Лена Бутакова… Утром проснётся, и глаз нет, заплыли, собственного носа не видит. Ведём бедняжку к ручью, сама не в состоянии. Холодной водой промоет зрение, остудит опухлости, какие-то щёлочки откроются.
Собираясь на Шумак, репеллентами не запаслись. В тайгу шли и легкомысленно средств от гнуса не взяли. Зато наученные болезненным шумакским опытом, каких только гадостей не понабрали в Якутию: мазей, москитных сеток… Не куда-нибудь идём – в зону вечной мерзлоты, где самая крутая мошка… Да только на Якутию в тот год аномалия свалилась. Жара африканская. Если уж в оленьих стадах падёж начался, гнус-кровосос и подавно не выдержал пекла. Вообще не поднялся в то лето на крыло.
Идёшь, и лучше не надо, никто тебя не жрёт, не портит жизнь, наслаждайся пейзажами нетронутой природы. Но по закону сообщающихся сосудов другие проблемы появились. Одна из них – проблема с наживкой для хариуса. К хребту Черского двигались, остановились на обед у речки. Мы с заядлым рыбаком Игорем Ропановым скорее снасти доставать. Но овода поймать – вопрос из вопросов. Редкие единицы летают. Самые жароустойчивые экземпляры. И осторожные зверюги, знают о своём дефицитном положении. Ждёшь-ждёшь, пока он на тебя сядет… Но стоит надеть на крючок, забросить, ещё воды не коснётся, хариус уже выскакивает навстречу, хватает дефицит. Витя Терёшкин тоже порывался удочку снарядить, но мы его посадили на ловлю наживки:
– У тебя площадь большая, снимай штаны и футболку, приманивай белым телом…
И всё равно долго получилось… Штук двенадцать приличных хариусов взяли, только почистили с Игорёшей, как надо идти. График жёсткий, времени прохлаждаться некогда. Но не выбрасывать такую красоту. Я быстренько подсолил, по полиэтиленовым мешочкам рассовал и на пояс. Обвешался, как охотник утками. Два солдатских перехода по сорок пять минут отмахали, смотрю – моя рыба начала отпадать от костей. Ребята, говорю, по-моему, хариус приготовился в собственном соку, можно употреблять. Витя Терёшкин чуть креститься не начал:
– Ты чё – травануть нас хочешь? На понос посадить!
– Да не может она, – говорю, – за полтора часа испортиться!
Витя функции медика исполнял в походе, не хотел иметь диарейных пациентов. Я попробовал рыбу – классно на солнце приготовилась. Мясо нежнейшее… Терёшкин посмотрел-посмотрел на наши довольные от рыбы рожи и тоже начал уплетать.
Пять рукавов безводной речки
Речка Тирехтях, вдоль которой пролегала часть нашего маршрута, в одном месте делает финт по принципу: гулять так гулять. Даже не раздваивается или растраивается, разливается на пять рукавов. Нам одного хватит, по крайнему пошли в хорошем темпе, и вдруг вода закончилась. Текла себе, текла, и раз – сухое русло. Досадно, конечно, да ладно. Ждать у сухой речки дождливой погоды не с руки. По карте смотрим, всего-то водораздельчик перемахнуть, и мы на берегу другого рукава… Перемахнули по-лёгкому… Рукав оказался по наполнению аналогичный первому. Как всегда бывает: воды нет, начинается психоз жажды – смерть как пить хочется. Фляжки у всех сухие, как речное русло, у которого стоим. Переваливаем на третий рукав, и вот тут начинается общий бзик. Бросились ножами в русле яму копать! Хотя бы по паре глотков добыть! Куда-то ведь вода ушла, где-то на нижнем слое должна быть. Ни капли не накопали. Как без воды идти? С тяжеленными, за сорок килограммов, рюкзаками. Впору назад возвращаться. Мы ведь не в парке культуры и отдыха. Ни одной бочки с квасом на тысячи километров вокруг. Обезвоживание организма – это смертельные шуточки…
Ребром вопрос поворачивать оглобли не встал, но начал с бешеным ускорением зреть. Без всякого энтузиазма потащились
к четвёртому рукаву. Карта чёткая, не врёт, точно вышли и увидели худшее – перед глазами открылся сухой результат. Трусливо замаячило в голове: а дойдём ли без воды назад? Вперёд – однозначно не дойдём. Жара давит и днём, и ночью. В пустыне с наступлением темноты холодает, здесь полярный день круглые сутки. Солнышко чуть зайдёт, а всё одно светло, и пекло не стихает.
У пересохшего четвёртого рукава группа села в мрачной задумчивости. Я понял: на пятый рукав не сдвинешь. Ребята в группе
отборные, проверенные, поход пятой категории сложности, случайных людей нет, опыт у всех достаточный, а у большинства – предостаточный. Но даже у таких зубров оптимизм сдулся до нуля. Окинул я взглядом группу, из всех замученных Яша Цапинский наиболее свежий. Говорю ему:
– Яша, айда на разведку! В последний раз перевалимся, если облом – крутим педали взад!
Яша, спасибо ему, не стал артачиться, изображать смертельно уставшего: «Почему я?» Рюкзаки мы бросили, но не с пустыми руками двинули на разведку – с пустыми фляжками. Я штуки три распихал по карманам, Яша столько же, и поплелись через водораздел. Вот было счастье, когда увидели издалека блеснувшую на солнце воду. Есть! Пятый рукав выстоял в борьбе с якутской жарой. Напились мы с Яшей до бульканья в животе! Припадём к воде и пьём-пьём, пьём-пьём, отвалимся, отдышимся и опять жадно глотаем… Наконец фляжки набрали и с криком: «Ура!» побежали к группе. Откуда только силы взялись.
Перевал Атласова
Жара продолжала подкидывать сюрпризы по всему маршруту. Ледник Атласова прошли, за ним одноимённый перевал. На перевал шли по узкому кулуару. Ширина варьировалась, в некоторых местах сужалась до четырёх метров, а средняя – восемь-десять.
И длиннющий. Сутки по нему шли. Остановиться, палатки поставить, отдохнуть в более-менее нормальных условиях негде, склон приличный, и никуда из этого каменного коридора не выйдешь. Одна дорога – быстрее гнать вперёд! Там тебе отрада и отдых. Но торопись осторожно. Каждые пятнадцать-двадцать минут камнепад. Горы, хоть и каменные, а не хуже оленей и гнуса жару не переносят –
начали разрушаться. Идёшь, а ушки на макушке. Оп! Стоять, бояться, деньги можно не прятать! Шуршит впереди. Летят сверху по склону камешки, камни и булыжники. Накроет – мало не покажется.
За все мучения, опасения и пережитые страхи на перевальной точке нас ждало нечто неописуемое. Вышли на неё, а там… Огромная дыра в горе, и вся в горном хрустале. Солнце как по заказу ударило… И началось невообразимое. Лучи хлынули на хрусталь, он заискрился сотнями граней, заиграл на все цвета радуги. Мама дорогая! Никакой цветомузыке не повторить этой симфонии света, цвета, сияния… Колечко с бриллиантом повернёшь, камешек луч света поймает, замысловато преломит – уже красиво! Тут тысячи граней под разными углами… Всё сверкает, блистает, переливается, вспыхивает… И тишина… Мы как упали на рюкзаки, так часа два любовались чудом среди гор…
– Только ради этого стоило идти корячиться на перевал! – сделал вывод Игорь Ропанов.
Кровожадно-снежный человек
Взяли мы перевал Атласова, вышли на ледник Обручева. Самый большой ледник на хребте Черского. На двенадцать километров тянется. По плану маршрута отсюда мы делали два кольца. В одном месте на леднике есть пятачок, метров сорок квадратных. Вокруг лёд, а здесь единственное каменистое пятно. На нём разбили базовый лагерь, с которого идти на второе кольцо. Предстояло также сделать заброску – спустить в нижнюю точку ледника часть продуктов и вещей, чтобы оттуда начать первое кольцо…
Делая заброску, километра на полтора ушли от лагеря и обнаружили пещеру на склоне. Странно-непонятного происхождения. Ледник, и вдруг в нём пещера. Сама образовалась? Но как? Углубляться в неё не решились. Прикинули: судя по всему – глубокая.
Витя Терёшкин заглянул в неё, покрутился рядом и сделал холодком прошедшее по нервам предположение – снежный человек. Витя был сдвинут на пунктике – внеземные цивилизации, загадки континентов, снежные люди. Читал соответствующую (тогда редкую) литературу и в походах у костра рассказывал о тайнах Земли и Вселенной, в частности, об изысканиях профессора Поршнева, который в шестидесятые годы двадцатого века
вопреки позиции официальной науки занялся проблемой снежного человека, организовывал экспедиции в поисках этого, как он считал, тупикового эволюционного ответвления неандертальцев. По созданной им карте обитания загадочного феномена в Якутии снежный человек или йети тоже был многократно зафиксирован местным населением, а также геологами. Об этом Витя нам все уши прожужжал. Считал своим долгом вечером у костра выдать порцию ужастиков.
Мы высказали сомнение на рукотворное, даже снежнорукое, происхождение пещеры: чё бы отрывать жилище у чёрта на куличках, где, кроме льда и камней, жрать нечего. Витя категорически не согласился:
– Вы рассуждаете по человеческой логике, – пламенно отстаивал версию присутствия рядом с нами таинственного существа, – тогда как йети всегда селится в самых труднодоступных местах!
По поводу якутского снежного человека, попавшего на карту Поршнева, я придерживался более правдоподобного объяснения. В стародавние времена в Якутии, если человека уносило на льдине от посёлка, он не имел права в него возвращаться. Суровый был закон. Приходилось оторвавшемуся от коллектива аборигену жить в одиночку среди дикой природы. А с волками жить – по-волчьи выть: хочешь, не хочешь и сам одичаешь. Терёшкин смеялся над моими объяснениями, называл их бреднями для младших школьников:
– А как же тело этих существ, покрытое шерстью?
Я не стал с Витей спорить… Ему всё равно не докажешь, что столкнись в безлюдном горном месте с человеком, одетым в шкуру, тебе от страха ещё не то померещится…
Вдобавок ко всем странностям обнаружили вблизи пещеры следы, смахивающие на отпечатки человеческой ступни. Точно не скажешь, но очень похоже на след босых ног. Очертания под палящим солнцем размылись, да всё одно без замеров видно – немаленький размер у этой ножки. Даже огромный.
Устраивать дискуссию – снежный человек или какой другой наследил – было некогда. Не за тем пришли. Надо заброску делать. Вниз по леднику на кошках начали спускаться, вдруг опа – красное пятно на льду, кроваво-красное. Витя долго его рассматривал, но от поспешных комментариев воздержался. Молчит как партизан.
Только без его научных выводов в голове у каждого из нас сложилась невесёлая картинка: там странная пещера с отпечатками ног, здесь кровавые пятна. Нет ни костей обглоданных, ни других останков, но пятна характерные. Дальше – больше. Они стали попадаться на всём пути. Идёшь-идёшь – есть! Идёшь-идёшь – снова! Неужели целая трагедия развернулась? И чья эта кровь? Вскорости подозрения вдвое гуще стали. Спускаемся вниз, стоит палатка. Хорошая самодельная палаточка. Два спальника в ней валяются. Именно валяются, скомканные, перекрученные. И никого. И ничего. Ни рюкзаков, ни снаряжения. Пусто. Поорали, покричали. В ответ гнетущая тишина. Обратно идём – тоскливо на душе. Замкнулась логическая цепочка: во льду пещера, на льду кровь и палатка бесхозная… Витя, знаток снежного человека, высказался в его защиту:
– Странно, они обычно кровожадностью не отличаются, тем более людоедством…
На что Яша Цапинский начал ржать. Я, честно скажу, забеспокоился: не крыша ли у бедолаги поехала? Чердачок рвануло, как представил себя в лапах монстра. Он и раньше странно похихикивал на наши разговоры о крови, пролитой на леднике, а тут чуть не падает от хохота.
Яша впервые пошёл в такой сложный поход. Витя Терёшкин всю дорогу над ним подшучивал. При возникновении необходимости что-то принести или совершить другое явно не царское дело, загадочно говорил: «А где у нас молоденький-молоденький, резвенький-резвенький, розовенький-розовенький поросёночек?» Имел при этом в виду Яшу. Этакая дружеская дедовщина.
На хохот Цапинского Витя с испуганным сочувствием произнёс:
– Яша, тебе плохо? Сейчас таблеточку успокоительную дам!
Полез в рюкзак за аптечкой.
– Дураки вы, дураки! – Яша продолжал хохотать над товарищами по походу. – Не нужна мне твоя таблеточка от снежного человека! Крыша моя на месте, не надейтесь, чего и вам желаю! Это не кровь! Так что не писайте кипятком в штаны! Это элементарные водоросли!
– Какие такие водоросли при минусовой температуре льда? – возмутился Витя обвинением в невежестве. И кто обвинял? Самый что ни на есть «розовенький-розовенький».
– Те самые водоросли, что живут во льду! – научно пригвоздил наши страхи Яша.
Яша в отличие от большинства из группы был не технарь. Он на тот момент перешёл на пятый курс пединститута, на географа учился. Говорил уверенно, даже по латыни название водорослей сказал. Короче, убедил. Почесали мы затылки, приободрились. Разве мы против, даже неплохо, что водоросли водятся во льдах. И никто тут никого заживо не кушал.
– А где тогда хозяева палатки? – Терёшкин никак не мог расставаться с волнующей кровь темой снежного человека.
– Я не брал, – ответил Яша.
Посёлок Сасыр
Мы прошли маршрут, вернулись в посёлок. Тоже уникальное место. Основной вид деятельности в Сасыре – разведение чернобурок. Заправлял хозяйством, а практически всем посёлком Валерий Иванович Пак. Кореец. Это был, пожалуй, единственный населённый пункт в Якутии, где местные не пили. Ещё Советский Союз в помине не знал о горбачёвской борьбе за трезвость, здесь таковая поголовно царила без борьбы. Правда, через сорок лет и Сасыр запился до того, что прогремел по интернету чередой самоубийств молодых парней, за один месяц – пять человек. При Паке всё работало, и дисциплину он классно поставил. Начинал в Сасыре после института управляющим зверофермой, а потом его назначили главой хозяйства. Пак разработал и внедрил свою схему производства. «Раз в месяц собираю совещание, – рассказывал, – ставлю задачи и можно не контролировать!» Паку тогда было чуть больше тридцати лет.
В посёлке пять улиц, и вселенная во все стороны – до ближайшего населённого пункта, Усть-Неры, тысяча километров. Только самолётом можно долететь. И не каждый день. Нам повезло, возвращаемся с Хребта Черского, заходим в Сасыр, а в небе снижающийся Ан-2. Класс! Послали гонца на аэродром. Кого – спросите? Само собой, «розовенького поросёночка» Яшу. Но лётчики в отличие от нас не спешили на Большую землю. Надумали порыбачить – хариуса половить. Сказали Яше: «Вылет завтра».
Завтра так завтра. Тоже неплохо. Оказалось – плохо. Ночью, размывая полосу, пошёл ливень. Ох, лётчики потом сокрушались, зачем сразу не улетели. Дождь зарядил на пять дней. Ан-2 не всепогодный истребитель, и взлётно-посадочная полоса в Сасыре не бетонка.
В ожидании погоды надо как-то развлекаться. Местная культура могла предложить один вид отдыха – кино. Лётчики доставили в клуб новый фильм. Как сейчас помню его замысловатое название «Когда женщина садится в седло». Про героическую борьбу с басмачами на заре советской власти. В зале якуты, якутки. По ходу фильма идёт жёсткий эпизод, сродни знаменитым кадрам из «Белого солнца пустыни». Парня злые басмачи зарывают по горло в песок. Зал горячо переживает, якутки начинают плакать. Кино не больно мне понравилось. Но на следующий день снова эта самая женщина «садится в седло». Кинопрокат Усть-Неры послал с лётчиками всего один фильм. Нет бы штук несколько, ведь не каждый день в Сасыр авиарейс. Да у кинопроката свой расклад. На второй день я не пошёл в клуб, на третий, думаю, надо чем-то себя занимать. В зале та же публика, другой откуда взяться? Сасырцам, как и мне, тоже нечего вечером делать. На экране в третий раз за последние три дня молодого борца за светлое будущее басмачи зарывают по горло в песок, обрекая на жуткую смерть. И снова те же якутки льют слёзы над злой участью парня…
Никакого телевидения в посёлке не было. Электричеством два мощных дизеля сеансами снабжали дома. Утром часа на два его давали и вечером примерно на такой же период времени. Однако в каждом доме (кстати, они не закрывались в принципе) стоял холодильник. У якута спрашиваю:
– Зачем вам холодильники? Электричества всё рано нет, ведь это напрасно потраченные деньги и целая эпопея доставить бесполезный ящик с Большой земли!
– Модно! – лаконично прозвучало в ответ.
И возразить нечем. Логика и мода – песни из разных опер.
В посёлке чин по чину имелась столовая. В первый день мы приходим – оленина, на второй – она же в меню, и на третий. Да что ты будешь делать? У меня изжога от такого разнообразия. Девчоночки-якуточки поварят.
– Девочки, – спрашиваю со слезой, – а нельзя ли что-нибудь другое приготовить, рыбки например?
Они мило улыбаются:
– Мы готовим из того, что в кладовке есть. Рыбы нет. Сходите на озёра наловите, мы вам поджарим.
– А на чё ловится?
– На красную тряпочку.
– Что значит, «на тряпочку»?
Я подумал, девчонки разводят меня.
– Возле крючка, – объяснили принцип местной рыбалки, – красную тряпочку привязываете…
В озёрах щука, окунь в изобилии. Но эту рыбу они считают за сорную. Хариус употребляют, щуку, окунь – собакам.
Я, конечно, не собака, но щуку и окуня за милую душу ем, даже не утомлённый до отвращения олениной. Тем более закормленный ею. Двинул на рыбалку. Наш главный рыбак Игорь Ропанов не захотел на красную тряпочку ловить.
– Дурота какая-то! – отреагировал на сасырскую наживку и отказался идти со мной.
Я и сам с подозрением отнёсся к тряпочной наживке. Чё там девчонки могут понимать, может, слышали звон, да не знают толком чё к чему. На всякий случай попросил у них кусочек оленины. Что окунь, что щука – хищники, им мясо подавай.
Для эксперимента на один крючок красную тряпочку привязал, на другой – оленину. Забрасываю, и тут же бешеная поклёвка, вытаскиваю – на обоих крючках по окуню, граммов на сто пятьдесят каждый. В азарте ещё раз мясо насадил. Опять парчатка. И думаю, а чё это я с олениной парюсь, её каждый раз цеплять на крючок надо, тогда как тряпочка многоразовая наживка.
Игорь с завистью посмотрел на мой улов и не поверил:
– Да ладно врать-то, на тряпочку он ловил. Я же слышал, как в столовой оленину просил.
Девчонки хорошо пожарили рыбу, и мы наконец-то сделали перерыв в оленьем рационе. Игорь, кстати, тоже не отказался от окуньков, на тряпочку пойманных.
Я ведь и на пятый день заглянул в клуб. Не так фильм посмотреть, как реакцию зала. Якутки снова оплакивали судьбу парня, голова которого обречённо торчала из песка.
Они бы и на шестой обливались слезами, да небо прояснилось, лётчики кинулись заводить Ан-2. С первого раза взлететь не вышло. Самолёт, разгоняясь, провалился. Полосу, щебёнкой посыпанную, расквасило, в ней оказалась скрытая промоина, в которую «Аннушка» ухнула одним колесом на скорости. Хорошо, винт не погнули. Всем посёлком (такое событие в их однообразной жизни!) вытаскивали из ямы воздушное судно, лошадей пригнали… Вызволили самолёт, полосу подровняли, взлетели.
После похода всегда хорошо в самолёте, мотор поёт, на душе песня – домой, домой!
Вернулся в Омск, окунулся в производственные будни, но мыслишка нет-нет, да кольнёт: не наврал ли Яша Цапинский о водорослях, преспокойненько живущих на леднике? В отместку за «поросёночка» научно присочинил. Как ни крути – куда-то ведь подевались те двое из палатки. Мы ни самих, ни их следов не встретили ни на первом кольце, ни на втором, ни на обратном пути в посёлок. Более чем странно. Мысли, как известно, притягивают обстоятельства – попадается мне журнал «Наука и жизнь». Подписчиком не был, читал от случая к случаю. Начинаю листать, ба – статья про ледниковые водоросли. Из неё следует, что на самом деле имеется такой ботанический феномен, причём, самых разных оттенков – не только красные, что нас ввели в кровавое заблуждение, бывают фиолетовые, синие… Не наврал Яша, не наврал «поросёночек»…
Но с теми двумя пропавшими братьями-туристами как, спрашивается в задачке, быть-поступить?.. Вот они в палатке ночевали, а вот исчезли бесследно…
Тункинские альпы
Это же песня! Вслушайтесь: Бурятия, Восточные Саяны, Тункинские Альпы, перевалы – Шумак, Аршан, Грозный, река Китой! Музыка! Туда-то мы и зарядили пешую «пятёрку». Компания подобралась лучше не надо: Гоша Сараев, Серёга Иванцов, Игорь Ропанов, Петя Альбинович, Лена Бутакова… Класс!
Разработали отличный маршрут: длинный, сложный, два мощных кольца… Само собой: всё своё тащишь на горбу – продукты, палатки, снаряжение… Верёвок набрали – основные, вспомогательные… Как без них в горах?.. Погоняли по кругу вопрос «брать, не брать крючья?» Решили в итоге прений: зачем лишняя тяжесть? Сколько раз мы те крючья вспоминали, когда животы подводило от голода. Рюкзаки получились за пятьдесят килограммов. Стартовали из посёлка Нилова Пустынь. Места первозданные, природа –
смотреть и плакать от восторга: отроги Восточных Саян, тайга со всеми красками и ароматами… Но всё мимо кассы, как говорил Игорь Ропанов. Перед взором наших очей с утра до вечера один вид –
тупорылые носки собственных ботинок. Не до красот, если тебя рюкзаком к земле плющит. Два дня прошли в состоянии вьючной скотины, и вдруг колокольчики за спиной задзиньдзинькали. Подъезжает на лошади бурят.
– Я – Лёня, – представился, дурашливо козырнув двумя пальцами.
Весёлый бурят ехал верхами на шумакские минеральные источники. В поводу было ещё три лошади. Практически порожняком передвигался. Мешок картошки и два бидончика сливочного масла –
весь груз каравана. Лёня предложил пополнить его поклажу нашими рюкзаками. Мы не стали кочевряжиться. Разглядывая носки ботинок, тоскливо думали, что эта безрадостная картина будет радовать взор ещё как минимум до шумакских источников. А это сорок километров. Причём тринадцать из них – перевал Шумак, по трудности категории 1А. Не из простых…
Лёня выдвинул следующие условия товарищеской помощи: он довозит до шумакских источников наши рюкзаки, за что мы платим пять рублей деньгами и натурпродуктом – фляжка спирта. Расчёт на старте.
– Да без проблем! – хором согласились мы с Лёней.
За всё надо платить, в том числе за красоты, которыми можно любоваться, подняв голову от ботинок. Ударили по рукам, при этом отслюнили буряту пять советских рублей (тогда они были равны бутылке водки плюс колбаса на закусь), перелили спирт в его посудину. Лёня заметно повеселел, вдохнув пары булькающей жидкости:
– Медицина!
– Само собой, не гидролизный!
Погрузив рюкзаки на лошадок, Лёня озвучил ещё одно условие их доставки:
– Со мной поедет кто-то из вас для подстраховки, чтобы потом без обид.
Мы совещались недолго. Среди нас была дама, Лена Бутакова, да её всяко-разно не доверили бы Лёне, к тому же он затребовал:
– Только мужчина!
Определили в караванщики Гошу Сараева, он успел сбить ногу новыми ботинками, прихрамывал.
Караван, цокая копытами, ушёл, мы зашагали по тропе, как туристы-матрасники с профсоюзной турбазы: посмотрите направо, посмотрите налево…
– Как-то даже непривычно! – восторженно произнёс Игорь Ропанов, поведя свободными плечами. – Прям чего-то не хватает.
– Могу сесть на тебя верхом, – предложил исправить нехватку Серёга Иванцов, – сразу станет привычно!