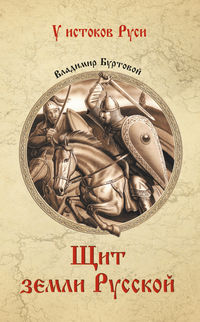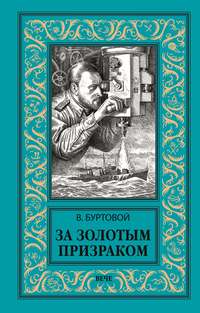Полная версия
Беглая княжна Мышецкая
Тяжко было детям боярским в остроге, но они бились, питая надежду на выручку из кремля либо на рейтарские полки воеводы Борятинского. Но надежды эти оказались зыбкими, как тот пороховой дым, которым встретили синбирские стрельцы атакующих острог казаков…
Не легче было и самому воеводе Юрию Никитичу. Дрогнули рейтары, не выдержали казачьего натиска, к тому же стрельцы московского полка, когда увидели, что в острог ворвались разинцы, попятились под защиту пушек кремля и обнажили правый фланг рейтарских полков. Туда ворвались конные казаки и стрельцы, с тыла налетели на обоз, прижали к телегам немногих пеших рейтар.
Сам Юрий Никитич, не сумев уйти на пораненном коне вместе со своими всадниками, был сбит на сырую землю огромным по росту конным стрельцом, который заломил ему руки за спину и привязал к тележному колесу накрепко.
– Попался, боров толстобрюхий, попался! Три ежа тебе под зад! – ликовал конный стрелец. – Коль не заупрямится воевода Милославский, так обменяем мы тебя на нашего дружка Никиту! А покудова сиди здесь смирно и не дергайся! – и рябой стрелец так двинул кулачищем в живот, что Юрий Никитич подумал от боли, что ему всадили в чрево огромный осиновый кол, какой втыкают в грудь страшным кладбищенским нечистям. Стрелец вспрыгнул в седло, ударил коня и погнал его вдогон своим дружкам, которые теснили рейтар, отходивших к берегу Свияги, подальше от Синбирска.
Вслед за конными на обоз набежали пешие разинцы, крича для собственной бодрости боевой клич казаков «Неча-ай!». Кто издали стрелял в рейтар из ружья, а кто впопыхах подхватывал брошенное врагами оружие и бежал к дерущимся у опушки глухого леса над Свиягой, окутанной утренним туманом, который густо смешивался с пороховым дымом.
Неожиданно, словно взглядом запнувшись о воеводу, перед ним остановился в добротном кафтане ратник, скорее, из детей боярских, нежели из стрельцов. Воровато оглянувшись, он ловко срезал веревку с рук воеводы и прошептал:
– Беги, князюшка Юрий Никитич! Негоже войску без головы быть в такое лихое время! Беги, вона и конь без седла – хоть охлябь[5], да верхом, все вернее будет! Только скинь свой наряд, а этот, мужицкий кафтан обозного, надень!
Воеводу князя Юрия Никитича дважды уговаривать во собственное спасение не надо было, тем паче речь шла о смерти в руках мятежной вольницы. Переодеваясь, торопливо спросил:
– Кто же ты, человече? – а сам едва успевал отдышаться после удара в живот злопакостного стрельца с рябым лицом. – И как ты у воров оказался? Своей ли волей, по неволе ли? – Торопливо просунул руки в тесноватый, пахнущий дымом костра кафтан с рваной подмышкой, рассматривая долголицего с морщинами у рта и у глаз человека. Видно было, этот человек за сохой по пашне не хаживал, да и в лесу дрова топором не валил.
– Перед тобой, князь Юрий Никитич, горемычный воевода камышинский Ефим Панов, – и поклонился еле приметно, чтоб пробегавшим мимо стрельцам не показалось подозрительным.
– Как же ты вкупе с ворами оказался, воевода? – удивился воевода Борятинский, с укором разглядывая рано поседевшего Ефима Панова – борода и виски сплошь белые, а ему едва ли сорок лет исполнилось.
– Сладка ли жизнь в неволе, князь Юрий Никитич? От горя и седой волос раньше срока созрел!
– Так давай вместе и бежим! Скакнем в кусты, да и будь здоров, атаман воровской!
– Казаки у меня дочку сманули! Ушла с их атаманишкой Васькой Серебряковым против воли родного отца! Вокруг куста ракитного венчана по казацкому обычаю! Можно ли такое снести смиренно отцу, который в ней души не чаял с малых лет? Не-ет, придет и мой час отвести искалеченную душу… Есть у меня верные люди средь бывших московских стрельцов, к Стеньке еще в Царицыне примкнувших по великой глупости. Умыслили мы Стеньку ухватить и в Москву живьем привезти. А не удастся живьем, так хоть воровскую голову в мешке… Беги, князь, авось свидемся!
– Добро же, помогай вам Бог в святом деле! Попомню я пред государем твою верную службу, – пообещал воевода Юрий Никитич, высматривая путь, как ему удобнее выбраться из обоза.
– Хотя бы имя мое анафеме не предали, будто ушел я с вором своей волей и служу ему с охотою, – попросил камышинский воевода, проворно подхватил свой бердыш – к обозу подбегали еще стрельцы из войска атамана Разина – и побежал вслед за пешими стрельцами.
Следом же, выбрав удачный момент, и воевода Борятинский верхом на голой спине лошади, переодетый в кафтан обозного возчика, неприметно поскакал в сторону от казаков.
А у разинских конников словно крылья за плечами выросли! Они настигали уходящих рейтар, раз за разом схватывались с ними, рубили, теряя в сече то одного своего сотоварища, то другого…
– Миша-а, – прокричал сбоку неутомимый Еремей Потапов, – гляди, походный атаман знаки подает!
Сотник, заметив знак атамана Лазарки Тимофеева попридержать коней, зычно крикнул своим конным стрельцам:
– Осади-и! Осади, ребята! Всем собраться под прапорец! Не зарывайтесь далее! Видите, запорожцы атамана Бобы уже поворотили от Свияги! Отходи к обозу! Нас походный атаман там ждет!
Подъехали разгоряченные боем друзья, а более всего сиял Еремей Потапов от счастья, выпавшего на его долю словить самого воеводу Борятинского. Лицо его сияло радостью, хотя и был задет рейтарской пикой в левую ногу и теперь держал кровоточащее место ладонью. Рядом с Еремеем ехал рыжий, с бесцветными бровями Гришка Суханов и настаивал, что надо спешно перевязать рану.
– Что с того – невелика! – беспокоился Гришка, светло-желтые глаза его глядели строго. – Присыпь толченым кровавником, завяжи, иначе попадет зараза, загноится!
Завидев походного атамана Лазарку, который и в седле сидел как-то боком, левым вздернутым плечом вперед – это после одной драки в крымском набеге, когда татарское копье ударило ему в спину и покалечило, – сотник Михаил Хомутов издали порадовал Тимофеева вестью, которой и Степан Тимофеевич будет несказанно рад:
– Удача, атаман Лазарка! Мой стрелец ухватил воеводу Борятинского в плен! Цел в руки дался, изверг, не посмел супротив Еремки Потапова саблей биться!
Лазарка Тимофеев весь засиял от такой новости, послал нарочного к атаману Разину с этой радостной вестью и приблизился к самарским стрельцам в окружении возбужденных, еще не остывших от конного сражения казаков.
– Где ты, сотник, воеводу видел? Как дело было? – спросил атаман Лазарка, натягивая повод, чтобы конь успокоился и не перебирал ногами.
– Да как же! – весело отозвался Михаил Хомутов, полыхая румянцем чистого лица, словно вдоволь набегался по морозному воздуху. – Погнали мы с полета поместных да детей боярских, вбили в обоз… Тут и началась сабельная сеча, кто на кого успел наскочить! Так он, Еремка Потапов, под воеводой коня копьем поранил и завалил на землю! Воевода ахнулся из седла да и угодил в лужу. Встал – хуже в аду не бывает! Еремка его вожжей к возу приторочил, а сам в седло метнулся нас догонять!
– Так ли было, стрелец? – Левый длинный ус атамана Лазарки задергался, едва радостная улыбка раздвинула жесткие, на ветрах потрескавшиеся губы – после смерти любимого меньшого брата Омельки в Астрахани, ходившего к воеводе Прозоровскому переговорщиком от атамана Разина, походного атамана редко когда видели улыбающимся.
– Да, так, атаманушка! Его грязью и себе руки измарал. Хрипел воевода от злости, да я утишил его несильным тычком в живот, сказал, что хотим поменять князя на нашего дружка Никиту Кузнецова, чтоб вызволить его из пытошной.
– Добро. Веди к тому месту. У вора ремесло на лбу не писано, да воеводскую повадку нам не в первый раз видеть, опознаем лютого зверя по клыкам!
Проехали к лесочку, в полуверсте от реки Свияги, на опушке которого у воеводы Борятинского стояла часть обоза – пожитки ратных людей и значительная часть воинского припаса были размещены в остроге, – а воеводы и след простыл! Еремей, словно громом убитый, хромая из-за раны в ноге, топтался у знакомого воза со сломанной правой оглоблей, потом поднял из грязи обрезок вожжи. Подъехал тут и атаман Разин, оповещенный о пленении воеводы Борятинского одним из самарских конных стрельцов.
– Эх, голова – два уха! – укорил обескураженного стрельца Степан Тимофеевич. – Как же ты его вязал, что он у тебя сошел беспомешно, а?
Рябое лицо Еремея покривилось от досады, он тряхнул вожжей так, будто тряс сбежавшего воеводу за ворот кафтана.
– Сам не сошел бы, батюшка атаман, три ежа ему под зад! Руки воеводе я вязал порознь колесного обода! Ножиком вожжа срезана, один конец на колесе, другой в грязь втоптан. А вон под возом и кафтан воеводы валяется. Переодетым сбежал, а помог ему лихой человечишко!
– Кто же спустил? – Атаман Разин нахмурил брови, и его красивое чернобородое лицо разом окаменело от подступившего гнева. Он резко повернулся в седле. – Лазарка, поспрошай пеших казаков, кои за твоими конными в обоз ворвались. Может, средь них изменщик укрылся? Или кого в нетчиках объявите. Еще среди пленных посмотрите, не переодетым ли сидит, затаившись мышью в хозяйском сундуке?
– Воеводу бы сразу изобличили, – досадливо махнул рукой Лазарка Тимофеев и пожал плечами, сгоняя мышечную усталость спины. – Эх, не так жаль воеводы, как жаль, что не сможем обменять нашего посланца Никиту! Да еще изменщик в стане завелся, один ли?
– А ежели он не сошел с воеводой, а тут остался, – неожиданная догадка озадачила Михаила Хомутова, и он с опаской посмотрел на многотысячную толпу пешего войска, – и злое дело какое умыслили наши недруги?
– Пустим по куреням верных послухов, дознаемся, – подал злой голос из-за спины атамана Разина Ивашка Чикмаз. – Мне бы только за волосок ухватиться, так и самой голове не уцелеть!
Лазарка Тимофеев потрепал по плечу раздосадованного Еремея Потапова, строго-настрого повелел всем молчать о конфузе с воеводой, чтобы зря не полошить казаков, заставил сотника Хомутова перевязать рану Еремею, дал знак, и конные казаки вслед за атаманом Разиным поехали к острогу. И тихо переговаривались между собой, всяк по-своему строили догадки – кто же разрезал вожжу и спустил воеводу? И коня, наверное, дал? Не пеши же Борятинский шмыгнул в кусты и так ловко ушел, пока казаки с рейтарами бились на берегу Свияги!
Под ликующие крики синбирян войско Степана Тимофеевича вошло в город, в котором все еще в пяти или шести местах продолжали гореть и дымиться дома самых ненавистных приказных и ярыжек. Навстречу атаману впереди восторженной толпы горожан вышел улыбающийся красавец-стрелец, в котором атаман признал пронырливого воеводского денщика. Тимошка с оцарапанной щекой – не иначе в сабельной сече получил первую в жизни ратную отметину! – вел за уздечку великолепного, в серых яблоках коня под дорогим седлом.
– Прими, батюшка атаман Степан Тимофеевич, этого скакуна. И пусть он несет тебя счастливо до златоглавой Москвы! – громко произнес Тимошка и поясно поклонился.
– Вот так конь! – залюбовался атаман Разин и карие его глаза от восхищения прищурились. Он лихо на затылок заломил атласную шапку, обнажив черные кудри. Не слезая со своего белого коня, похлопал нового по горячей шее – жеребец вскинул голову, косился на незнакомых людей и ржал, не видя хозяина. – Чей был красавец?
– Одного татарского мурзы, который, должно, в рейтарах служил у воеводы Борятинского, – ответил Тимошка, смело глядя в лицо головного атамана, и вдруг радостный крик из первых казацких рядов заставил многих встрепенуться:
– Никита-а, кунак! Живо-ой! – с каурого жеребца на землю соскочил высоченный Ибрагим – в толпе синбирских стрельцов он увидел протискивающегося к атаману Никиту Кузнецова.
– Где? – не веря услышанному, тут же вскрикнул Михаил Хомутов. Он с самарскими конными стрельцами стоял не в первых рядах за атаманом Разиным, потому и не видел, что делается там, где были встречающие войско синбиряне. Еремей Потапов поднялся в стременах, пытаясь различить пропавшего друга, и по суматохе, поднятой вокруг атамана и Ибрагима, понял, что каким-то неизъяснимым чудом их Никита оказался не в пытошной у воеводы Милославского, а в остроге и на воле!
– Еремка, подержи моего коня! Я к Никитке протиснусь! – Михаил соскочил на землю, протолкался среди конных казаков, и когда сияющий Никита на миг был выпущен Ибрагимом, сотник тут же стиснул его в своих объятиях.
– Живо-ой, живо-ой, братишка! – едва не в полный голос вопил Михаил, а тут и походный атаман Роман Тимофеев в своем атласном синем халате соскочил с коня, мнет Никиту, так что тот и рта открыть не может, только успевает морщиться от боли в вывернутых на дыбе плечах да одаривать сияющими взглядами верных друзей.
Степан Тимофеевич, улыбаясь, следил за этой кутерьмой из седла, потом подал и свой голос:
– Жив наш посланец – то диво! Сказывал нам Игнат, что ухватили тебя воеводские ярыжки, думал, на дыбе тебя пытают? А вышло так, что злой рок не по стрелецкую голову рыскал?
Никита Кузнецов улыбнулся, обозначив у рта две глубокие морщины, поднял на атамана синие, измученные болью, но счастливые глаза, потянул к себе за рукав смутившегося Тимошку Лосева.
– Не счастливый рок, а вот этот смелый отрок спас меня, атаман батюшка. Большой хитростью обманул караульщиков и вывел из пытошной в острог. И у здешнего нашего доброго помощника синбирского казака Федьки Тюменева укрыл до рассвета. А с началом приступа к острогу – мы вместе бились… хотя какой из меня ратник, когда руки в плечах едва слушаются, жилы все выкручены…
– Добро, хвалю, Тимошка! Был ты у воеводы денщиком, отныне беру тебя к себе вестовым! Вечером жду вас с Никитой, сотник Хомутов, в своем шатре. И того синбирского казака Федьку приведите, порасспрошу о тутошних людишках…
Никита Кузнецов не утерпел, спросил:
– Батюшка атаман, так Игнат Говорухин жив? Не побит подлыми ярыжками? – А в глазах понятное недоверие – сам же видел, как дернулся в челне Игнат и навзничь упал…
– Жив, но поранен. Навестите его, он на струге. Сотник Хомутов укажет, на каком. А это кто у приказной избы толчется? – и атаман плетью указал на толпу разномастного люда.
– Этих побрали в плен, батюшка Степан Тимофеевич, – пояснил Василий Серебряков, остановив коня напротив повязанных и понурых людей. – До трех сот детей боярских, поместных дворян да с полста московских стрельцов с ними.
Степан Тимофеевич сурово глянул на удрученных недавних супротивников, спросил всех разом:
– Где служилый голова ваш Гаврила Жуков?
– Нету его, посекли, – буркнул ближний из пленных детей боярских, придерживая выпростанную из кафтана пораненную и наспех перевязанную правую руку.
– Кто же посек вашего командира?
– Сабля посекла, батюшка атаман, – загадочно ответил за раненого Тимошка Лосев. Атаман Разин понимающе дернул черной бровью, сказал Лазарке Тимофееву, чтоб пленных свели в одно место, накормили, позвали бы к ним старух-лекарок обмыть и перевязать раненых. Да никакого насилия не чинить до особого расспроса каждого, чтоб знать, сколь кто виновен.
– Что с ними возиться! – громко сказал нетерпеливый Ивашка Чикмаз, ощерив острые, как у дикой рыси, зубы и подергивая ноздрями, словно тосковала душа ненасытная по запаху горячей крови. – Посечь им башки – и вся недолга!
Пленные в страхе ужались в плотную кучу – слух о кровавом стрелецком побитии в Яицком нижнем городке ведом был и здесь, в Синбирске. Атаман Разин сурово глянул на Чикмаза, который и руку на саблю уже наложил, готовый выхватить булат и обагрить его кровью, осадил его строгим голосом:
– Когда бой идет и враг твой с оружием бьется – тогда секи, ежели ловчее окажешься! А теперь они безоружны, сердце остыло от драки, как теперь сечь? Чать, не капуста на плечах у них! Отвыкай, Ивашка, от гулевских повадок, не на крымских татар мы налетом въехали пометить за русскую кровь! Так токмо князь воевода Прозоровский сек наших пленных казаков в Астрахани, почти год продержав в пытошных!
– И тутошние воеводы ничем не краше! И они будут нас сечь не хуже, не приведи Господь им в руки попасть! – упрямо твердил свое Ивашка Чикмаз, не понимая мягкосердечия головного атамана.
– А ты живьем в драке не давайся! – засмеялся Степан Тимофеевич и уставил удивленный взгляд на бородатого, с бельмом на левом глазу посадского, который неожиданно принародно упал на колени, под копыта атаманова коня, так что тот фыркнул и ступил назад, несколько раз мотнул головой, словно от посадского нестерпимо пахло чем-то несуразным.
– Чего тебе, борода лопатою? – удивился атаман, успокаивая коня ладонью по шее.
– Атаман – свет-батюшка! Прикажи своим казакам наших девок не губить, женок не бесчестить! – завопил посадский и бородищей ткнулся в мокрую, истоптанную конями и людьми землю.
У Степана Тимофеевича брови изогнулись дугой и скакнули вверх, он заломил шапку набок, словно это мешало ему лучше слышать, что именно говорит этот странный старик.
– Ты что мелешь, старый дурень? Богу молись, да черту не перечь, чтоб на рогах не очутиться! Где это видано, чтоб мои казаки, войдя в город, так-то бесчинствовали? Иное дело, ежели какая вдовица не против, тут и на казака запрета нет!
– Дак вот в Самаре повелел же ты воеводскую женку порохом начинить во все неназываемые вслух места да и взорвать несчастную.
– Что-о-о? – Степан Тимофеевич вдруг стал лицом белее своего коня и минуту сидел в седле с открытым ртом, словно негаданная стужа вмиг заморозила его своим ледяным дыханием. – Что-о ты сказал, козлиная твоя борода? – и рука медленно потянула из ножен саблю, еще не отмытую от крови недавней сечи.
– Не я это сказал, батюшка… не я, видит Бог! – торопливо, поняв, что смерть в трех шагах от его головы стоит с поднятой косой, закричал посадский и махнул рукой себе куда-то за спину, а сам по возможности отсунулся на коленях от копыт атаманова коня. – Торговый муж прибежал с Самары! Не далее как вчера вечером на торге принародно такие страшные слова о тебе сказывал! Еще звал синбирских посадских тебе, атаман – свет-батюшка, супротивничать, чтоб и с нашими дочками да женками такого ужаса не сотворилось… Прости, коль со страху и я не так что молвил – две дочки на выданье дома в сыром погребе схоронились, лягушек пуще твоих казаков страшатся! – и вновь трижды бородой к земле приложился.
Лицо атамана из белого стало пунцовым, от прихлынувшей в голову крови даже белки глаз покрылись красной сеткой.
– Сыскать… – только и выдохнул из могучей груди атаман и в могильной тишине площади, над которой поверх крыш и близких церковных куполов клубами валил дым недалекого пожара, остался сидеть в седле, не поднимая глаз от конской гривы.
Несколько десятков посадских со стрельцами кинулись на поиски многим знакомого самарского гостя, сыскали его на постое в трактире, скрутили и крепко помяли, пока, упиравшегося, тащили на городскую площадь к приказной избе. Атаман Разин в гнетущей тишине медленно поднимал глаза, и так же медленно валился на колени, дородный в чреве, с выпуклыми серыми глазами пышнобородый человек в дорогом кафтане.
– Скажись пред синбирским людом, подлая твоя душа, кто и откуда, чтоб они знали и плевали вослед твоим детям! – с большим трудом сдерживая себя, спросил атаман Разин. Михаил Хомутов и стоявший рядом с ним Никита Кузнецов узнали самарского торгового человека из посадских Фому Кучина.
– Прости, атаман, за Христа ради, бес попутал! – с хрипом вырвалось из горла поверженного на колени Кучина. За спиной, с саблей наголо, встал Ивашка Чикмаз, надеясь, что хоть этого злоехидного человека отдадут ему в руки.
– Как звать твоего беса? – рыкнул Ивашка и концом сабли двинул Фому в голову, отчего на землю свалилась дорогая кунья шапка.
Кучин не посмел даже руку к ней протянуть.
– Князь воевода Иван Богданович денег дал и велел на посаде нелепицу про атамана и казачье воинство сказывать… Чтоб устрашить простолюдинов и стрельцов. Каюсь, народ, прости скаредную душу, за серебро продал себя бесу…
– А теперь поведай синбирянам, как в Самаре было! – повелел атаман, понемногу отходя от приступа гнева, когда самолично едва не срубил голову этому подлому человеку.
– Лжу я вам говорил, люди! Голую лжу по наущению князя Милославского… На Самаре воевода Алфимов без женки вовсе был, зато вот у него, у сотника Хомутова, – и Фома Кучин указал на Михаила, который от этого напоминания побледнел и руки стиснул до боли, чтобы не бежать прочь от этого места, – силой хотел взять женку. Да Аннушка не далась. Тогда воевода Алфимов смерти ее предал, за что и был самарскими жителями посажен в воду. Иных детей боярских и рейтар на сражении побили самарские же стрельцы, выместив злость на них за безвинно посаженных на цепи своих стрелецких командиров… А девок и баб не сильничали… Прости, народ, прости меня, окаянного, – Фома Кучин взвыл, на коленях повернулся лицом к церкви, которая стояла напротив приказной избы, начал креститься. Из выпуклых глаз потекли обильные слезы, но жалости они у посадских не вызывали, только некоторые из стариков, из сострадания, издали крестили его, не произнося ни слова. Зато молодые посадские, обрадованные, что их женкам ничто не угрожает, ругали зло и громко:
– Каков Ирод! Хуже Иуды предал атамана!
– Послать его на виселицу! Пущай воевода Милославский порадуется, глядя на очернителя, им посланного на погибель!
– Начинить ему самому толстое брюхо порохом да и рвануть, чтоб кишки до воеводы в кремль долетели!
Степан Тимофеевич поднял руку, утишил народ. Спросил громко:
– Ведомо ли вам, люди, и вам, новоприбывшим в наше войско стрельцам синбирским, каков у нас закон, ежели казак что сворует у своего или у чужого, то без разницы, альбо утаит добычу от войскового дувана?
– Укажи и нам, батюшка атаман, на тот закон! – попросил кто-то из людей гулящих.
– А таков: рубаху задираем к голове, набиваем песком по самые уши, завязываем узлом и – гуляй по Волге до самого Хвалынского моря! Каков закон, а?
– Ох лихо! – присвистнул гулящий, ощерив крепкие зубы, и суконную шапку прихлопнул по самые уши. – Не схочешь хватать чужого калача!
– Чтоб все знали! И чтоб, сотворив поруху войску или кому из горожан, потом не открещивались неведением! Потому как встали мы, казаки донские, запорожские и яицкие, да стрельцы понизовые и поволжские супротив зловредных бояр-притеснителей, за святую веру и за великого государя и царя Алексея Михайловича, которому те злопакостные бояре мешают праведно править своим народом! И в защиту люда опального и кабального, за чернь городскую и бедноту гулящую и бездомную! Ежели что и взято нами с бою у бояр и у поместных служилых людей, так то идет в войсковую казну, казакам на жалованье, пораненным на прокорм дома. И не в том суть, что один на коне был, а другой на струге у весла сидел и в бою не был, у нас все равные. Старые казаки это знают, я новопришлым сказываю. Вот кличут бояре московские нас ворами да разбойниками, а сами грабят и разоряют крестьян и посадских похлеще лесной братии! Вам, браты синбирские, – возвысил голос Степан Тимофеевич, – земной поклон от всего великого войска Донского и Яицкого и от царевича Алексея, который в струге царском идет с нами к своему родителю с жалобой на злых бояр, умысливших погубить наследника царского престола, чтоб сызнова на Руси затеять смуту, как то было по смерти царя Федора Ивановича! Поклон вам за то, что не стали супротивничать, а своих исконных притеснителей побили и город нам сдали! Придет час, и будет держать ответ перед вами и ваш воевода Ивашка Милославский, а вы ему свои обиды будете сказывать. И вам его судьбу решать, а не нам, людям пришлым!
Синбирский люд ответил одобрительным гулом. И как бы в ответ с кремлевской стены бухнули пушки: стрелял воевода по острогу больше с досады, толку в той стрельбе было мало.
– Услыхал воевода – засвербело в носу, прочихивается!
– Ништо-о, скоро так прочихается, что голова кругом пойдет!
– Кобыла с волком тягалась – хвост да грива остались! Так-то и с нашим воеводой будет!
Степан Тимофеевич отыскал взглядом походного атамана Романа Тимофеева, велел строго:
– Сесть тебе, Ромашка, со своими казаками в остроге и за воеводой догляд иметь неустанный. Ныне войску отдых, а поутру за дело браться. Надобно узнать, далеко ли отбежал воевода Борятинский да какие силы при нем остались.
– А с этой ехидной что делать? – напомнил Ивашка Чикмаз и саблей ткнул в спину Фоме Кучину. – Снести башку?
– Он честь мою украл у народа. А я сказывал вам, люди, что делают казаки с такими татями!
– В воду татя!
– Блошливую одежонку прочь с тела в костер, пусть горит заедино с кусачей тварью!
– Смерть псу воеводскому!
Обреченного Фому Кучина мигом раздели до рубахи и с улюлюканьем потащили на волжский берег…
Михаил еще раз обнял Никиту, потом взял Ибрагима за руку.
– Идемте, братки, к моим казакам-стрельцам, соберемся в кучу, пусть Никита порасскажет, что же с ним случилось здесь, пока мы приступ делали. Вижу, не мимо нам с тобой княжна Лукерья ворожила перед синбирским походом! В который раз ты целым из беды выскочил… Как они там, в Самаре, наши милые женушки? – и смутился – впервые с языка такое сорвалось после гибели Анницы, впервые вслух назвал княжну Лушу своей женкой, хотя и не венчанной и не целованной…