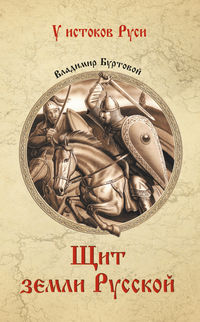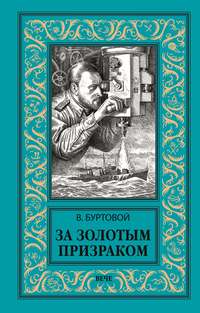Полная версия
Беглая княжна Мышецкая
– Похвально, похвально. Я доволен твоей службишкой, Афоня! Вижу, пострадал! Вона, синяк какой… Не уберегся.
Афонька осторожно потрогал припухший левый глаз – синяк виден даже из-под черной повязки, которую он носил на лице ради изменения своего облика, опасаясь за свою жизнь от рук пришедших к Синбирску самарян, особенно от сотника Михаила Хомутова – ведь это он, Афонька, был с воеводой Алфимовым на подворье сотника, когда его хозяин прокрался в горницу к Аннушке Хомутовой в надежде сломить ее к блуду, да не смогши этого добиться, кинжалом заколол красавицу. Разбой этот открылся, воеводу Алфимова самаряне утопили, а Афонька счастливо сошел из Самары, но страх кары, словно тень, постоянно при нем…
– Силен и зверолют тот вор Никитка Кузнецов. Кабы не грянули из засады, не сдюжили бы мы с ними в открытой драке. С рассветом надобно бы, батюшка Иван Богданович, послать стрельцов по Волге, сыскать уплывший челн и Игнатку Говорухина. Вдруг да не до смерти бит? Знавал я его – живуч не в меру сей охотник на волков! Один раз из-под павшего на него медведя счастливо выдрался!
Иван Богданович согласно кивнул головой, пошарил в кармане, не вынимая руки, набрал пять рублей серебром, брякнул деньги на стол и указал на них пальцем:
– Возьми за старание, Афонька! Бунт воровской утишится, тебе рублики сгодятся для обустройства нового дома и семьи. А теперь иди отдыхай, а я тут поразмыслю, что далее делать.
– Прости, батюшка князь Иван Богданович, что лезу к тебе со своими глупыми советами…
– Говори, – разрешил воевода. «Ум бороды не ждет, от роду дается», – подумал Иван Богданович. Он видел, что не так уж и глуп этот холоп, послушать будет нелишне.
– Надобно того вора Никитку поспрашать безотлагательно. Может статься, что под пыткой назовет изменщиков из синбирян, ежели таковых успели сыскать эти разинские подлазчики. И отловить, покудова какой порухи великому государю и царю Алексею Михайловичу не учинили в остроге.
Иван Богданович потер пальцами залысину, признал совет Афоньки весьма дельным.
– Пошлю дьяка Лариона Ермолаева списать расспросные речи с первой пытки. Позрим, какую лживую песенку он нам придумает!
Афонька, бережно сняв рубли с воеводского стола, отпятился к двери и тихо вышел. Иван Богданович подошел к распахнутому окну в сторону острога: город спал, окольцованный сотнями факелов, которые горели по всем стенам, обозначая границу владений воеводы князя Милославского – далее вторую ночь «царствовал» набеглый атаман казацкой и понизовой вольницы…
– Эко утеснил нас аспид[2] некрещеный! Шагу не ступить от стен города! И воевода князь Юрий Никитич не в силах отогнать казаков. Надежду оба мы питаем на князя Петра Урусова, который вот-вот с подмогой от Казани поспешит к Синбирску. Но когда подступит? Тимошка, подь сюда!
На его властный покрик тут же бесшумно открылась дверь и вьюном влетел в горницу расторопный денщик Тимошка Лосев. На красивом румяном лице ни кровинки, словно он только что вынут из дикой и жутко холодной воды – омута.
– Слушаюсь, батюшка князь Иван Богданович!
Воевода в немалом удивлении уставил взор в облик денщика, которого привык видеть всегда улыбчивым и беззаботным.
– Что за вид, будто у висельника? Чем встревожен так? Я ведь отпускал тебя в канун воровского подхода к Синбирску, чтоб навестил свою молодую женушку. Так что? Аль дома не сыскал? А может, какой казак с собой в табор уволок? – пошутил князь Иван Богданович, пытаясь дознаться причины унылого вида своего любимца.
– Добра ли ждать нам, батюшка воевода Иван Богданович? Вона как обступили кругом воровские казаки…
– Ну так что – обступили? Зайца барабанным боем не выманить из леса! Тако и мы с тобой, на всякий воровской покрик с поля, из Кремля не вылезем бездумно. Покудова мы за крепкими стенами, вор Стенька нам не страшен. Царские ратники непременно придут нам в подмогу. Не дело стрельцу так в лице меняться, один день со стороны посмотрев на сражение.
– Я-то не за себя боюсь, батюшка воевода. Каково будет моей молоденькой женушке Василисе, ежели какой вор на нее алчный глаз положит… – нашелся наконец-то что ответить Тимошка, хотя душа пребывала в пятках. Не сказывать же в самом деле воеводе, что при возвращении из своей слободы в Синбирск был он ухвачен разинскими дозорами, приведен в их стан, допрошен атаманом Лазарком Тимофеевым. После искренних ответов батюшка Павел привел его к присяге на верность казацкому войску. С ним и проникли в город посланцы Степана Тимофеевича, он свел их с родственником своим Федором Тюменевым. И вот только что, возвращаясь в кремль из острога после ухода атамановых посланцев и пребывая в радости, что так ловко удалось выполнить наказ атамана, он вдруг у приказной избы носом к носу столкнулся с ярыжками, которые во главе с «Кривым» волокли повязанного и побитого в кровь Никиту Кузнецова. Как увидел, так и обмер, смекнув, что выследили-таки подлазчиков, двоих, должно, побили, а Никиту изловили и теперь до смерти запытают, дознаваясь о соучастниках сговора. А среди них и он, Тимошка, не последним был. Ведь это он, воеводский денщик, тайно провел через лаз в частоколе разинских посланцев. И клялся атаману Разину своей головой, что готов послужить казацкому войску с чистой совестью и без обмана!
«Бежать! Немедленно бежать из кремля к Степану Тимофеевичу! – была первая спасительная мысль. – Скажу, что пропали его доверенные…» – и тут же новый озноб пронзил тело – а поверит ли ему суровый атаман? Не обвинит ли в измене, скажет, что умышленно завлек посланцев в ловушку воеводы? И голову снимет…
– Не полошись раньше черного дня, – на страхи денщика ответил воевода. – Бог даст, сумеет твоя Василисушка как ни-то схорониться от воров… Теперь к службе, Тимошка. Сыщи дьяка Ларьку и спроводи в пытошную. А потом и ко мне с расспросными листами пущай спешно воротится. Беги, не мешкай, иначе дьяк уснет, из пушки его не добудиться тебе.
– Сыщу и скажу, батюшка князь Иван Богданович, – серые глаза Тимошки ожили, когда понял, что воевода самолично до поры не собирается спускаться в подземелье кремлевской пытошной башни, а дьяк Ларион не ахти какой допросчик, да еще в смрадной пытошной. Он поправил свою короткую волнистую бородку, заверил воеводу: – И опросные листы принесем к утру.
Воевода, словно повторяя Тимошку, пригладил пышные, с редкой сединой волосы, махнул рукой Тимошке, чтоб шел и исполнял повеление, а сам решил вздремнуть до света – ночь, верно, к своей серединке уже подступается, не грех и очи смежить…
Сыскать дьяка синбирской приказной избы Лариона Ермолаева было не трудно. Убрав бумаги, исписанные за день, в стол, он собирался было идти домой, да Тимошка Лосев перенял его у порога.
– Не до постели теперь, дьяк Ларион, – как равному сказал воеводский денщик, – велено нам с тобой сойти в пытошную и снять первый спрос с воровского подлазчика, которого недавно изловили у волжского берега.
У Лариона вскрученные на концах усы дернулись в удивлении – он, дьяк, ни слова о том не ведал, хотя его ярыжки, кажется, прощупали каждую складку стрелецкого кафтана, а не только переулки города. «Воевода своих людишек послал, – с обидой в душе догадался дьяк Ларион, вспомнив нового одноглазого воеводского доверенного Афоньку, который появился в кремле невесть с какой стороны. – На моих ярыжек не положился…»
– Кого же изловили? – спросил, выбирая из стола чистые листы бумаги. – Казаков пришлых?
Тимошка пожал плечами, показывая, что этого он не знает.
– По одежде, как успел заметить мельком у ворот башни, так схожи со служивыми, будто дети боярские, – ответил Тимошка, а сам напряженно думал, как бы вызволить атаманова человека из пытошной, пока его вовсе не изломали на дыбе.
– «Никита не мизгирь[3], но на дыбе и из него могут ниточку потянуть, коль жаровню под босые ноги подсунут! Коли словили на берегу, не отговорится, что вышел рыбачить! Сломается Никита – всех огласит. Тогда и мне дыбы не миновать… ежели не успею через стену кремля перепрыгнуть», – размышлял Тимошка, по крутой лестнице спускаясь в подземелье, а навстречу уже явственно долетал запах разгорающегося древесного угля жаровни – дверь в пытошную была приоткрыта, и Тимошка, глядя в сырой сруб, из-за спины дьяка успел разглядеть Никиту Кузнецова. Продолговатое, кровью испачканное лицо, длинный шрам от давней кизылбашской пули на левой скуле до уха, русая коротко стриженная бородка тоже вся испачкана кровью, а в синих уже припухших от битья глазах невольно полыхнуло удивление и негодование.
«Неужто Тимошка нас предал? – было первое, что промелькнуло в гудящей от боли голове Никиты, который висел на вывернутых затекших руках. Нестерпимо болели обе ноги после афонькиного удара ослопом там, на берегу Волги. – Не-ет, не Тимошка виновен… Это Афонька приметил нас с Игнатом, приметил в остроге и донес воеводе. По воеводскому повелению изловили… Зачем же Тимошка здесь? Должно, увериться хочет, что я не выдам Федьку Тюменева, родного брата его Василисушки, и прочих заединщиков… Ох, бедная моя Параня! Молись Господу, знать пришел мой крайний час… Вона, здешний кат звероподобный уже железные щипцы достает, на угли раскладывает… Лушенька, неужто твои заговоры на нас с Михаилом перед синбирским походом впустую сказаны были? Неужто твое нежное сердечко не чует беды, которая свалилась на мою голову?» – Никита исподлобья глянул на Тимошку, и тот сделал ему успокаивающий знак рукой, неприметный для дьяка Лариона и ката.
Дьяк прошел к грубо сколоченной табуретке около голого стола, небрежно кинул чистые листы радом с заточенными белыми гусиными перьями, уселся на стул с круглым сиденьем без спинки. Заросший черной бородищей хромоногий кат в холщовой рубахе с веревочной опояской разворошил жаровню, готовясь приступить к привычному делу – жечь пятки, грудь, бока или спину, добывая у беззащитной очередной жертвы нужные воеводе признания. А после пытошной пойдет к себе в чулан близ приказной избы, напьется до потери сознания и будет спать, пока его сызнова не поднимут…
Тимошка, от отчаяния осмелев до дерзости, решил сразу же повести дело так, как лучше для Никиты, а не для сыску.
– Не чади углями, Николка, потому как батюшка воевода велел снять первый спрос без пытки, – сказал он, усаживаясь на соседний стул рядом с дьяком Ларионом. – Князь Иван Богданович сам с рассветом спустится сюда, прочитавши первые слова подлазчика. Ему попервой знать надобно, что за человек на Волге словлен, куда и зачем из города уйти вознамерился. Один был альбо еще с кем? – Хитрый Тимошка выложил эти вопросы, показывая Никите, что воеводе о нем конкретно ничего еще не известно. Откуда ему было знать, что Афонька уже донес о подлазчиках князю и получил повеление на тайный догляд и поимку. Важно было уберечь Никиту от пытки и как-то вытащить из безжалостных лап воеводы… Но как? Саблей посечь дьяка и ката Николку? Одного срубишь – другой заголосит, стрельцов у входа всполошит, не дадут вывести…
– Ну, вор, сказывай по доброй воле, кто ты есть и зачем изменил великому государю и царю Алексею Михайловичу? – дьяк Ларион по давней привычке задал свой первый вопрос, брезгливо осмотрев побитого и кровью испачканного разинского подлазчика.
Никита облизнул опухшие губы, в минутном раздумье опустил голову. Запираться излишне нет никакого резона, потому как Афонька все равно изобличит. Поднял голову, глянул в красивое лицо дьяка Лариона, на его ухоженную бородку клинышком, подивился, что у дьяка такие ангельски-добрые глаза.
– Великому государю и царю Алексею Михайловичу присяги я не рушил, потому как понизовой люд поднялся не на государя, а на пакостных, великому государю мешающих справедливо править народом бояр. Да с нами же идет на Москву и царевич Алексей с низложенным злыми же боярами патриархом Никоном. А боярам лихим я не присягал на верность.
– Воровские речи ведешь, изменщик! – построжал голосом дьяк Ларион. – Нет у государева трона лихих бояр! Лихие людишки совокупились около воровского набеглого атамана Стеньки Разина! И царевич Алексей Божьей волей сам умер, а Никон низложен с патриаршества и заточен безвылазно в монастырь! Сказывай, кто сам и откуда в остроге синбирском объявился?
– Сам я стрелец самарский, прозван Никитой Кузнецовым.
– Та-ак, пишем: «А в расспросе показал себя самарским стрельцом Микишкой Кузнецовым…» А с тобой кто еще был при поимке? Сказывай, вор, все без утайки. Ведомо ведь, что топор своего дорубится! Подобру не оглаголишь своих сотоварищей, с пытки дознаем. Стократ тебе же будет хуже!
– Был со мной еще самарский посадский человек Игнат Говорухин да тутошний рыбак со слободы, именем Гаврюшка, а прозвище его мне неведомо. – Никита решил не называть бывшего с ними синбирского стрельца Титка, которого Федор Тюменев посылал ночью проводить Никиту и Игната до Черной Расщелины, чтобы безопасно покинуть на спрятанном там челне острог. – Да и к чему было знать, потому как сказались мы тому Гаврюшке детьми боярскими, а город, де, покидаем по приказанию воеводы Ивана Богдановича для тайного досмотра воровских стругов на Волге, чтоб те струги нечаянно пожечь… Погиб человек зря, нашими копейками не попользовался. Игнат тоже побит, сам видел, как он в челн упал, подстреленный, – Никита добавил это от себя в надежде, что воевода не кинется искать Игната на Волге.
Дьяк Ларион писал быстро, красиво, чтобы воевода не утруждал слишком очей, читая эти опросные листы.
– Кем ты, вор Микишка, был послан в острог, к кому и для какой надобности? – и дьяк поднял на Никиту внимательный, но отнюдь не грозный взгляд. Бородатый кат Николка, шмыгая жутким, с рваными ноздрями носом, возился в дальнем углу у жаровни, мучаясь бездельем – и спать не дают, и дело не движется…
Никита думал недолго – ясно дело, проник в острог не в купеческой лавке кафтан себе новый купить!
– Послан я атаманом Степаном Разиным для тайного догляда за ратной силой в остроге. Да где и как крепкие ли стены, чтоб приступ верный делать. Высмотрев, собрались было возвращаться, да нечистый попутал, на воеводских ярыжек наскочили. Знамо дело, на своем пепелище и курица бьет, в своем городе и ярыжки каждую лазею знают, вот мы и угодили к ним в руки.
– Та-ак, – протянул Ларион, записывая слова Никиты, а тот снова, поочередно, глянул на лохматого, давно в бане не мывшегося ката, на скрипящего гусиным пером дьяка, чуть заметно подмигнул Тимошке, кивнул головой в сторону, где стояло станом войско атамана Разина.
Никита напустил на себя простоватый вид, сокрушенно вздохнул:
– Про меня это не мимо сказано – некуда оглядываться, когда смерть за плечами! Не резон и мне запираться, пойманному. Проклянет нас теперь атаман, помыслит, что мы к воеводе переметнулись, – и снова мельком на Тимошку глянул, словно приказывая: «Оповести атамана, что с нами приключилось, да о замысле здешних стрельцов поведай! Иначе быть большой беде!»
Тимошка прикрыл веками глаза, давая знак Никите, что он его хорошо понял, а на слова Кузнецова попытался было шутить:
– Не тужи, стрелец, по бабе – Господь девку даст! Не тужи, что у атамана ты теперь в мыслях повешен; коль послужишь воеводе Ивану Богдановичу, то и милость получишь. Не так ли, дьяк Ларион?
– По службе и чины… – отбурчался дьяк Ларион, и снова со спросом. – К кому из здешних посадских явились? И был ли кто с вами в воровском сговоре супротив государя и царя Алексея Михайловича? – задал новый вопрос Ларион Ермолаев, хорошо знающий, что город оказался наводненным прелестными письмами от Степана Разина, ярыжки не поспевали их выхватывать из рук синбирян.
– Нам того делать было не велено, дьяк, потому как с прелестными письмами были посланы другие люди.
Дьяк живо вскинул голову, пытливо глянул в измученные болью глаза. Спросил:
– Назови, кто да кто из воров послан с теми прелестными письмами? У кого укрываются?
Не успел Никита ответить, как Тимошка, пристукнув для строгости ладонью о столешницу, задал вопрос, от которого, как он думал, можно будет впоследствии попробовать извлечь немалую пользу:
– Узнал бы ты тех воровских подлазчиков из разинского стана, ежели бы внове встретил в остроге? Говори по доброй воле, коль не хочешь поутру познаться с мастерством и сноровкой ката Николки!
Как ни болела от побоев голова, но Никита смекнул, что Тимошка подбрасывает ему надежду спастись из пытошной. Нахмурив брови, он страдальчески поморщился, глянул на дьяка Лариона, который оторвал взгляд от бумаги и с подбадривающей улыбкой ждал ответа.
– Ну, что же, не один рак назад пятится, в иную пору и умному человеку тако же сделать не грех. Тем паче, что на мне присяга великому государю и царю Алексею Михайловичу… Пиши, дьяк Ларион, что по доброй воле готов я поутру указать воеводским ярыжкам трех мне ведомых из Самары посадских, коих атаман Разин послал в острог с наказом смущать стрельцов к измене… Не велик грех ляжет на мою душу, потому как то люди холостые, один из бурлаков, а двое пришлые бобыли бездомные. На атаманово золото польстились, следом за мной и Игнашкой через потайной лаз в стене пролезли. Известите воеводу, что ежели дарует мне живота, готов услужить ему.
– Добро, вор Микишка. Теперь же поспешу к воеводе и князю, а какова будет его воля, опосля тебе известят! – Дьяк, довольный податливостью разинского подлазчика, дописал последние слова, размашисто, любуясь своей работой, подписался внизу, встал.
– Виси покудова, вор, а я воеводе твои показания снесу.
– Воды глоток бы, дьяк, нутро жжет… Как бы дотянуть до утра, а то и с воеводой поговорить не доведется, – с трудом проговорил Никита, рассчитывая больше на Тимошку, чем на дьяково сострадание. Прежде чем дьяк Ларион подумал, потакать ли вору в его просьбишке, Тимошка прошел в угол, медным ковшом нырнул в кадь с водой и из собственных рук напоил висевшего головой почти до пояса Никиту, для чего левой рукой он поддерживал голову стрельца под подбородок. Хотелось утешить и обнадежить как-то Никиту, да дьяк Ларион стоял рядом, слова лишнего не скажешь…
У выходных дверей как раз менялся караул, четверо стрельцов заступали на службу у двери в пытошную. Тимошка довольно громко сказал дьяку Лариону, а более того – для ушей караульных:
– Надобно до рассвета вора Микишку спроводить к стрелецкому голове Жукову, чтоб с его согласия ярыжки провели подлазчика по городским стенам для опознания разинских людишек.
– Скажу воеводе Ивану Богдановичу, и коль повелит… – не закончив говорить, дьяк Ларион нырнул в дверь приказной избы, чтобы отпить квасу после затхлого воздуха подземелья и уже после этого подняться к воеводе.
Тимошка подмигнул знакомому стрелецкому десятнику, который был за старшего в карауле, назидательно сказал:
– Не спите тут, Трофимка! Может статься, меня воевода пришлет за пойманным вором сопроводить его в острог… Пойду покудова хоть ноги вытянуть на часик-второй.
– Иди, Тимоха, – равнодушно отозвался пожилой стрелецкий десятник, широко зевнул ртом, заросшим рыжеватой бородой, и поднял взгляд к сумрачному, тучами укрытому небу над притихшим Синбирском. – Как бы дождя к утру с казанской стороны к нам не надуло…
* * *Ранним утром, за час до восхода солнца, обстреляв из пушек рейтарские полки воеводы Борятинского и при нем полк московских стрельцов от воеводы Милославского, войско атамана Разина, поддержанное тремя сотнями конных казаков и стрельцов, навалилось на противника, норовя сойтись не только на близкий ружейный бой, но и на рукопашную схватку, чтобы использовать свое численное преимущество.
Одновременно отряд походного атамана Василия Серебрякова, словно отслоившись от главных сил, быстрым бегом устремился в неширокое пространство между острогом и кремлем. Не вот вдруг стрельцы на стенах кремля, да и сам взбуженный пушечной пальбой воевода Милославский сообразили, что же задумали разинцы? Неужто кинутся на высокие стены кремля вот так, с голыми руками, без штурмовых лестниц? Это все едино что головой надолбы рушить! Но разинские казаки хлынули в ров острога и кинулись к воротам верхней стены. По ним стали густо палить синбирские стрельцы, да с некоторым опозданием по команде командира стрелецкого полка Василия Бухвостова начали стрелять и со стен кремля. Густые клубы порохового дыма на какой-то миг едва ли не целиком укрыли атакующих, а когда он рассеялся, глазам воеводы предстала странная картина происходящего сражения.
– Да что же это творится, Господи?! Погибели на них, что ли, нет? Лезут, как тараканы живучие! Побитых-то во рву нет и в помине! Как же так, а? – Воевода Милославский взъярился не зря, видя, что казаки и понизовые стрельцы бесстрашно лезут на частокол острога, а те, которые добежали до ворот, навалились на них и распахнули так легко, будто они и не были изнутри заперты. Казаки, словно весенний пал по степи, хлынули в острог, а иные, ухватившись за протянутые со стен кушаки или по брошенным вниз лестницам, лезли через частокол, спеша побыстрее очутиться в остроге.
Воеводу Ивана Богдановича едва удар не хватил от увиденного. Со стоном, проговорив чуть слышно, чтобы ближние стрельцы не распознали: «Своровали! Измена!» – он отшатнулся от деревянной стены, крикнул денщика, надеясь, что он где-то рядом.
Андрей Шепелев, чьи стрельцы под утро несли караул в кремле, ответил воеводе, не скрывая своего удивления:
– Не вернулся еще ваш денщик из острога, воевода князь Иван Богданович. А теперь, надо думать, и вовсе там застрянет. Вона какая кутерьма затевается. Отобьются ли синбирские ратники?
– Да не посылал я его утром в острог! – растерянно пробормотал воевода, размышляя, не заспал ли он какого приказания своему денщику? И снова распорядился. – Притащите сюда разинского подлазчика из пытошной! Я его заместо пыжа в пушку велю забить и по ворам пальнуть. А не влезет в пушку, повесить его на высоком глаголе[4] угловой башни!
Из-за стрельцов к князю Милославскому протиснулся с повязкой на глазу Афонька, за ним четверо воеводских ярыжек. У Афоньки на лице злость вперемешку с растерянностью.
– Я только что из пытошной, батюшка князь Иван Богданович! Караульный десятник сказывал, будто по твоему приказу, ему и пакет за твоей печатью показали, денщик Тимошка Лосев, забрав двух караульных, свел Никитку Кузнецова в острог, якобы к стрелецкому голове Жукову. – И поклонился, а глазом будто спрашивал: так ли было? Или…
– Господи-и, своровал Тимошка! Своровал и разинского подлазчика свел в острог! Афонька, сыщи и приволоки его ко мне! С живого шкуру сниму, чтоб иным неповадно было!
– Коли быть собаке битой, найдется и палка! Сыщу, ежели только его в той кутерьме не порешили! – кивком головы указал на острог.
Левее воеводы кто-то из московских стрельцов громко выкрикнул, указывая рукой вниз, на город.
– Зрите, зрите! Вона, уже и тамошние синбиряне-стрельцы с боярскими детьми, будто собаки, став на дыбки, зев в зев грызутся!
– В народе, что в туче: в грозу все наружу выйдет! Переметнулись синбиряне на сторону атамана Разина!
– Тако же было и в иных городах на Волге…
– Коль нас не пошлют на острог – воровские казаки с тамошними стрельцами и с посадскими быстро сомнут поместных да детей боярских. Добро еще, что воровские казаки до Москвы не дошли…
Иван Богданович, собрав все свое мужество, тремя шагами снова подошел к краю стены, глянул сверху: словно огромная куча сухостоя, к которому поднесли пучок зажженной соломы, в городе вспыхнул пожар восстания. Казаки походного атамана Серебрякова и стрельцы кинулись к стенам сбивать прочь поместных людей и детей боярских, стреляли по ним из-за плетней и заборов, с крыш амбаров, теснили копьями и бердышами вдоль частокола, отжимая к волжской части острога, и многие из обреченных на смерть прыгали вниз, катились с кручи, предпочитая сломать себе голову, но не даться мятежникам в руки. В городе вылавливали наиболее злобных воеводских приказных ярыжек, мздоимцев дьяков и подьячих, бессердечных прижимал откупщиков и промысловиков, которые не смогли покинуть свои дома до прихода понизовой вольницы.
Полыхнули в нескольких местах языки красных вечно голодных петухов, заголосили перепуганные домочадцы, не имея возможности тушить пожары или спасать домашний скарб…
Первой мыслью воеводы Ивана Богдановича было послать полк московских стрельцов во главе с самим Бухвостовым, чтобы ударил на острог и побил вбежавших туда разинцев, но, присмотревшись, увидел, что не менее тысячи хорошо вооруженных пеших казаков и стрельцов стоят под острогом, как раз у того места, где прорвались первые отряды разинцев, и готовы выручить своих, если из кремля выйдут московские стрельцы. Бухвостов по взгляду воеводы и по той скорбной мине, которая появилась на его лице, понял, о чем думал князь воевода Милославский.
– Они только и ждут моего вывода, чтобы отсечь от кремля, князь Иван Богданович. Но, ежели прикажешь…
– Кабы Господь послушал дурного пастуха, так бы весь скот передох! Негоже и мне хвататься за первопришедшую мыслишку, всего не обдумав! Один полк у воеводы князя Борятинского, другой ты уведешь на погибель, а мне с какими силами твердь синбирскую держать? Не-ет, потеряв острог, я удержу кремль и воровское скопище подле кремля! Пусть теперь воевода Юрий Никитич озаботится, как ему сладить дело с набеглым атаманом! В поле – две воли, кому Господь поможет, не так ли, полковник?