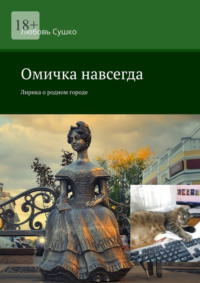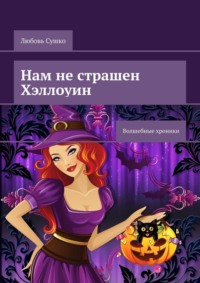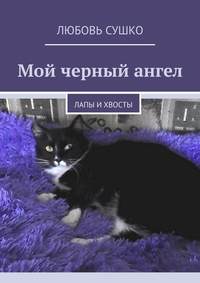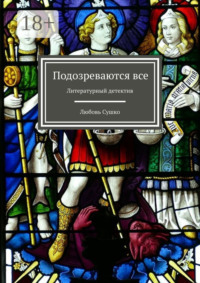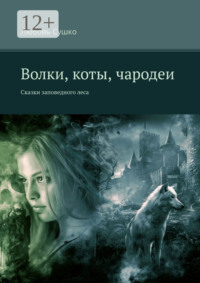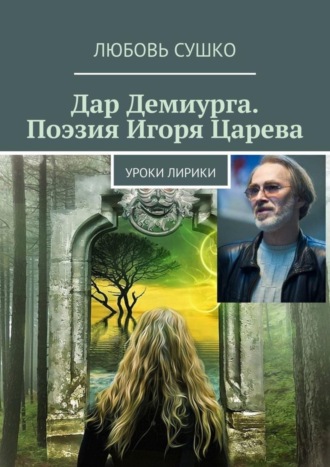
Полная версия
Дар Демиурга. Поэзия Игоря Царева. Уроки лирики
А вот в следующем стихотворении» Уходя по чумацкому шляху» – эти два духа соединились.
Уходя по чумацкому шляхуОдесную нахохлился ангел,Да лукавый ошуююПьет с тобою за табель о рангах,Проча славу большую,Манит ввысь из прокуренной кухниЧерез звездные надолбы.Сердце филином раненым ухнет:«Торопиться не надо бы!»Ковылей поседевшие космыСкрыли во поле камушек,Где Земля обрывается в Космос —Не заметишь, как там уже.Уходя по Чумацкому шляху,По дороге Батыевой,Не поддашься ли темному страху?Одолеешь ли ты его?Дотянулся рукою до неба,А назад – хоть из кожи лезь!Видишь в мертвенном свете ДенебаЧьи-то души скукожились,Прокутив свои дни без оглядкиОт пеленок и до кутьи,И хотели вернуться бы в пятки,Только пяток уж нетути!И хотя отпевать тебя рано —Слава Богу живой еще! —Ветер плачет, то голосом врана,То собакою воющей,Да и сам ты рвешь горло руками,Как рубаху исподнюю —Не твоими ли черновикамиТопит бес преисподнюю?В первой строчке « нахохлился ангел“, в последней „Топит бес преисподнюю, мы видим все три плоскости – небо – землю – подземный мир – это и есть та самая вселенная обетованная, только немного под другим углом зрения.
Стихотворение таинственное и невероятно емкое по сути, здесь сошлись совершенно разные мотивы и поэты:
Сердце филином раненым ухнет:«Торопиться не надо бы!»Сердечный стук, как уханье филина – еще одна птица, но не только это останавливает невольно. Сразу слышатся строчки Высоцкого:
Чуть помедленнее, кони,Чуть помедленнееА вот это уже из сказки или былины, там, где в чистом поле двигается богатырь, и направляется он к перекрестку, к перепутному камню, на котором и будет обозначена судьба
Ковылей поседевшие космыСкрыли во поле камушек,Вместе с автором из замкнутого пространства мы вырываемся на волю, в бесконечность Вселенной (обетованной, как мы узнали в самом начале)
Где Земля обрывается в Космос —Не заметишь, как там уже.От мифов и преданий мы переносимся к историческим, самым темным временам – Батыевским – времени, когда славяне оказались в рабстве, а потому и вопрошает поэт:
Не поддашься ли темному страху?Одолеешь ли ты его?Насколько трудно было одолеть вековое рабство, подняться на ту самую Куликовскую битву, надо спрашивать уже через два столетия у Дмитрия Донского. И все-таки герой этот страх в себе одолел, потому что
Дотянулся рукою до неба,А назад – хоть из кожи лезь!Видишь в мертвенном свете ДенебаЧьи-то души скукожились,– и что же он видит там, где как обитают ангелы – хранители, которые нахохлились, и пьют вместе с героем «за табель о рангах», и забыли о душах, которые следует хранить, потому им там одиноко и пусто. Скорее всего, мы все оказались в чистилище, потому что
Прокутив свои дни без оглядкиОт пеленок и до кутьи,И хотели вернуться бы в пятки,Только пяток уж нетути!Им очень хочется воплотиться, вернуться в тело, но тело они уже потеряли. И все так ярко и достоверно, что хочется спросить, откуда поэту может быть это ведомо, почему душам без тел там так неуютно и пусто? Но для героя, как и для нас, это только минутный сон, заглянуть туда, где мрачно пируют ангелы и скукожились души, не имея возможности вернуться в тела, уже пройдя чистилище, а дальше будет самое интересное
И хотя отпевать тебя рано —Слава Богу живой еще! —Ветер плачет, то голосом врана,То собакою воющей,Но и на земле так же неуютно, как на небесах герою, потому что вой ветра напоминает то голос ворона, то пса.
Эти два персонажа уже нам прекрасно знакомы, и явились они из литературных мифов, в частности из Баллад Э. По, из контекста «Фауста», где появляется впервые Мефистофель с псом (пуделем), чтобы заключить сделку. Перед нами практически тот же самый сюжет, только скорее всего сделки этой не суждено случиться, вместо птицы и зверя, только ветер воет на разные лады, не потому ли так грустно герою, и в первый раз в тексте не чувствуется мажорных ноток. Но Игорь Царев прекрасно понимает, что из трагедии Гете эти герои перекочевали в ткань романа века, и там уже не так страшен черт, как его малюют, и именно оттуда финальные строки стихотворения
Да и сам ты рвешь горло руками,Как рубаху исподнюю —Не твоими ли черновикамиТопит бес преисподнюю?Перед нами Мастер вместе с бесом, который занимается своим привычным делом – смотрит, горят или не горят рукописи.
Кто-то в рецензии убеждал Игоря в том, что ему нечего бояться, его рукописи точно не сгорят. Поэт напрасно боялся, что мы не почувствуем не угадаем всех классических сюжетов, которые тонко переплетаются в контексте его стихотворений…
А ведь это путь Мастера (Фауста) к той преисподней, к спасению романа, и он мучительно пройден. А так как проходил этот путь по Днепровским берегам, то он напрямую связан и с Булгаковым, жившим долгие годы в Киеве, и где еще должен был идти его Мастер?
Так ангелы и бесы и нарисовали нам вселенную обетованную. Но рано или поздно все приходит к своему финалу, и этот странный мир может настигнуть конец света – Апокалипсис…
Мы жили в его преддверии в те дни когда (может чуть раньше) писалось знаменитое стихотворение, покорившее всех, кто его читал и слышал.
Такое положение ангела и беса, грехи всех людей на земле не могли пройти бесследно, а потому мир насторожился в ожидании декабря 2012 года. Было как – то очень тревожно, как и бывает в конце любого года, а тут еще предсказания со всех сторон. Скажу честно, только услышав стихотворение Игоря Царева, потом прослушав его несколько раз, я стала совсем по-другому смотреть на это грозное событие. Вот где его мажорный настрой, философская ирония пригодились и спасли не одну заблудшую душу.
Апокалипсис
На седьмом ли, на пятом небе ли,Не о стол кулаком, а по столу,Не жалея казенной мебели,Что-то Бог объяснял апостолу,Горячился, теряя выдержку,Не стесняя себя цензурою,А апостол стоял навытяжку,И уныло блестел тонзурою.Он за нас отдувался, каинов,Не ища в этом левой выгоды.А Господь, сняв с него окалину,На крутые пошел оргвыводы,И от грешной Тверской до СоколаПтичий гомон стих в палисадниках,Над лукавой Москвой зацокалоИ явились четыре всадника.В это время, приняв по разу, мыСостязались с дружком в иронии,А пока расслабляли разумы,Апокалипсис проворонили.Все понять не могли – живые ли?Даже спорили с кем-то в «Опеле»:То ли черти нам душу выели,То ли мы ее просто пропили.А вокруг, не ползком, так волоком,Не одна беда, сразу ворохом.Но язык прикусил Царь-колокол,И в Царь-пушке ни грамма пороха…Только мне ли бояться адского?Кочегарил пять лет в Капотне я,И в общаге жил на Вернадского —Тоже, та еще преисподняя!Тьма сгущается над подъездами,Буква нашей судьбы – «и-краткая».Не пугал бы ты, Отче, безднами,И без этого жизнь не сладкая.Может быть, и не так я верую,Без креста хожу под одеждою,Но назвал одну дочку Верою,А другую зову Надеждою.Если в предыдущем стихотворении ангел – человек и бес примерно на равных правах существуют в этом мире, то здесь перед нами ясно прописан герой, при том, что нет сомнений, что это как часто бывает сам автор.
Хотя все начинается как раз со сцены на небесах, ну очень похожей на «Пролог на небе» в Фаусте, просто загляните еще раз и сравните, правда им уже не до сделок, трудные времена приближаются.
На седьмом ли, на пятом небе ли,Не о стол кулаком, а по столу,Не жалея казенной мебели,Что-то Бог объяснял апостолу,Горячился, теряя выдержку,Не стесняя себя цензурою,А апостол стоял навытяжку,И уныло блестел тонзурою.Тут уж прохлаждаться архангелу некогда. Помню, сколько раз упрекали Игоря именно за эту сцену в стихотворении, те, кто никогда не заглядывал в трагедию Гете, потому что это уже литературный миф, хорошо известный даже школьникам.
Мы переносимся вместе с героем на землю, где появились те самые грозные всадники – вестники ссудного дня, и появились, они, как и Воланд со свитой, именно в столице, где же еще им было появиться?
И от грешной Тверской до СоколаПтичий гомон стих в палисадниках,Над лукавой Москвой зацокалоИ явились четыре всадникаНо что же происходит дальше – вероятно, как в американских фильмах, должен быть ужас, только невольно вспоминается, то, что американцу смерть для нас с вами сущая ерунда. Пока весь остальной мир бежит спасаться, вот что происходит у нас, кстати, точнее не сказать:
В это время, приняв по разу, мыСостязались с дружком в иронии,А пока расслабляли разумы,Апокалипсис проворонили.Это действительно смех сквозь слезы, наверное, это лучшее творение о тревожных днях и о русской душе. С нашими героями поспорить может, вероятно, только царь Сизиф, который мог и смерть в плен взять, и сам сбежать из Аида, так что его долго искали, правда, он был за свою прыть сурово наказан, нашим же героям море по колено, а конец света может и подождать, потому что
Только мне ли бояться адского?Кочегарил пять лет в Капотне я,И в общаге жил на Вернадского —Тоже, та еще преисподняя!А ведь столько переживших в нашей стране уже ничего не может испугать. Именно об этом задумываешься, когда снова пугают приближением метеорита, какой-то еще бедой. Вот они уже и с богом беседуют (в свое время стоял архангел перед ним навытяжку, а героям море по колено). Такого у Гете, не могло быть, а у нас спокойно
Тьма сгущается над подъездами,Буква нашей судьбы – «и-краткая».Не пугал бы ты, Отче, безднами,И без этого жизнь не сладкая.Голоса бога мы не слышим на этот раз, только наш герой находит оправдание перед творцом, самое главное оправдание – это имена дочерей – его продолжение, которое он оставляет в мире, а пока они живут, никакого Апокалипсиса быть не может
Может быть, и не так я верую,Без креста хожу под одеждою,Но назвал одну дочку Верою,А другую зову Надеждою.Кто-то считает эту строфу лишней, но я согласна с поэтом, в ней суть. И если человек отважился говорить с богом, то только чтобы спасти своих детей, ради них конец света должен быть отменен. Кстати, нашла вариант значительно сокращенный, там стихотворение заканчивается вот так…
Или черти нам сердце выели,Как убийцам детей из Грозного?Но вероятно, с течением времени к 2011 году текст дорабатывался и пересматривался, и стал таким вот, как теперь. А вот почему так написалось стихотворение?
:) Полного мрака в природе не бывает. В конце концов, мрак – это всего лишь одна из форм существования света.
Игорь Царев 02.08.2008 09:32
без последних строк текст сразу смысл утрачивает. Остаются одни образы :) последние строки – как маленький мерцающий свет в конце тоннеля. И этот свет я обозначил точно – это именно вера и надежда, пусть даже не в сердце, но хотя бы в именах детей. А разновременность глаголов вполне допустима в таких ситуациях. Я применил это, чтобы избежать монотонности зову-зову, или назвал-назвал
Игорь Царев 18.09.2008 11:29
:) Да, ортодоксальных верующих тут многое царапает. Но жизнь сама штука острая. И тут речь не о мировом, а скорее о личностном апокалипсисе
Игорь Царев 19.04.2011 12:24
В последней реплике, Игорь Царев подчеркнул самое важное, это не мировой, а личный апокалипсис, потому нельзя к нему относиться серьезно, а когда и ангелы и бесы о нас забыли, когда апокалипсис миновал, то и остается снова вспомнить про стихи, что он с великим мастерством и делает:
Жизнь продолжается, только порой она бывает слишком коротка.
Завтра 13 мая 40 дней с того дня, когда нас покинул Игорь Царев, Светлая ему память…

Чтоб свеча не погасла Вечность-9

В нашем мире есть особые символы, которые передаются из века в век и остаются с нами – огонь, один из них, огонь зажженной свечи. Человек рождается чаще всего ночью во мраке, чтобы встретить его, зажигали свечи. Умирая, человек погружался во тьму, но живые оставляли зажженные свечи. Считалось, что и жизнь человека подобна свече, она гаснет в момент его ухода.
Может быть, помня об этом, обращался к нам Московский князь Симеон Гордый, сын Ивана Калиты, правивший в 14 веке. И писал он, в завещание потомкам своим «А пишу вам я Слово того для, чтобы не перестала память родителей наших, и наша и свеча бы не погасла». Об этом, прежде всего, беспокоился многострадальный князь, живший в эпоху монголо-татарского рабства, когда дело сохранения земли русской стало делом государственной важности. И приходилось терпеть и междоусобные распри своих удельных князей, и унижения и насилия татарских ханов. Он свято верил в то, что мы услышим его глас и сохраним память о прошлом, и огня не погасим в душах наших. Это выказывание потом кочевало из одной княжеской грамоты в другую. Ему придавали особое значение. Со временем стало оно княжеским девизом. Чтобы выжить, должны были они покрепче держаться за руки, почитать родителей, заботиться о чадах своих..
Так из нашего туманного средневековья свеча и перекочевала в наше время, и кто, как не поэты, могли понимать ее значение в жизни и судьбе человека, в вечность, которая продолжается для каждого из нас, «пока горит свеча».
Именно сегодня, на 40-ой день после ухода снова и снова будут зажжены новые свечи в память об Игоре Цареве.
И он будет оставаться с нами, пока не погаснут свеча памяти в наших душах… А еще свечи горят и в его стихах, как же без этого света, без их живого огня. Конечно, когда я обратилась к этому образу, кроме наставления князя Симеона, сразу же вспомнились строки Б. Пастернака о свече. «Мело, мело по всей земле, во все пределы, свеча горела на столе, свеча горела», как и строки А. Галича в стихотворении «Памяти Бориса Пастернака», который покажет нам разницу между той свечой и тем, что творилось потом вокруг поэта. Но вот на фоне знаменитого стихотворения о страсти, о свидании с возлюбленной, почти сюрреалистических картинах, появляются как всегда прозрачные, чистые, прекрасные строки Игоря Царева:
ПОДРУГА
Клубок тишины,как пушистый котенок,пригрелся в руках.Все звуки погасли.И только свечане уймется никак.Цветок полуночный —на восковом стеблегорячая медь,Пытается мирахолодную чашусобою согреть.Ночная подругато слезно мерцает,то ясно горитТо шепчет влюбленно,то громко и страстносо мной говоритКогда же я верутеряю во мраке,не меркнет свеча —От призрачных страховона охраняетменя по ночам.Какие бы бедыменя не ломали,сужая круги,Я вновь распрямляюсь,хотя я ничемне сильнее других.Как ясно и простосвятую любовьизлучает свеча,Шагая впереди огонь поднимаяна гордых плечах.Вероятно, это самое главное стихотворение о свече, в лирические строки перелито то, что можно было бы философу написать в большой серьезной статье, но вряд ли получилось бы так многогранно и образно. И самое потрясающее, что видит ее Игорь, прежде всего цветком – это древняя славянская символика, когда и костер на лесной поляне воспринимался, как цветок. Да и солнце часто сравнивают с подсолнухом, но вот свеча-огненный цветок, образ несколько стерт из памяти
Цветок полуночный —на восковом стеблегорячая медь,Пытается мирахолодную чашусобою согреть.У этого огненного цветка особенная миссия – не только привычная – осветить тьму, но еще и согреть холодную чашу мира. Вероятно, задача невыполнима для реалиста. Но поэт всегда остается романтиком. Для него невозможное -возможно. А вот от бесконечности вселенной мы переходим к частному случаю, к самому Поэту, и здесь свеча тоже обозначена иначе, непривычное определение:
Ночная подругато слезно мерцает,то ясно горитТо шепчет влюбленно,то громко и страстносо мной говорит,– этом не совсем вариант Пастернака- там эротичность зашкаливаетНа озаренный потолокЛожились тени,Скрещенья рук, скрещенья ног,Судьбы скрещенья.– в той классической ситуации нет места разговору, там только страсть, и как раз молчание царит в момент свидания.
Но свеча – подруга поэта, в какой-то мере Муза и точно его помощница способна с ним разговаривать « громко и страстно». Вероятно, в такие минуты рождаются главные шедевры, если вспомнить насколько поэт был загружен на работе, то и роль свечи для творчества будет особенная. А живые стихотворения можно писать только при живом огне, а вовсе не при электрической лампе, это прекрасно понимают влюбленные и поэты, электричество годится для обычной жизни, но не для творчества и свиданий влюбленных. Но вот и еще одна ситуация, когда необходим живительный огонь.
Когда же я верутеряю во мраке,не меркнет свеча —От призрачных страховона охраняетменя по ночам.Если у Б. Пастернака все начинает и заканчивается свиданием, то у Игоря Царева свеча служит и лекарством, и спасительным кругом, в момент, когда неуютно и теряется вера. И опять же, мы прекрасно знаем об очистительном огне, именно для того у славян каждый вечер и разводились костры, вокруг которых водились хороводы – совершался ряд обрядов, а потом молодые люди прыгали через огонь, чтобы он уничтожил все темное и злое, что могло приключиться за день, прицепиться к ним, все злыдни исчезали в этом огне, сглаз, порча… В огне перепекаются и души, непригодные для жизни, грешные и черные…
Вот такую роль и исполняет для поэта огненный цветок – свеча. Сила огня и сила воды всегда была главной в природе, они дополняли друг друга
Как ясно и простосвятую любовьизлучает свеча,Шагая впереди огонь поднимаяна гордых плечах.Множество свеч, зажженных в одном месте могут нам напоминать о тех древних кострах, которые сопровождали человека всю жизнь, и последним оказался погребальный костер, но огонь свечи в момент ухода остается, как искра того костра, и она не гаснет.
Существует обряд, когда одна за другой гаснут все свечи, остается только одна, последняя, она символизирует разбежавшихся от Христа апостолов. Но люди были уверены, что во мраке достаточно и одной свечи. Потому так бережем мы этот свет и в мире нашем и в собственных душах.
А если в контексте Стихотворения Игоря Царева рассмотреть классический текст Пастернака, то тоже много интересного получается:
Свеча горела на столе, свеча горела. ((с) Б. Пастернак).
Зимняя ночь.
Мело, мело по всей землеВо все пределы.Свеча горела на столе,Свеча горела.Как летом роем мошкораЛетит на пламя,Слетались хлопья со двораК оконной раме.Метель лепила на столеКружки и стрелы.Свеча горела на столе,Свеча горела.На озаренный потолокЛожились тени,Скрещенья рук, скрещенья ног,Судьбы скрещенья.И падали два башмачкаСо стуком на пол,И воск слезами с ночникаНа платье капал.И все терялось в снежной мглеСедой и белой.Свеча горела на столе,Свеча горела.На свечку дуло из угла,И жар соблазнаВздымал, как ангел, два крылаКрестообразно.Мело весь месяц в феврале,И то и делоСвеча горела на столе,Свеча горела.Борис Пастернак, 1946От универсального текст о вечности, а поэзия для Игоря Царева – Вечность, в сравнении с живущей один миг газетной (журнальной) публикацией, у Б. Пастернака – это только одно мгновение (одна ночь). Свеча на фоне метели тоже вроде бы и освещает и согревает пространство, но акцент делается на тени от огня, а не сам огонь. Поэта занимают блики, таинственные фигуры, которые внезапно рождаются, все, что происходит по ту сторону. Может быть, потому холод и отстраненность чувствуется сильнее, в данном случае ее трудно называть огненным цветком, подругой, она, скорее свидетельница того, что совершается, в какой-то мере помощница. И более того, метель все время пытается потушить свечу, наверное, только страсть удерживает этот огонь и не дает ей погаснуть.
На свечку дуло из угла,И жар соблазнаВздымал, как ангел, два крылаКрестообразно.ХХ век погрузился во мрак. Одна за другой гасли все свечи, которые еще горели недавно. Во мраке Сатана должен был ликовать, радуясь своей победе. И все бросились разрушать мир. У человека осталось только Слово и Свеча его жизни, которую так легко гасили палачи.
У А. Галича в стихотворении «Памяти Бориса Пастернака» вообще возникает чудовищная картина, тут уж не до эротики:
Нет, никакая не свеча —Горела люстра!Очки на морде палачаСверкали шустро!(А. Галич)
Этот жуткий эклектический свет, отражающийся в очках палача, убивает и живой огонь, и воспоминание о тайном свидании, тут все обнажено до предела так, что хочется только одного – зажечь свечу и вернуться к живому огню. Это удается Поэтам, особенно хорошо это получалось все время у Игоря Царева.
А потому мы снова возвращаемся к прозрачной и прекрасной поэзии Игоря Царёва, где всегда будет таиться, разгораясь с новой силой живой огонь.
Но вот совсем другое стихотворение, где появится свеча уже в конкретной, как у Пастернака ситуации. Это тоже будет свидание, только свидание творческое, поэтическое
НОЧНЫЕ БЕСЫ
Свеча во тьме огарком корчится,Трещит, пророчествами каркает…Так обреченные на творчествоСудьбе в лицо стихами харкают,И, осушая чашу горькую,Тоскливо думают: «Не спиться бы…»А ночь им подливает с горкою,Юродствуя: «Опять не спится, б…?»И в подреберье сердце бесится,Саднит подушкой для иголочек,И воют под медовым месяцемСобачьих свадеб гости-сволочи,И на разрыв аорты латанойИдут старатели словесности —Ведь бес гордыни пуще ладанаБоится пустоты безвестности.Здесь свеча, которая корчится от мук, зажжена для того, чтобы записать стихотворение, а для этого нужен ее живой огонь. И в тех самых отсветах и бликах должны появиться бесы. Творческие муки во многом похожи на жуткие страдания
И в подреберье сердце бесится,Саднит подушкой для иголочек,И воют под медовым месяцемСобачьих свадеб гости-сволочиНевольно хочется вернуться к тем эротическим переживаниям, которые освещает свеча Пастернака, потому что там герой все-таки позитивен, а здесь свет огня – последнее спасение от тьмы и страшных мук:
И на разрыв аорты латанойИдут старатели словесности —Ведь бес гордыни пуще ладанаБоится пустоты безвестности.Вот в такой ситуации сохранить, не загасить огонь еще труднее, но у Поэта нет выбора. Хотя как только отступает тьма, когда стихотворение написано, поэт снова вспоминает о живом огне. Вот одно из самых ярких стихотворений о свете, которое дополняет первое:
* * *Далеким друзьям – бардоградцамЗажги свечу, пускай горит,Пускай творит свое свеченьеНе для забав и развлеченья,А как преддверие зари.Тоскливый холод превозмочьПоможет нам свеча вторая.Беспечно в пламени сгорая,Она согреет эту ночь.Про третью свечку не забудь —Приставь ее к окну, пусть светит.Быть может, друг ее приметитИ сократит до встречи путь.Сгорит четвертая свеча,За нею пятая, шестая…Вот-вот ночной туман растаетВ несмелых утренних лучах.А если ночь не станет днем,Не слушай тьмы циничной бредни,Не пожалей свечи последнейИ обвенчай ее с огнем.И вот тогда навернякаПрорвется жизнь из серых буден,А если этого не будет —Пусти надежды с молотка.На заработанный пятак.Купи еще свечей, кресало —Чтоб жизнь из света воскресала,Чтобы не гас в ночи маяк.Сегодня, после ухода Игоря Царева стихотворение звучит, как завещание всем нам. Именно в нем тот глубинный смысл, который вкладывал древний князь в понятие «чтобы свеча не погасла».
А пишу вам я Слово того для, чтобы не перестала память родителей наших, и наша и свеча бы не погасла».
Свое Слово оставил нам и поэт ИГОРЬ ЦАРЕВ…
И остается только верить, что его свеча не погаснет, и Слово останется с нами навсегда. А для этого надо просто исполнить то, о чем он нас просил, в преддверии зари зажигать свечи, не дать им возможности погаснуть, не позволить погасить огонь в наших душах.
А где-то там, на небесах, как видел это Олег Чертов, ждет нас другой огонь- огонь Вечности, который полыхает в камине
Достигни Дома. Преклони колени.Зажги огонь в камине, стол накройИ ожидай в надежде и терпенье,Кого при жизни ты сковал с собой.В миру мы были и глупы, и слепы.Как просто было нас ко злу склонить!Но там, во тьме, стеснительные цепиПреобразятся в световую нить!Огонь земной и огонь небесный осветят тьму и там и здесь, и навсегда нас соединят… Но самое главное, чтобы светили звезды и не гасли свечи
Мой бог, ее зовут Марина. Вечность-10
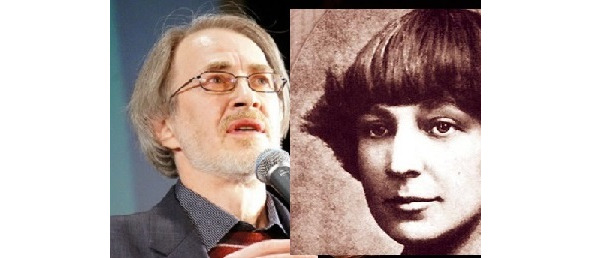
Я один, все тонет в фарисействе.
Жизнь прожить – не поле перейти.
Б. Пастернак
Чем больше всматриваюсь и вслушиваюсь в поэтической мир Игоря ЦАРЕВА, тем больше дивлюсь тому, насколько четко он вписывается в контекст поэзии серебряного века. Любой из поэтов этого времени в том или ином тексте отражается, откликается, присутствует. И снова повторяю, что он оттуда, он с ними, он среди них, и тому есть масса подтверждений.
Но хотелось бы вдруг перефразировать его восклицание: «Откуда столько Бродского?» и спросить: «Откуда столько Пастернака?» Хотя, вероятно даже сам поэт не замечал, что Пастернака в его творчестве так много.
Но в стихотворении «На пороге Неба» слышится «Гамлет» и есть явные переклички, есть стихотворения, связанные с временами года и конкретными месяцами: «Февраль», «Март», «Июль», «Август» и другие явления природы, есть оды Свече и метели и другие пока еще не открытые и неясные мотивы и темы.