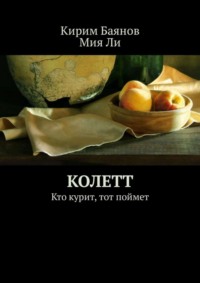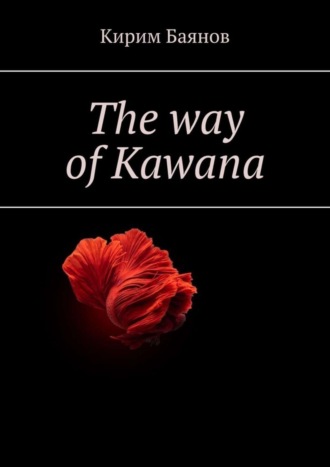
Полная версия
The way of Kawana
Тяжелый атлет, знает, как выколоть пальцем глаз, бить сразу по кадыку, и просто хороший парень. Он знает, как обращаться с пацанками и колючками. С ними нужно обращаться очень осторожно, чтобы не пораниться. Самоирония – несет в себе часть космоса. В нем всегда есть место чему-то звездному и глубокому. Даже когда горечь и кислота на губах от Ксу-ксу или Медвежьей крови.
Ты уже пробовала ее на вкус? Как и твои топ-менеджеры… Говорят, что она горчит из-за котировок. Я подавал ее в одном ресторане в бытность молодости. Шлюха оставила мне огромные чаевые, и с тех пор я не терплю, когда о них так говорят. В ночных бабочках весь нижний мир, а в твоем их место бессрочно занято службой эскорта за бешеные отступные. Шантаж и грязь красивого мира. Туда стремятся глупые девочки из топ-менеджеров с молотками и в белых воротничках. Так пренебрегая каштанами по весне и графами в старых городах.
Ты так устала за этот день, фокусница. И набегалась по арене. На твоих рогах Медвежья кровь и панталоны владельцев. На твоих губах горечь и вкус побед, космос разочарований. Мускус поражений и дождь в глазах. Не пей много. Это бордо. Его нужно пить стаканами только, когда пришло разочарование в принцах и графах Нулях. А я здесь. ты все еще не больна, и я не заколол тебя на рождество под розы и аккомпанементы цимбал. Маленькая коровка. Ты самая разъяренная из быков. Но мед и молоко с кешью все исправят. Я знаю, где у тебя болит. Подчиненный из меня не очень. Но я был бы советник при короле, если бы не мой юмор.
Я не тот, кто оставляет открытое одеяло, говоря до скорой встречи. Я могу оставить открытыми двери. Чтобы ты вернулась, когда закончится страсть по клубам и сигариллам. В этом безумном мире, слишком мало больших и сильных и слишком много забытья и текилы.
Они преследуют всех, кто устал от жизни, полон сарказма и цинизма, богатых и красивых. Они умирают, как пластинка Джона Денвера на патефоне, шурша и смирея. В этом танце больших городов, ты последняя могиканка из последних племен. Главное, что ты добралась до патефона и мы слушаем ключик Мадонны. Старая песня. И большой респект ди-джею, который ее записал. В этом безумном мире, нет таких красот, в которых не было бы подвалов с текилой. И может быть там, сейчас развлекаются дети. Богатство странная штука, от него только хиреют. Помнишь мой совет? Лучше три миллиона рублей на счету или шесть, джинсовый комбинезон на красном пуловере, чем многомиллионный счет в Сингапуре. Так ты хотя бы знаешь, что граф Ноль может не воткнуть тебе в спину нож. Особенно, если ты держишь его на привязи и угрожаешь молотком с сигариллами. Курить вредно. А я пускаю дым из удовольствия насолить тем, кто выпивает и забывает хранить верность. Из меня чертовски плохой пример для детей. В них сейчас больше текилы, чем благонравия. Пусть веселятся. То, что не открывает двери, можно выпить. А ковыряться в носу конфетами и горлышком Bowenа, все равно, что признать достоверность гипотезы Дарвина. Ты же не думаешь, что люди произошли от обезьян. Наши корабли в далекой гавани, у Альфа-центавра, всего лишь остановились на мгновение из туманности Андромеды. Когда наши предки вышли к берегам этого моря, они поняли, что пчелы отдельно, отдельно мед. Отдельно рыбы из которых появились обезьяны, отдельно ракушки на песке.
И ты рисуешь ими панно, выкладывая с ананасами и манго. А в это время играет музыка на берегу. Море сегодня спокойное. Закат на иголках масленицы и ротангов. Веера зеленых кокосов и стаканчиков дяди Джека на стойках бара. Ты стала смирной и мягкой. И в тебе еще столько ласки, которая требует лепестков агавы.
Смотри на небо. Оно цвета карамели в слоях томаго и Passoa фрукт страсти. Маленькие таиландки и большие туристы. В терпком ликере из терна мы коротаем твой отпуск, и это только начало. Конец твоей работы, начало чьей-то. Думай о пальмах, и не о чем больше. О стаканчиках дядюшки Джека без грязи и накипи пустых рифмоплеток, без стылой текилы и сигар под кривыми ртами банкиров. Это всего лишь радость от пары стаканчиков с терном, лапонией или ромом. В них не утопает весь мир с головой и кажется, что всему есть причина. Она не в том, что мы их пьем, а в том, откуда к нам прибивается попутный ветер. Он свеж и бодр. А мои холода и твои панталоны от совета директоров, и мед на губах, всего лишь грязная красота. В ней нет богатства, она скупа. Но может стать домом. Ты выбираешь, каков он, не я. Все это прошло, все это пройдет. Ты станешь немного за сорок, и я с тобой. Богатая и красивая, сильная и слабая. В этом городе катают на мотоциклах? Я запишусь на хайвэй. Пусть нас покатают отдельно. Но я не отстану. Буду видеть тебя. Еще очень долго. Пока Дженералс Моторс не приобретет Сенкайсен дзайбацу. И даже после этого, я буду колоть тебя розочкой от Lamoda или Мадан.
Бывает у меня болит голова, но когда рядом ты… Ты моя, коровка. Я думаю, навсегда.
The way of kawana
Запах сирени и крыжовника. Запах дизеля и авто, смешавшийся пот и одеколоны. Пустыни река, в кракле высохшего дна разворачивается за горизонт. Я думаю, это я…
Снующие люди и зеркала машин. В пустой пачке опять шесть сигарет. Они как гвозди, заколачиваемые в гроб, но я потрачу свое здоровье еще. Одна за одной плывет акация в дыме простуженных мостовых. И только серый ветер, знает отчего так тепл кедр. Я кладу его в кофе. Пар обдает лицо, а запах обещает бессонный вечер. Бессонное утро проходит. Светит яркое солнце. Его жар опаляюще-бодр. Он проходит, и я окунаюсь в стылый вечер. Незаметный, серый человек. Меня никто не знает. Никто не заплачет и не порадуется за меня. Я персть и пыль этих мостовых. За мою голову никто не ручается и не выдаст награды. Я не встречу соседа и не откупорю шампанское на ветру, не скажу тоста на бурной вечеринке, не подам руки в рукопожатии. Но сегодня я встречу ее.
Она, как теплый ветер, приносит в мою затхлую пустоту глубину и свежесть. Дарит новый день, где пустые долины и пепел надежд, так отчаянно борется с ее счастьем и вязкой сладостью духов. Я впитываю их на миг, и думаю, что забыл обо всем. Она, как цветок, который распускается поздней осенней. В этом холодном городе. Ночной порой, где курсируют боль и стыд, жестокость и безразличие, равнодушность и забытье, – материя бессердечных курьез и курбет, – в этом безжизненном городе блестящих авто и железобетонных высоток, ее клубничный запах шампуня одуряюще тонок. Будто я слышу, как она похлопывает себя по щекам, и зеркало отражает ее белую, как воск, челку.
Ее высокие скулы и ровный подбородок. Мягкие глаза смотрят на меня с вниманием, изучая, опасно сверкая. Я чувствую клубнику на ее губах. Она сладкая и сочная.
Что ты натворила, Энни? И если не я… то, кто еще? Что ты наделала? Знать клиентов в лицо, по имени, мой долг и обязанность.
Это день. Этот вечер. Я заканчиваю приготовления и надеваю смокинг. После душа он немного тесен и трет кожу. Слегка поношен и неказист. Такой можно купить за пол стони тысяч долларов в любом магазине, не привлекая особо внимания.
Шелест машин и гомон улиц в спустившейся ночи. Фары ночных метро и авто, огни большого города, – пустого и безразличного. Пара попутчиков в электричке, шатающихся на поручнях, куняющих носом. Кипы и вороха газет на сером битуме улиц. В проулках все еще грязь и слякоть. Кое-где мне встречаются фонари. Я выхожу на гладкий асфальт шикарного и чистого города. Обманчивое впечатление, что он спокоен и спит. Большие торосы домов и коробки высоток. В этих великанах, посреди безлюдных улиц, кажешься себе крохотным и маленьким. Меня почти никто не видел.
Сердце города бьется. Я прохожу ночной отель с вывеской «Сердце города», и мне кажется, что он также одинок. Я вхожу незаметно и ухожу, как призрак. Маленький серый человек с маленькими усами. Такие лица никто не запоминает. Я смешаюсь с толпой и растворюсь в ней, как шепот моря.
Пусть тебя не смущает мое присутствие, Энни. Я иду к тебе. И небо над городом шепчет твое имя…
Я брошу. Буду писать. Все равно что. У меня хороший слог и я умею захватить. Никто не узнает кем я был. Был до этого.
Ночь льется теплом. Это лето. Все из-за него. Моя усталость и ворох пустых надежд, как газеты из прошлогодних лотков, что кидает ветер. Пустота внутри. Я закуриваю снова, и кажется, что в темноте проулки мелькают в сером дыму витрин. Все серое кругом, металл. Пластик и железобетон. Никелированные фонари. В сердце этого города железо и чистые струи талой воды.
И хотя зима прошла, она все еще здесь, в делах, заботах и сердцах людей. В сердце этого города. Она всегда здесь.
Душно. Воротник давит горло. Белая рубашка, как вызов одиночеству, всегда выглаженная и жесткая. Я думаю это начало пути в бесконечность. И хотя он заканчивается для меня, ты об этом не узнаешь. Даже не вспомнишь. Никогда. Все кончается, Энни. И чашка кофе с сердечным, коньком и кедром, – сиюминутная сладость и пыль надежд, отдохновение и персть дорог, – кажется она заканчивается, заканчивается тоже.
Я иду к тебе, Энни. Порази меня своей красотой.
Клерк в фойе, лифт полупустой. Я останавливаюсь за спиной банковского клерка или гостя отеля.
Наверху плавает в ночной поволоке, словно деготь густой ночи, тень. Лунная тень блестящих витрин и неона. Город виден как на ладони. С крыши этой высотки я вижу сети переходов и фонарей. Они полны покоя и снов. Здесь не утихает лишь биение его сердца. На узеньких мелких мостовых под нами темно. Я шел сюда этой дорогой.
Ты стоишь на краю крыши в красном платье. Оно так изящно обхватывает твою талию. Мне всегда нравились блондинки, даже когда я думал, что они мне ненавистны. Это желание простоты и тепла. Мир меняется. Все становится с ног на голову. Раньше голубые глаза считались признаком божественной доброты, синего неба и доверия. Теперь они не в почете за то, что холодны. Блондинки стали иконой семейного счастья и очага. Твое красное платье – яркое пятно в полутьме колышет ветер. Он слабый и мягкий, как кокон бабочки. Я сдуваю пепел с плеча, в расстегнутом воротнике и открытом смокинге, докуриваю дешевую сигарету. Я к ним привык. А ты сегодня сияешь, как королева, недостижимое, невыполнимое желание. Мечта. Слабый привкус бурбона на моих губах. Я не пью на работе. Но сегодня я думал о тебе. И о твоих делах. О тебе, как о мечте. Ты стоишь ко мне спиной и не видишь.
Я так мало знаю о тебе, и что могла бы ты рассказать о себе.
Шорох в дуле, как короткое шипение змеи, растянувшееся в вечность. Секунда, две. Пули летят доли секунды. Всего две. Ты еще не упала, не поняла, что мертва.
И я подхватываю тебя, кладя на холодный битум железобетонного дна. На крыше этого небоскреба. В поздний час. Твои волосы плавают в лунной тени, а я чувствую запах клубники. Он сладкий и острый, – запах весны.
Завтра в хрониках незаметно проплывет твое имя, а я обналичу чек…
В лунной тени твои белые локоны, пуля застряла в виске. След от нее словно опалесцирующая краснота в свете ночной люминесценции. Пара тысяч люменов освещает твое лицо, твою белую кожу. Она как бархат… Быстро холодеет.
С меня хватит. Я больше не работаю по-наему. Жарко. Кажется, во всем виноваты… твои духи.
When you painting someone’s heart
Легкий ветер в окно. Стынет чай. Поздней ночью всегда так хочется чего-то необычного и глубокого. Ты чувствуешь, что она близка. Она приносит что-то желанное, раз за разом, всегда. Горький дым сигарет плавает в сладкой вишне, переполняющей балкон. Так свежо и уютно в этой тишине. Привязанность. Уют. Его восточные скулы и темная кожа, дурман, который он оставил после себя. В моих венах течет его венозная страсть, желание новых встреч, – гемоглобин любви. Слабость и сигареты – вечные спутники моей пустоты. Чай обжигающе тепл, горяч. Его пар обдает мое лицо и кажется, что ночь шлет его приветы с жарким холодом, смешавшимся в промозглом сыром сквозняке. Все это я. Я чувствую этот жар и этот дым, холод и сырость весенних улиц. Весенняя ночь курсирует в веретене сигарет, и хотя на улице все еще по холодно, я чувствую, что могу отдохнуть в этом дворе. Темный свет, тени от деревьев, скрадывает тень луны. Еще немного и я влюблюсь в ее пустую наготу, желтый язык. Она ползает по песку, ластясь к ногам, сверкает на лавочках. В мишуре листвы колышется стылой занавесью зеленый свет фонарей. И хотя он простужен, в ночной тишине тень от него играет в листве, шепчет мне прохладную лесть и шорох лета. Оно близится к нам все быстрей, все неотвратимей. И скоро легкий сквозняк, и холод сменит тепло летних буден.
Жара душных ветров.
Я чувствую тепло его губ с каждым разом погружаясь в ласковый ветер и только легкий бриз, тянущий стылостью промокших улиц, отрезвляет меня своей бодростью. Чай в кружке, наполовину пустой, пахнет терпким танином, патокой и анисом. Его звездочки отражаются в пачке под софитами фотопрожекторов. Еще пару снимков в прохладном сквозняке вспыхивают огнем в лоске азиатки из Дакара и статуэток из Сьера-Леон. Тихий блеск софитов, мягкое сверкание золота и камней. В этой композиции не хватает только журналов. И я бросаю их разворотами с глянцем. Мой подарок падает на меня, и я успеваю его поймать. Какая же ты непослушная, орхидея. Или я сегодня не так ловка.
Метровые бенджамины и веера замиокулькасов бросают тени. На моем балконе их полно. Я снова курю, и дым плавает в моих разбавленных мечтах и фрустрациях, в смоге разочарований и обид, в повесе разжиженных надежд. Плавные ленты загибаются спиралями и фантазийными кружками, стелются по полу, скользят по подоконнику и растворяются в порывах ветра. Все еще холодно, но я разгорячена работой. Пот струится по моей спине. Еще пару снимком, еще, еще. Сет. Сеттинг. Белые вспышки аргона. За окном плавает тишина, разбавляемая редкими кондиционерами и бликами вывесок. Блеск витрин. Затихшая автостоянка. Пахнет корицей и землей. Ветер приносит ее с улицы, даже не спросив почему я сегодня стою в одном топе. Обдувает меня, ластясь холодной щеткой к ногам, колет стылыми иглами, гуляя по моим ногам, лижет пот. По спине бежит испарина. Я заглушаю тоску и грусть работой. Все, что мне нужно здесь, в этом фото, в этих статуэтках и бижутерии, в цветах орхидей и разворотах журналов. Цепочках колец и сережек, в сверкании альмандинов и топазов. Красный гранат в перстне, желтый топаз в кольце. Фиолетовые фиониты и благородный гиацинт. Я думаю о весне и тысячи распускающихся почек, о листве, ласкающей слух, шорохе света в райках теней, в пестроте уличных фонарей. О беззаботном детстве и праздном отдыхе. Я помню, как маленькой девочкой восхищалась ночной суетой, крышами под звездным небом и ветром, что надувает простыни под окном. Холодит кожу в зное на смоляном ковре высоток и забивает в рот сок арбуза. Он течет по щекам и пальцам, его сладость приторна и тепла. Холодная сталь антенн и перекрытий. В эту ночь я забыла себя и солнце, все ушло, осталось только небо, звезды и сладкая радость ягод. Они наполнили собой вечер, и я насытилась прохладой сквозняком и ветром.
Сок течет… плавает звездная пыль, светят иголки желтых брызг. На черном небе плавают торосы облаков. Где-то далеко неон и вспышки ночных высоток, – сердце города. Оно манит своим огнем и чехардой бульваров. Проулки и тупики темных улиц под крышей, все еще грязны и не достроены, глушь и запустение, безлюдная зябь лунной тени, – все как в плохом кино, от которого так славно веет ностальгией и чем-то глубоким, от чего не можешь отвести глаза, с чем не можешь расстаться. Все стирается и растворяется в мишуре пестрой чехарды, в лунной ночи, плескающихся облаках. Они плывут грузно и тяжко, наваливаясь на бескрайнее чистое небо. Черная полоса над синей невесомостью прочертила длинный горизонт отделяя звезды от неба. С крыши видна развязка машин, пустырь и улочки с ночными магазинами в уютной близости друг от друга. Элоквенция бытия. Славный вечер и тяжесть звезд. Вспышки фотоаппарата. Что-то теплое и летнее. Ветер-бутуз. Сладость красных ягод и большая жизнь. Свобода над тридцатью метрами над землей. Все дозволено, все возможно! Нет пределов и границ, все доступно, все дозволено. Все возможно.
Я думала, что так и будет. Но меня успокаивает новая серия вспышек. И я кладу на журнал веточки вербы. Они высушены и легки. В них уже лето, уже весна, а их фото застывает в цифре. Я правлю линзы и закуриваю гавану. Что-то во мне не изменилось, по-прежнему неизменно. Моя печаль и гавана. И если бы я не была довольна собой и красива, то наверно бы курила партагас. Сложно думать, что ты отличаешься ото всех. Я предпочитаю думать, что я другая, и все, что мне нужно это работа. Я еще долго буду вспоминать эти арбузы на крыше. Ведь это единственное мое хорошее воспоминание из детства, а в остальном оно серо и невзрачно. Странно. Вот тебе было шестнадцать, а теперь двадцать семь. И будет тридцать пять…
Только кажется, что я пахну розами. Я так же хожу в туалет и ем бефстроганов. Моя жизнь ничем не лучше тысяч других, и в ней полно неуместности и разочарований. Я интроверт и меня сложно разговорить. Когда мне кажется, что мои ожидания уважения и доброты в ответ на мои не оправдываются, я прячусь в свою скорлупу и перестаю быть любезной. По-моему, это свойственно всем. Никто не скажет, что в этом одиноки только интроверты. Другое дело, что экстраверты лезут в бутылку и начинают обкладывать нелюбезностями, тогда как мне плевать на таких людей и тех, кто не оправдывает моего доверия.
Я равнодушна избирательно. И горе тем, кто не разделяет моего добродушия. Такие люди несчастны. Им очень мало кто верит, благодарит и уступает место в транспорте. Таких людей не любят и стараются избегать. Они несчастны. Впрочем, как и я… Но у меня какая-то дурная карма. Я все время одна, и никто не попадается, чтобы разделить со мной эту соль одиночества.
Я сплю одна, ем одна. Но я привыкла. Я бы рада кого-нибудь встретить, но это сложно, когда живешь на чемоданах. В последнее время, я все чаще думаю о моем друге. Его зовут Фауст. Я никогда не расстаюсь с «Божественной комедией». Она со мной в долгих и коротких поездках. Всегда.
Я ношу почти всегда черное. Оно идет к моему макияжу и губной помаде. Все, что я делаю это фото, и иногда меня саму тошнит от него. Но работа непыльная. Деньги хорошие. Я зарабатываю в основном на стоках. В этот раз я почти полгода дома, и все, что мне нужно это предметная съемка.
Забываю обо всем. Все подождет. Я помню восточные скулы и темную кожу, запах его одеколона. Его сильные грубые руки, – все, что мне нужно. Марракеш. Я оставила все, что нужно мне там. И теперь здесь, в Луизиане, все не так и как-то скучно. Соль одиночества и печаль. Я найду кого-нибудь и осяду. Буду приносить кофе и чай под утро. Валяться в постели и ждать в ответ того же. Все упрощается с годами, я так думаю. И нет во мне злости за потребительство и натаскивание на предмет неразумного пользования вместо образованной дальнозоркости. Я пофигистка, и не очень-то люблю выяснять, кто виноват. Наверно от этого в моей жизни так мало людей, с которыми можно поговорить за чашкой кофе. Может все дело в моей вечной грусти. А может – в бистро попадаются бойкие парни. Но я там не бываю и бывать не собираюсь. Мне больше нравятся кафе и забегаловки. А может все дело в людях. Какие-то чужие, мелочные и тревожные они стали. Никто не познакомится с тобой, если сама не проявишь интерес. И то, случается, что лучше бы ты его не проявляла. Странные люди. Злые, вредные, циничные и скупые на доброе слово. Я предпочитаю быть одна. Я знавала одного поэта, он говорил, что соль одиночества также больна, как запущенный в небо змей. Может быть, он плывет сам по себе, в этом пустом, бескрайнем небе, отпущенный и сорвавшийся с привязи. Тишина заполняет все собой, и только неслышная мелодия странного одинокого детства, чахнет в ней, – змей, плывущий по бескрайнему небу, пустое небо и шорох ветра. И если я забуду где-нибудь свое одиночество с каваной, то гавана непременно напомнит мне о нем. Это всегда красиво, when you painting someone’s heart. Но краски могут быть чужими.
Я так думаю. Еще пару снимков?..
Граф Ноль
Легкий ветер в окно. Стынет чай. Ночь так хороша. Сегодня в ней плавает дурман трав и легкий бриз. Я слушаю ветер. Это элоквенция существа. Когда не знаешь с чего начинать. На моем балконе пара бенджаминов и буйство мелких цветов. Я думаю о пустом ветре и вечер незаметно проходит. Почти поздняя ночь. When you painting someone’s heart. Пара обид, несколько чашек с чаем и персть дорог, пройденная тобою жизнь и пара воздушных поцелуев. Ночь ползет неторопливо, расточая запах аниса и кмина. Пара палочек корицы в чашке ирландского кофе. Странный привкус ночи. Как бархат. Тлеет сигарета в руках. Дым проносится ломанными струйками и фантазийной мишурой. В новый день с новыми мыслями, поступками, чехардой, но пока что он очень далек. И неслышный ропот авто за пределами горизонта, доносится слабой игрой. На улицах все мертво, и даже легкий ветер, что подхватывал дым и играл листвой, улегся. Кажется, что тишина гладит тебя своим бархатным языком, и только стынущие на улице авто под моим окном, отражают свет полной луны. Только в них все еще играют отблески неона и светодиодов. Магазинчик на углу, в узких тесных проулках, спит красной вывеской аргона, подмигивает алебастру фронтонов и акрилу машин. Все как в добром кино. Хочется здесь обосноваться, уединиться и забыть обо всем. Мягкая известь и побелка новостроек. Чистые тротуары и тень луны на белых боках магазинчиков и балконах. Я веду тебя за руку, и мне не хочется ее отпускать. И хотя стынут руки сегодня, здесь тебя встречает уют. В этом городе нет быстрого танца хайвэев и тонкого льда ночных утех; в этом городе не бьют набат новости и даже его самые бурные и буйные события не находят воплощения в грандиозных вешах и курьезах быта, ничто не нарушает спокойного ритма мягкого существа, – неспешного и медлительного. Каждый танец больших перемен и новин, следует мягким, стынущим на ветру венозным вальсом тупиков и витрин, глубоких дворов и темных проулков полузабытых аллей. Все в этом танце напоминает старый ворох газет, – шуршащих под ветром, бросаемых суховеем и пылящихся в грязных потемках неубранных мостовых. Что-то в старом городе ускользает от взора невнимательных прохожих, что-то ускользает от их внимательных глаз. Его чистые аллеи и старый театр, так быстро позабытый, его акации и сливы. Шорох шин под тоннелем софоры. В райках трепещущих теней под листвой горит зеленый огонь фосфоресцирующих фотонов. Зеленый дым и свет листвы, – фонари тешутся музыкой ночи, и теплый дым аллей поднимается от мокрых кирпичей мостовых. Я чувствую его сырость и тепло. Жар душных ветров. Здесь погода меняется два раза на день. Но в эту ночь она застыла плавающими в аллеях сверчками и теплым ветром. Бьются под козырьками подъездов и на лампах рои мотыльков. Туман отступил. Этой ночью чувствуешь неспешный ритм часов. Он отсчитывает минуты и секунды, растягиваясь на часы. Славный ритм парного молока на поздний ужин и снова шуршащие аллеи зеленых софор. Акации и жасмин, так ласково трогают струящийся свет. В подворотнях и проулках застывает фосфоресцирующая тишина. И теплый летний ветер гонит гнетущиеся облака. Над колодцем домов чистое небо. Звезды рассыпаны в глубокой синеве, и только белое пятно луны, сырной лепешкой, плавает в море бескрайнего юга. Южная ночь. В этом слове не хватает света от полуприкрытых листвой фонарей и песни цикад. Теплый ветер льет на тебя дурманом сладких трав. И только жар и трепет ночных фонарей в буйстве теплой листвы и тишина, ползающая в парке лунной тенью, слизывает своим желтым языком мошкару и цикад. Трезвон сверчков. Их натужное пение в полутьме парка, растворяется и вновь погружается в мерный шепот улиц. Их биение, словно сердце города, шепчет случайными шинами разворачивающихся в тупиках авто, цокотом каблуков и скрипом кресел в такси, – быстрый, спорый танец вернувшихся с поездки по делам и с гуляний. Отдых пахнет в этом спальном ложе спальных улиц, наполненной звуками пустотой и свободной робостью сладких снов. Ты чувствуешь? Это он. Покой. Горят бесценные скарбницы тонким, гладким светом желтых ламп: у подъездов, в буйстве листвы и жасминов, в ветвях акаций, на аллейках пустых мостовых. Южная ночь, – сладость и пыль акрид, новый месяц, лунная тень, уставший старик, присевший на лавку, пыльца жасмина и звездная пыль с небес, – все это таинство и колыбель ночных огней, лунная пыль босых, растоптанных мостовых. Все еще мокра и в дожде аллея, по которой мы идем. Старый город, его сердце. Золотая балка, это про эту долину. Но мы не будем спускаться. Слишком долог путь обратно и может занять всю ночь. Пустое депо, такое маленькое и уютное, круглое, с подходящими и уходящими вдаль аллейками, с кафе на углу домов, что хочется здесь остаться. Я не показал еще тебе старую сливу, – коряво раскинувшую ветви. Толстый, как дуба, ствол. Может быть я не так занятен и весел, как твой друг, но я точно знаю, что в этой ночи есть очарование и луна. В свете ее и в тени получаются славные снимки, а потом ты можешь их выкинуть и забыть. Старый город терпит все. Я – один из его достопримечательностей. Все время хожу по улочкам и сижу в кафе пустого депо. Здесь останавливаются троллейбусы и шастают малолитражки, авто. К вечеру жизнь здесь утихает и только пустота сопутствует ночной суете мотыльков. Ее разбавляет суета кафе. Но даже так, кажется, что в этом медленном танце не трогает его улиц медлительный экипаж, проезжающих маршруток и расчетливо-скупые движения обслуги. В кафе все еще горит свет. Оно принимает у себя каждый час, каждую минуту в новый день и в новую ночь. Славный раек листвы. Летняя жара и тепло ветров. Всю ночь горят фонари. Нежно. Слегка. Элоквенция бытия, – когда не знаешь с чего начать, рисуя чье-то сердце. Я жду. Славная слива. Ты под ней, в шершавом свете желтой луны, кажешься тощей фигуркой в раскидистых ветвях. Это новый день. Он почти наступил, но все еще поздняя ночь. В кафе подают кофе и палочки корицы. Голый кофе и сигареты, ночь и лунная тень на сливе. Старая мелодия, перебиваемая новыми из кафе, – это ночь ждет. А я всего лишь пью и курю. Кусочки разбитых сердец, – они всюду; их можно увидеть в лунном свете, long after the flame. Intensity of love. Здесь всюду разбросаны ее осколки, и можно стать совсем серым, подняв голову вверх к небу. Чувствуя, как на тебя садится звездная пыль.