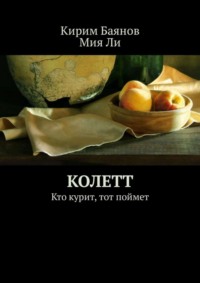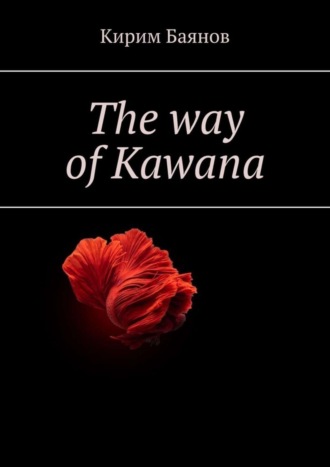
Полная версия
The way of Kawana
Пора забыть о работе. Омлете, что рождает собой долг культурных традиций перед толпой, и наслаждаться этой чашкой кофе наконец так, как будто в робком танце больших городов настала последняя ночь. Под сетью вязкого флуоресцента и ночных алле, лотков, затишье колодцев под оптоволоконной проводкой пахнет безконечной тишиной. Светит луна. И она заглядывает в окно, в чашку, под спуд чая, на дне которой сверкает бутон хризантем. Суп поспел сам, его не надо готовить, из омлета не надо выбирать кориандр и тмин. Ее набережная ничуть не отличается от моей, а в банке с вареньем тоже есть ежевика. Она хороша с молоком. И пусть в этот день она попробует этот коктейль.
Пауки? Что ж. в банках с вареньем они мечтают пожевать не только мух, но и чей-то проездной на самый ранний поезд. Под день всех святых и час вербного воскресенья здесь так же медленно распускаются почки. Из тебя пьют соки, готовят рагу и подают омлет. Но сегодня вечером, все эти блюда в меню растроганных пауков.
В прачечной тебя ждет печальная бабка с бельем, а в кассе приема платежей ее обложат матом из удовольствия послушать ответ.
В этом мире нет виски Arran. Каждый, кто в нем живет – искатель ночных мудырь, памир и разбавленных силуэтов, уютного тепла и холодных Ксу-ксу. Нельзя покидать свой дом после полуночи; а там в реке незабвенных эвфем, всё так же течет избитое кредо времен: «Память – единственное, что остается. Только она, достойна сожалений, за ее отсутствием. Только там есть место кафешке, людной прачечной и обычной хандре по усталой рутине за рюмкой Карт Блё и Карт Рэд в тридцати миллилитрах Велюр. Нуар – это не жанр, а песнь убитого консерватизма. Усталого от жизни и конфетти лояльной прагматики. Скупого эссе. И чая в кино». Его нужно смотреть, когда нет настроения читать провокации за пять сотен йен, промоакции за двести, и ставить крестики на клеточках немых диагоналей, griddler, сумма сбоку и крестики-нолики по-изуверски. В этой забегаловке нет ничего особого, как нет в той, что на реке в Хунань. В ней нет эстетики Нуар и пригодной для этого культуры, нет восхищения хулиганскими вылазками в область археологии и убитой мостовой с колотящим об асфальт баночкой из-под пепси-колы на углу супермаркета полупьяного хипстера, рисующего ими на Хюндай своего соседа кружки от Мерседес Бэнц. В этом нет ничего необычного.
Это их имена пишут в запыленном стекле: «Сука», «Тварь», «Ответишь мне». И «Ты, просто недоносок, падла!».
Что это такое, эти русские слова?
Местный жаргон.
Не требуется перевода. Различные варианты вполне допустимы. Не всегда обозначают одно и то же.
Что и говорить, ты всегда делаешь чай с хризантемами и кардамоном. Эта девушка на фото – не ты, а кто-то другой. Она так счастлива, что кажется будто сошла с небес в розовых Кензо. Она не замечает пауков и банок с помидорами, не терпит лести и лжи. Она не ты… Ты повзрослела. Так мало осталось от клубничного суфле и молока с ежевикой… Ты берешь еще ложечку кахета, и она тянется за ней, словно сироп. Славное суфле.
Не уверен, что взаимность располагает к общению, потому что в ней мало осталось от Хуавэй. Это век техногена. Мы все разговариваем с завитушками под абсент. Не внешняя красота, красит человека. Но и не внутреннее тепло. Не тепло, там, где холодно. Холодно там, где все время снег. Красит любого человека комплекс. Если он большой, то в замок входить всегда приятней, чем в замызганный коридор. Его сложно отличить от карикатурных, но еще сложнее найти. Легкий характер, и малые дозы цинизма.
Нет никаких иллюзий в моем желании скачать картинки из различных частей света мадам самого преклонного и не совсем, пенсионного возраста. Они развлекаются скриншотами и перепиской за чашкой валокардола с гуакомоле и канапе под скрипучий вальс. Это ли то, что мне нужно? Удивляюсь тем, кому – да…
Пока. После того – наступит расплата.
Мило если это удовольствие во благо, безобидно и собирает огромную толпу желающих погллазеть, тех, кто трезв и кому уже далеко за пятьдесят.
Сколько печали было из сиюминутной слабости. И не говори, прекрасная незнакомка из Сайтама или Сун Хунг Кай. Славно, что все, что нужно, чтобы этой ночью светила луна довольней и красно – всего лишь молоко и две чашки кофе, ежевика и суфле под кахета. Нет особой важности в проблемах, упоминать о них еще дурнее. Их было много, и они навалились скопом. Но я выдержал. Так же, как и ты.
Луна сегодня особенно хороша. В ней видно сквозь тлен заволокших ее облаков, сумрак толстых туч. Они плывут на восток, пряча ее за собой, как густой деготь, – медленно заливая в стакан цикорий на белой фарфор. Гало прячется за ними, и дождь, хоть и мелкий, сладок, словно дикий мед.
В такую ночь задумываешься о том, что может быть, ты что-то упустила, что может случиться, призрачно и эфемерно. В чем смешалось вмешательство невероятного и смысл привычного, – в мире простых людей, где привычное неотличимо от призрачного. Печаль… Ты думаешь так же, как я. Это недурно, но хотелось бы холодных капель на распаренной коже.
В этом мире простых людей, где мечты выдаются за явь, свет льётся не так резво, как здесь, в твоей чашке, за окном, в море оставленных под окном авто и позабытых забот. Во дворике тихо падает тишина, спотыкаясь о бесконечное молчание. Ночной колодец в коробках серых домов, в глуши полнота беззвездной ночи и безмолвный колодец. Бочка двора переполнена сном. А за кустами слив и сирени прячется, все еще не уступающий апрелю март. В Окаяме идут дожди и моросит туман. Я думаю, что он там для приятной хандры и случайно слабости. Для души, когда пусто, жарко и душно внутри. Но меня осаживает вдруг незатейливая фантазия, падающие ключи на битум асфальта, и я дую на кофе. Ты тоже? В самом деле? В нем плавают точки над i, и немыслимое удивление падающих на голову мишурой заморочек, – в кружеве из обид и старых, как мир идей, что им правят цифры математических эмблем. Знаки души под запретом законов бездушных этей. Шаркающие шаги в свете укромного уголка, пересекающие припарковую зону у парковки. Одинокий прохожий. Мы все идем разной дорогой, в разных направлениях, каждый со своим багажом, но рано или поздно они приводят к одной: куда уходят те, кому незачем куда-то идти; куда уходить, если нет надобности идти? За целью которой, стоит только конец пути – белый шум болтающего без умолку радио Кавасаки в белом наряде из приукрашенных конфетти, обертках для послезавтра, вчерашней погоде, торгах и пустой Чаньши, где струится недопитое карт Велюр с арабикой. В рутине быстрой реки, что все время стремится в пустое, зыбкое море интриг, стараясь развеять нашу слабость, к Большему, чем просто закономерность в лабиринте – факир, который плавает в спирте MacPheil. Ошибок, задач и веры в ответ. Математической точности. И холодной логики, приумножающей лишь себя саму в себе. Мудрость, печаль, ветер и горсть надежд. Грязный хлеб на столе. Открытое васаби. В планах у осени квартиры внаем и закрытая дверь. Things, that bites…
Математическая точность лжи, что каждый раз выходит за рамки дозволенного, повторяя одну и ту же прозу жизни: если тебе не по нраву грязный хлеб на столе, тебе с ним жить.
Что-то меняется… Но что?
Что-то происходит… Но где?
Что-то в этом чай и чашках кофе с молоком… Ежевика? Она хороша только к молоку. Запомнила?
Я складываю свою зажигалку.
Что-то далеко. В перерывах на обед, забытых мечтах и фатальных суфле на столе немытый кофейнь. Что еще придумает эта жизнь? Фатальное кофе в перерывах на ланч под тортю избитых надежд?
Что-то уходит. Но куда? Пропадает в мишуре мелькающих мимо тебя этей, мыслей и призраков табачных огней, спуде безнадежных дней. Ставших тенями людей? Огней ночных авто в перестуке колес по мостовой, в метро. В юрких ручейках реки, что творит из нечистот, краски жизни, – увлекаясь игрой в маджонг, несет свои воды в праздничной канве присутствующих из нужды вещей. Все уходит, плывет, течет, как песок сквозь пальцы на оставленном тобой в тишине дайкири на безлюдном пляже. И вечер там – будто вечер в крем-брюле. Но в пустой тишине, где главное блюдо ты. В этой вечной тишине снующих людей, мелькающих авто и череде рутин. За чертой города… Подать рукой. Открывается ночная заводь, места утех, закрываются лотки и лавки. Прячутся под тряпки торгаши и лоточники, под замки ходульной избы – мелкая персть судьбы. Хочется плюнуть, но слюна засыхает во рту.
Что-то меняется. Но где?
Что-то уходит, плывет, течет, но куда?
Что-то происходит, но когда? Что-то проходит, остывает, струится, как вода, но зачем?
Что-то перестает быть таким, каким было раньше, – маленькая мадмуазель из Сайтама пользуется вещами больших людей. Но вешать свои победы и обналиченные чеки от бинарных торгов куда? Что теперь делать с дайкири на пляже и куда пойти выпить кофе, чтобы найти пустой бюллетень от прошлогодних выборов? Где? Что сказать? Потому что теперь надо сказать очень многое. Многое не сказанное – томится на душе.
Куда подевалась твоя забытая всеми грация, и где ее теперь искать. Откуда приходит эта скука отчаянного кофе со сливками и куда уходит звездное небо под болонже. Где этот пляж, на котором продают билеты в большое приключение в парк на горе и куда подевался хипстер, который торгует пластиковыми карточками в кредитном отделе под предлогом обресть райскую жизнь.
Куда направляют билеты в авиакассах бессрочных со спичками в кармане, помятых стикеров? Откуда приходит ветер надежд? Он дует так неловко и неуклюже. Поневоле становишься творцом мрачной эстетики. Нуар – не жанр фантастики или безумной, распухшей от инфантильности, пускающей слюни фантазии.
Это проза безнадобности. В ней пустует самое главное, что осталось от пляжа с пахлавой и стикерами авиабилетов в кармане, жизнь лучшую, мелькающих, снующих, текущих и сигналящих авто, призраков, ставших абсолютно незнакомыми тебе людей, лучше скелетов ракушек на безлюдном пляже и мостовой с кружочками от Мерседес Бэнц. Где Moby «Guitar, flute and strings», Linking Park и «My December» помнит «Kite»…
Хочется плакать – почему бы и нет. Только не от чего. Вас никто не услышит. Даже больше – не смотрит в окошко с луной. Поздняя чашка кофе, – как смытый налет Кензо.
Хочется кричать – кричите. Из всех пускающих слюни, бесстыжих, распухших и бредовых фантазии, эта… самая инфантильная. В нет строгих правил и белых воротничков. Отходит ко всем чертям новый вечер. Тускнеет небо над песочным крем-брюле в ракушках олигоцен и морских коньков, застывает в капельках янтаря, облепляя трупики мух и москитов. Курится дым Hem из Мумбай. Ароматы загадочной Индии. В курильницах блуждает забытый, всеми принюхавшийся аромат. Слон на подставке из полистоун блестит слюдой в маслянистых свечах. Что-то в сумерках, падающих в свете полукруглой, трезвой как звон манат, луне. Ты не находишь?
Что-нибудь корсиканское…
Может быть ром?
Что-нибудь сладкое. Из забытых снов…
Что-нибудь необычное – тысяча и одна ночь.
Что-нибудь для души… Всего понемногу. Всего одна ночь под бужуле с карпом и отжившими призраками надежд. Всего-навсего для тебя и для меня. Там, прячутся маленькие вещи больших людей.
These… few words of Truth.
Холодный ветер. Дымлю понемногу. Чашечка кофе и молоко с ежевикой. Запомнила? Хорошо.
Богатая, красивая
– Не интересно, – говорит он, на ее вопрос, что подтолкнуло его к тому, чтобы это написать.
«Не интересно» – и это как лезвие, которое больно ранит.
– Найди кого-нибудь в своем возрасте.
В моей жизни слишком много сарказма, издевок, насмешек и дурных слов. Хочется ранить в ответ. Всех без разбора.
И даже если бы я стал менее язвителен, этому бы послужило множество счастливых моментов. Но их нет.
Только холод. И руки в холоде. Это легкий сквозняк, что по весне треплется в теплом ветре. Я курю, и дым струится из сигареты. В нем, кажется все блеклым и серым. Даже сумерки и сама ночь. В слепых фарах, глядящего авто, отражается красный дым вывески. Неон плавает в черной краске дешевых хюндай и лад – славный ритм, музыка ночи. В темном переулке темных аллей едва горят фонари. Это темный танец фосфоресцирующих путей, дорог, маршрутных такси. Забытых ключей на столе, черствых слов, слышимых из проулков и колодцев домов, на перекрестках. Ей немного за сорок, но она собралась умирать.
И никакие мои комплименты не способны вернуть ее к жизни, будь они в тысячу раз красивы и нежны, как шелк. Грубы и правдивы. Забытье. Татуировки и пирсинг, несколько сигарет марихуаны на день и кривой загвазданный диван в притоне былой молодости Бэтти Пэйдж. Оно приходит ко всем, кто опустился на дно. Мадонна где-то скрипуче играет, внизу из колонок, на пати с приглашенным ди-джеем. Я здесь случайно. Чтобы вытащить полупьяную подругу и-под иглы полупьяного татуировщика. Я ничего не пью. Только пунш. В нем есть немного алкоголя, но я компенсирую это сигаретами и чем попало со столов. Им позавидовал бы самый грязный бомж, не вправе завидовать чему-то пристойному. В этом доме без газонокосилки, ухоженный палисад и лужайка. Странно, что внутри такой кавардак.
Давка в пати достигает пика своего давления. Ди-джея почти выносят на руках из-за стола. Он хватается за пульт, в надежде отбиться от ошалевшей толпы. Марево и дым марихуаны летают над головами и впитываются в пот. Тела полуобнаженные, полуприкрытые чем-то, что с трудом можно назвать одеждой. Пот льется, собирается капельками. Дым сигарет. Даже ненужно курить. Наверху много фикусов: бенджамин и али. Уйма гвоздик в корзинках под стенами и чахлые орхидеи. Здесь запускают под кожу героин, если есть желание. Я стою, будто в прихожей на приеме и жду. Смотрю, чтобы сюда не поднималась Салли.
Здесь сложно найти спортсменов. И все я знаю, что они есть. Среди всех, кто занят накачиванием спиртного и плясками, сложно их выделить. Они смешались с толпой: пловцы, шахматисты, мастера тайского бокса, – у всех одна фигура. Только пловцы чуть крупнее в плечах. Я знаю одного из них. Он танцевал тайский танец посреди отеля, когда его подружка, сопливая блондинка, обкладывала отборным матом русского туриста. Они забрали у него единственные тапочки и довели до белого каления. И когда он им пообещал шалбан в лоб, подойдя к стене и положив на нее руку, потому что плохо знал английский, этот спортсмен начал танцевать, чтобы привлечь людей. А в Лондоне строго обходятся с эмигрантами и туристами. Михаил бы проиграл. Не говоря уже о золотых папах и мамах этой соплячки и этого тайландца.
Я знаю, как выколоть глаз пальцем и сразу бить по шее, в кадык. Эти простые приемы не раз меня спасали. Поэтому никто здесь не покушается на мою гордость. Всем плевать.
Мне тоже.
У Салли есть плохая привычка: задирать нос и сыпать цинизмами в адрес больших парней. Хорошо, если попадется среди них телка. Но в основном, ей приходится иметь дело с бойкими.
Мне это надоело. Пару раз схлопочет по щекам и в следующий раз будет сыпать комплиментами. У Салли шикарный кадык на белой шейке. И хоть она им не гордится, но прятать не прячет. Всем парням интересно проверить. Но нет, у Салли просто отклонение от нормы. И оно придает ей шарма. Я не раз ей говорил, что самая малая капля несовершенства делает ее еще более красивой. И чем уникальней несовершенство, тем более эта капля создает впечатление. От Салли можно сойти с ума. Она козыряет своей красотой и не скромна в словах. Но я держу себя в руках. У меня к ней сугубо инфантильный интерес. Не буду ничего менять.
Мне снились кошмары. В последнее время я вижу их чаще. Может быть все дело в моей впечатлительности, а может я нормальный, и эти кошмары связаны с клубком нервов, которые я сжигал в последнее время. Не хочу потерять ее, как Ронду. Ее изнасиловали и убили. И это при том, что она была паинькой. Салли даст ей фору в сто кутузок и лака ногтей в форме Блэк Саббат.
Черные волосы и бархотка.
Впрочем, Салли не так уж плоха. В ней есть очарование, как говаривал один импозантный пузатый бандит из кинофильма с Чаком Норрисом. Милый такой толстяк. Я всегда думал, что он играет аборигенов из Каира, чтобы купить себе на рождество тысячу мелочей и конфетти в любимом супермаркете.
Салли сегодня носит бархотку. Черную в мелком жемчуге и бисере. Он тоже черный. Я поправляю ее на ее шее и глажу кадык. Она не замечает, прилично набравшись. Рвется в бой. На всем первом этаже гремит музыка и потеют.
Я занимался тяжелой атлетикой, поэтому у меня красивое тело. Но никто из красоток не подходит. Все ждут, что подойду я. А мне плевать, я здесь стерегу Салли. На ее крутых бедрах треплется короткое вечернее платье в стразах, по открытой до неприличия груди и шее течет пот. Он сверкает в полутьме вечеринки, и парни смотрят только на нее. Пустынная роза. Перекати-поле, разворачивающееся розовыми лепестками в шарике-вазе. Вода дает ей жизнь. Если вы ни разу не брали в руки Иерехонскую колючку и наблюдали за тем, как она распускается в воде, вы не поймете.
Алая помада и черное платье на влажном теле. Она бесспорная королева. Среди прочих исхудалых и краснотелых румяных, среди субтильных и сумасшедших гейш, бывалых аристократок и львиц за две сотни баксов в день. Странная компания. Впрочем, домашнее пати никогда не переставало меня удивлять.
У Салли богатые родители, и она не жалуется. Сложно в этом безумном мире найти подходящую пару. Не думаю, что она кинется ее искать еще лет пять. Ей двадцать пять. В этом возрасте только взращенные на Достоевском и рыдающие по Нитке жемчуга, хотят заручится поддержкой мужчин, мужей и так, друзей по работе. Только всхлипывающие по старым фильмам с чашкой чая и дождем за окном, пылают страстью по нежной любви и хандрят по мишкам Банни в розовых колясках за пару сотен йен. Чай в дождь и Джон Дэнвер на пластинке в летний вечер или по весне, так трогает сердца учителей и провинциалок. Хочется налить себе чего-то покрепче и забыться на пару часов. Все уйдет. И печаль, и сладость. И горечь с губ от тупой тоски по принцу, все ненужное и грязное, все, что так волнует и подает обманчивые надежды. За парой чашек самбуки или строгой водки. В этих уютных лонах, домашний очаг правит леном привычного и обихода. Становится теплым сном и плавает в мелодии рома. Пусть и не слишком богатого на оттенки и ноты, то так согревающего и приподнимающего занавес праздников посреди недели. Бывает и к пятнице. Горят на столах и в прихожей лампы. Крадут темноту у ночных кулуаров. Падает блеклый свет, колышется в лампе накаливания. Что-то играет из Денвера, но разве в этом счастье. Оно здесь. В доме одиноком от принцев и нулей, подальше от работы, карьеры и пластиковых стаканчиков на столе рядом с планшетами и лэптопом. И что-то еще. Далекое, непостижимое, глубокое и близкое, – пустая ирония и глубина судьбы, которая вращает, как карусель жизни людей. В привычном ритме, мы забываем о том, что кто-то, где-то, когда-то думает о нас. Сидя в кафе, бродя по улицам, распивая джин-тоник по лавочкам. В зрачке отражается чужое счастье, любимые и любящие пары, целующиеся и жмущиеся друг к другу на виду у ротозеев на остановке в двадцать минут – пару секунд. Что-то дурное есть в этой карьере, которая идет в гору. Что-то постылое. Растаявшие сердца в повидле с вишенкой. Странная мысль, ее не отогнать весной под проливной дождь и Джона Денвера, – так хочется, чтобы кто-то был рядом. Но его нет. Уют и тепло – единственно важные спутники. Они всегда рядом и дарят себя без купюр. В этом доме слишком много места, чтобы чувствовать в нем уют.
Не кидай бычки туда, говорит ветер. Но ты куришь одну за другой, и Нитка жемчуга складывается из нанизанных на нее снов, печалей и горечи на губах. Это ром. Или водка. Нет того, кто способен разделить твое одиночество, наполнить его собой. Карьера, это всего лишь статус, а до отклонений в норме уже недалеко. Тебя спасает только Джон Денвер и беготня суетящегося персонала. По утрам, в сумасшедший цейтнот… Но потом ты приходишь домой. А там все так же мило и по-домашнему. Но пусто и только дрожащий свет от лэд и люминесцента, спокойных ровный от ламп на столах. Богатая и красивая. Только название для пустых надежд. Они вьются, как дым папирос, окутывая тебя своим белым пленом, и что-то не так, что-то терпко и горько. Это обратная сторона монеты. Ее подкидывает праздный шельмец, норовя всегда уложить ребром или стороной вверх, от той, которую ты загадала. В этом нет ничего плохого. Ты не сморкаешься в платок от Джона Денвера и не смотришь фильмов с Чаком Норрисом. Еще чуть-чуть, и ты начнешь помнить динозавров, что Бай Линь украла когда-то батарейки и журнал из супермаркета, и тебе будет казаться, что это было совсем не давно. Чай с хризантемами – славный конец вечера. Начинается ночь. И только в ней покой и сладость. Только чай с хризантемами с сухую погоду, делает тебя добрей и растаявшей, как Иерехонская Роза. К тебе нужен подход, особые слова, но почему-то никто не спешит их к тебе искать. В самом деле, почему? Слишком много косметики, или слишком мало в тебе осталось от нежности? Странный вечер. Он только начался, не смотря на ночь. Пусть тебя кусают угрызения совести, но я не скажу ничего плохого. Я здесь только для того, чтобы посмотреть, как ты живешь.
Салли живет веселее. И не стоит меня пытаться укусить или задеть. Все твои стрелы проходят мимо. На моем сердце железобетонный блок. Там есть и колокольчик. Его дергают, когда хотят войти. Всего лишь вежливость.
Ты приняла это к сведению, и теперь дергаешь за него с неиссякаемым оптимизмом. Но у меня слишком затяжное первое впечатление, и оно малость подпорчено твоей акульей хваткой. Я по-прежнему добр, но уже без интереса к тебе. И если я сейчас уйду, то ты точно растеряешь последнюю нежность в сердце. Я знал куда иду, но не предполагал, что все так запущенно.
Лепестки акации, яблонь и миндаля. Вишни тоже бы подошли. Эта ваза оформлена со вкусом, и не сомневаюсь, что тобой. Ты странная, в тебе много всего.
Салли сейчас спит на твоей кровати, а мы здесь на диване, и тебе только кажется, что между нами пробегают искорки. Таких искорок, которые опорочивают наши с ней отношения, я предпочитаю чураться.
Эта ночь. Все дело в ней. И тебя манит она, как меня. Обещает огни и бурбоновые фонари на рю Жуль Верн. Я думаю о тысячи мелочей и загадок, в которых искушен любой фокусник, но загадки ночи принято решать постелью и зрачками, в которых отражается чужое счастье, чужая любовь.
Фокусница. У тебя бесспорно высокий интеллект. И поэтому я все еще здесь. Мы играем в загадки и отгадки, и нет места тому, чтобы сказать, как красива ваза с лепестками в твоей душе. Как красивы ее лепестки.
У меня нет для тебя загадок. Все они персть и пыль. Я выхожу, как тореадор на арену, когда пишу, но все мои комплименты, которые я могу отпустить в нашем молчании, тускнеют и растворяются как брызги шампанского. Я иногда пью его бутылки в пустом такси. Бывала ли ты в старом городе? И знаешь ли, как слушать его?
– Ты тихий.
И скромный. Но не всегда.
– Это не показатель интеллекта.
Ничто так не определяет человека, как показатель его тоски. Здесь ее уйма. Но в твоих устах улыбка, и это неплохо. Совсем, как Мадонна на приеме у психотерапевта. У нее есть много, что ему сказать, но она предпочитает просто спеть Father got me, Don’t be so shy.
Хорошо, я буду не откровенен. Ты прекрасна, как отпечаток губной помады на моей щеке, шее, спине…
Юмор сближает. Это ли не показатель интеллекта?
Салли проснулась и выползла за минералкой. Как не вовремя, мы только что подобрали ключи к интеллекту. А он сегодня дает сбои на лепестки акации и чашки с кофе. В твоих руках карт Нуар, а на твоих пальцах кольца. Они тебе идут. Пустынная Роза в пустой роскоши. Песнь Валгунты или Моцарта. Не терплю ни того, ни другого. Хотя могу послушать. В этом уютном пентхаусе не хватает хрустальной жемчужины в золотой раковине и тореадора с колотушкой для отбивной в фартуке. Как ты справляешься с ужином? Наверняка обедаешь и ужинаешь у друзей или в ресторане. Это неплохо. Но тореадор в фартуке на кухне, к свечам под бордо и бужуле с карпом, сказал бы, что это все быки и медведи в картинах Бисли.
Ты его знаешь? Он рисует таких, как ты. С пулеметом наперевес, сигаретой в зубах и зубочистками из обслуживающего персонала. Сегодня красное и зеленое, – киви и вишня в глазури, а работе забудь.
Рисовал? М-м… Я не знал.
А кто менее удачен, чем ты, кто экономит на пакетах для мусора, собирая очистки в пакеты из супермаркетов и рулетов за двести рублей? Кто не обедает в ресторанах и не ужинает при свечах? В чьих зрачках отражает горечь и грусть от чужих богатств, несправедливых разделов имущества, завещаний случайных дядюшек из Амстердама или Сансет-Бич? Пустых надежд и шоколадок Риттер Спорт вместо золотой фольги и капуччино Италика за две сотни евро? Ты думаешь о них, когда пьешь бордо и смеешься со мной при свечах? Кто совершил в своей жизни всего одну роковую ошибку. О поломанных судьбах. О той пригожей девочке, что сбила машина и покалечила ей ногу. Ты скажешь, что в виду широты моей души и большого сердца, только в том, что я не трахнул ее, виновата нехватка времени. Что ж. Я не сержусь. Только подумай, что те, кто бродят сейчас по улицам, распивают джин-тоник на лавочках в колодце дворов и сидят за бесконечными чашками кофе в одиночестве, думают о ком-то, нуждаясь в них, не находя в зеркалах авто и витринах. Что кто-то из них хранит верность. А несправедливость в том, что у них нет того, кто это бы оценил. Ты не такая, ты знаешь. Пей кофе. И пару киви с вишней. В этом доме перегорели пробки. Я сам их выкручивал, чтобы ты почувствовала, как хорошо при свечах. Да, его зовут Саймон. Звали… извини. Быки и медведи, красное и зеленое, красотки в трусах и бикини, раскалывающие черепа громил сапожными молотками. Ваши топ-менеджеры? Им не хватает кофе в постель и широты души от тореадоров, выкручивающих лампочки у них в офисе. Кахета с мороженным в сливках под клубнику и дождливой весны в парке с графом. Можно Ноль. Такие встречаются иногда под осень. У них ничего нет. Но в сердце живет тоска по косичкам заплетенным петлей и молоткам в руках сумасшедших топ-менеджеров. Белым воротничкам и запоздалой езде на Судзуки. Можно и в такси. Они знают, как слушать старый город и могут этим поделиться с одной из них. Только, чтобы иметь в знакомых Салли или тебя, нужно хотя бы примерно знать, что такое индекс Доу-Джонса и как он отражается на котировках нефти.