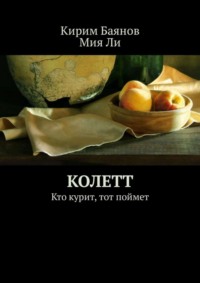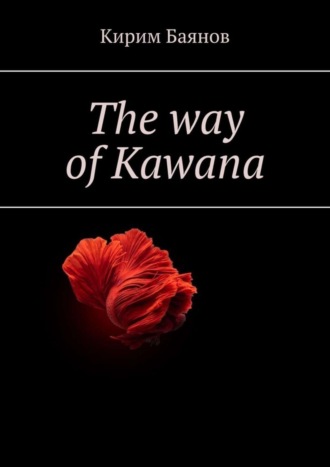
Полная версия
The way of Kawana
– Нет. Буду бить башка камнем. Плохо думать… Зачем ты выкинуть камень, дура!
– В реке много рыба, – отвечает ему жена.
И это как что-то необъяснимое, но повторяющее одну и ту же истину: когда кто-нибудь заламывает руки и бьется головой о стену, нужно подать ему импульс, чтобы он бился сильнее.
Crash, Boom, Bang раскачивается в моих наушниках, и я пою вместе с нею. Совсем как в магнитных динамиках прошлых столетий, разрешает мне впадать в меланхолию усталых романтиков и пустынных улиц, выдирая из нее цепким альтом Sam Brown.
Слушая минорную тишину, сопутствующую моему рейсу, я замечаю, как продолжает прихорашиваться блондинка. Она спрашивала меня уже несколько раз, читаю ли я Волык и как мне этот новый рассказ «Мой нежный…» кто-то там. Не люблю огорчать дам, а потому отвечал, что Волык, само собой, лучше Белык и знает, что нужно публике.
Мне противны ее огромные количества тонального крема и перекрашенные волосы. Но это наверно откуда-то из 80х. Нервное прислушивание к ее чуткой натуре, заглушают тонкие мотивы guitar, flute & sring. И я включаю Moby по-громче. Откидываю голову на спинку кресла.
Мне кажется, что ее можно понять. Довольно странно видеть не лишенного фигуры, в синей обтягивающей футболке и не самой дешевой марки часами, роющегося в записном блокноте, черкающего там каракули и сосредоточенно игнорирующего стюардесс брюнета. В его Orient отражаются ее помада и блеск люмин, складываясь в причудливый блеск. Ему совсем без надобности ее внимание, но она отчего-то решила воспользоваться тем на все сто процентов.
Мне немного печально скрывать от нее мнение относительно ее эрудированности в ситуации сложившихся на мировых рынках и бирже сиюминутных новостей, что я думаю о CNN и шатенах в синих футболках с часами Orient.
Наконец она успокаивается, видя мое безразличие и, в конце концов, я оказываюсь во власти Burning Red. Оно опоясывает каждое мое чувство, каждое движение в нем, тешится игрой равнодушия и тянет меня назад в этих мягких, воздушных креслах к истокам моего прошлого, – самого дальнего, самого далекого, начинающегося где-то глухими нотами форте- и пьяно-. Словно мелодия, прерванная телефонным звонком, – разбитая и дребезжащая, навевающая тоску и амсляв, увлекая за собой перетягивающим неровным звуком.
Раздается дребезжащий голос стюардессы, и я оцениваю мою соседку. Тихо, украдкой, через ее вновь откинутое зеркальце из пудреницы достаю из своего эго и памяти теплоту и приют 80х, где каждый помнит блондинок и химию курчавых волос аля джанк ярд.
Я не очень-то большой джентльмен. И вдобавок прост. Обращаю внимание если не на лицо и фигуру, то хотя бы на шарм.
Он есть, но она худа как недокормленная корова. При ее малом росте, это было бы мыслимо отнести к достоинствам. Но я в этом немного не смыслю. И тем не менее кладу глаз на ярко-красные губы. Такой она очевидно видела одну из актрис в чертовски старом, но еще не отошедшем в анналы преданий блокбастере.
Мне импонирует Волык. Хотя я читал ее немного, но у нее есть очарование. И мне не до конца понятно, что не дает мне заговорить вновь.
Прихожу в себя одним толчком, словно от глубоко сна, в котором я забылся от самого авиапорта: шатаясь по терминалу, следуя к кассе, наблюдая холодные металл и покрашенные стены, бредущих на меня людей, – уставших и подобно мне балансирующих в полудреме, на грани яви и сна.
Открываю глаза и слышу тихий гул двигателей. Очень медленный, растягивающий звук лопастей, копотливый, шуршащий в глубине салона, растворяюсь в темноте неба. За окнами лайнера оно затянуто плывущими облаками. В привычном танце больших ватных клубков, кажется, что все необычно. Ветер за окном еще крепче, чем был. Визжание приглушенной гитары в моих наушниках окончательно вырывает меня из ритма сонной печали, и я стираю подборку в моей К-плейере. Не знаю, как это объяснить. Может быть: пропади оно к черту, все, что не котируется нынешним миром. Пропади к черту талант и дарования. В этом мире, все время недобирающем капли разума и скоростных хайвеев, нет ни на йоту, ни грамма радости. Победы, разочарования, безразличие, как к этой блондинке и теплый джанк ярд восьмидесятых.
Я останавливаюсь, на кнопке удалить, и гляжу в окно, чувствуя, как соприкасаются шасси с землей. Смотрю в монитор черного Ericson, все еще подключенного гарнитурой к слоту наушников, и отчего-то мне жаль наброски, и зарисовки, в которых нет ни грамма надобности. В них нет ничего необычного. Много того, что не понравится, пустых слов и лишних эмоций, но они отчего-то прочно сцепились с моими, и не желают со мной расставаться.
Я подчеркиваю их и затушевываю. Заштриховываю ненужное и наносное. Убираю лишнее, водржаю на пьедестал гармонию и невесомость: «Небо порта, словно звезды в июльскую ночь. Небо Манчжурии, где старый Хоу, говорит мне на языке мертвых. Туман стелется по дороге и клубится вдоль промышленных заводов, построек и электропроводки в огнях и невысоких башен…». Тогда я захлопну дневник и наступит…
«Varum», «Crash, Boom, Bang», Fort Minor, «Nash», «guitar, flute & string».
Я убираю их из музыкальной подборки и растворяюсь в небытие плавающих в танце радиоволн и мелодий. Встаю и иду на выход за кудрявым в мелкий бес на переливающейся маслянистой шапкой черных помазанных будто бриолином волос серьезного на вид низкорослого араба. Или пуэрториканца.
Невозможно определить, но мне казалось будто я видел его крупный нос и черные, как маслины глаза. Метис пододвигает меня, и я извиняюсь, что не наступил ему на ногу, но он, очевидно, занят более серьезными делами, чтобы выслушивать меня.
Стюардесса провожает всех без перебора дежурной улыбкой, на которой, впрочем, возможно прочитать облегчение и счастье от состоявшегося полета.
У меня совсем на редкость несвойственное настроение, когда нет желания кого-то подбадривать португальскими шутками и подбадриваться от того самому. Единственное, чего я хочу, это чтобы меня оставили в покое как ту стюардессу на трапике и записали в мою послужную книжку: «добрался по воздуху, стало быть, не тюфяк».
От посадочной площадки до терминала меня провожает раздвижной рукав, и я попадаю прямиком в зал ожидания, где такие же белые полы и стеклянные двери, как и в терминалах и порту Антверпена.
Усаживаться мне не хочется, за багажом идти тоже. И я шатаюсь, время от времени ища туалет, в котором нельзя курить. Отыскиваю его, спросив служащего и пройдя несколько метров назад к входной точке терминала, открываю дверь и принимаюсь курить. Никого нет, некому меня судить.
В этом свободном и просторном помещении гуляет сквозняк, и я набираю новую подборку на телефоне. Стираю ее, после прослушивания. Улыбаюсь себе в зеркало, докуривая вторую, – мой шедевр был, впрочем, был не так уж плох. Диджей из меня получился бы тоже хороший. Но это не какое-то попустительство и не бездумное расставание со всем, что подворачивается под руку. Мне хочется думать, что это что-то иное. Но я не знаю, что. Быть может какая-то тоска. Или амсляв, граничащий с неизбывностью, промелькнувший, словно вспышка молнии в разряженных облаках. Какая-то грусть, накатившая, навалившаяся словно камень на голову. Что-то тяжелое на плечах. Что-то, что накатывает исподволь на любого, когда-нибудь, без видимой причины, без смысла и без повода, а оттого еще более скверное. Словно обычный пасмурный день, с еще не развидненными облаками, серым небом и хмурой тоской. Ветром, что гуляет в дудках хромированных мостовых. Горько-терпкий запах гаванны.
Я докуриваю сигару. Мыслями вы уже там – в конторе или за прилавком. И все ваши мечты расстилаются под ногами обыкновенного, не щадящего ни больных, ни здравых, обыкновенного случая…
Случая, который приносит богатство и славу одним, а другим бедность и серость буден. И потому, просыпаясь от разбитых надежд, больших и малых в конторе за кипой бумаг или за фасовкой бургеров, словно бы заломленный лист до боли знакомой и неинтересной книги, которую читаете уже не первый год, становится не по себе; будто вы вспоминаете, на чем остановились, перелистывая ее к Ван Гогу от «Войны и мира», и от Моне к пинаклю святой Богоматери, понимаете, что еще немного и вас стошнит. Вы заснете и проснетесь снова на этой главе и дальше вам просто не по пути с этой книгой. Но ему, ей – этой странице в заломленном вами листе, по пути с вами и она замерла на одном слове, на одной букве, в одном мгновении, за которым последует то, что вы уже хорошо знаете, что вы ожидаете, что вам известно, – то, что случается с вами каждый день. И вы закрываете глаза, следя за бланками, гамбургерами, кусками мяса, консервами, и колбасами, кипами бумаг и накладных широко раскрытыми глазами, словно в полудреме вспоминая почему, отчего в вашей жизни случилось не так, как того бы хотел его величество случай. Отчего вы, сейчас здесь, и почему ваши права просрочены, почему так много квитанций за неправильную парковку и зачем вы опять садитесь за руль. Зачем все это повторяется снова, опять и заново. Куда плывет ваш случай, – неведомый, необъяснимый, непримечательный…
Нет. Я этого писать не буду. Выкину, вычеркну, заштрихую где-нибудь по пути домой. Зачем знать, каково тем, у кого нет лимузина?
Что прибавляет вам жизни? Что влечет каждый раз на известную колею?
Может быть, чай? Или кофе?
Что возвращает вас к светлому будущему, быть может не такому осияному и многому перспектив, но, по крайней мере, освобождающему от обыденности серых буден?
Может быть затачивание карандаша или распитие пива за стойкой закусочной. А может, перекладывание и распределение бумажной тяжбы?
Что еще возвращает вас к бодрости, здравому смыслу? Быть может осознание, что, в конце концов, скоро закончится первая половина полудня и будет время выкурить сигарету? Подумать над тем, как улучшить свое финансовое положение и разложить по полочкам в голове весь неприятный роман с Л. Н. Толстым.
Может быть, вы утешитесь тем, что у вас хотя бы отсутствует роман с кокаином?..
А быть может, пина-коллада с рожками из мороженного.
Мне трудно читать ваши мысли. Тем более, когда их так много.
Да и зачем?
Каждый волен сам себе мыслить, что угодно. И лучше всего мыслить себе что-то хорошее. All that I have is what you giving me…
Ну, пусть даже так – мыслить каково тем, кто не возлагает больших надежд, а довольствуются малыми; и каково тем, чьи надежды рушатся, ничтожатся жерновами его величества случая. Но в этом есть что-то другое, и было бы неплохо его увидеть. Другие возможности. Это утешает, так же как хорошие мысли в головах хороших людей.
Мне нет смысла, обращать внимание на то какие у кого головы. Пусть это делают те, кто этому хорошо обучены. А для меня все, кто читает «Гастрономические путешествия», прекрасные головы. Я лицемер. Лгу вам в глаза. Не читайте Набокова и Толстого. Они мне враги. Враги моего кредо. Ведь все, что пишут, должно волновать…
Скверные шутки от скверного настроения. Его не изменить как памятник нынешним дням. А памятник нынешним перипетиям выглядит, наверное, как иголка, – острая и тонкая, которую легко потерять в стогу с сеном.
Ищу свои сумки в вещевом трекере, забывая на время Набокова и Агеева, чуя моих любимых классиков, с которыми не расстаюсь. Их не так уж много.
Отсюда я уеду на авто или чем-то похожем, дымящем и пыхтящем в переполненном автосалоне, пропахшем бензином и старой резиной. Но мне удается сесть на новенький мерседес, совсем просторный и почти что пустой, пахнущий прелыми листьями, захлопнувшейся за дверьми остановки.
Возвращаясь домой, всегда в голову приходят какие-то сторонние мысли. О кровати, о праздновании новогодней ночи, в зимнюю погожую пору, когда снег стоит подтаявшей мокрой коркой и сверху сыплются пушистые завитушки, – как прекрасные заморочки, которыми полны романы странного чудака, ты подбираешь их и радуешься.
Когда ты уже на месте, не в состоянии думать ни о чем, кроме того, что ты наконец-то вернулся. А пока…
Я болтаюсь на сидении то влево, то вправо, низко склонившись в полночных сумерках над листом бумаги, и снова ничего не приходит на ум. Я вычеркиваю, как и обещал ненужные строки, но благодаря этому что-то уходит вместе с ними, – незаметно, случайно, оставляя следы на меркнущей под луной бумаге. Мой рассказ становится все сбивчивей и распорот как наволочка, из которой моросит дождь. Беден и краток путь.
А потому я возвращаю все как есть и уже не помню, когда в последний раз заглядывал в записную книжку.
Города проносятся в мерном танце передо мной, и я забываюсь, приходя в себя за чашкой горячего кофе на остановках в Ялту, дую на руки в холодную предрассветную ночь. Это я пересек океаны времени, чтобы случится здесь…
Довольно странная мысль, то поселилась во мне из бессмертного Брема Стокера.
Девушка напротив меня жмется к парню в остроконечном капюшоне, – худому и высокому, – прячет половину лица в ладонях.
Сходящие на этой станции не расходятся. Лишь оттащив грузные сумки немного дальше от ступенек автобуса, продолжают стоять, обдумывая свои дальнейшие планы. Кто-то срывается с места и уволакивает за собой багаж, кто-то дожидается очередного автобуса. Разговаривают немногие, совсем едва-едва тихо. Шум движущегося со стороны шоссе и станции автотранспорта накрывает нас отголосками эха и гомоном улиц. Почти прояснело небо. Я тоже стою, как другие возле ступеней у открытой двери, и дышу мокрым воздухом во влажной росе.
Оттого что я пересек Атлантику и несколько раз туда и обратно, побывал в Бадель-Бадель, по сути, наплевать этому парню и этой девчушке. Наверно также, как и мне на то, что зеленоглазая стюардесса пересекла по воздуху чуть ли не весь Старый свет.
Откуда мне знать, а вдруг она увлекается экспериментальными видами спорта? Тем более что она зеленоглазая…
У зеленоглазых, знаете ли, особый темперамент и подавляющее их большинство увлекается мужскими видами спорта, особо повышающими адреналин. Нет, я не астролог, просто занимаюсь псевдо-вешанием лапши на уши. Как? Ну не будем никого обижать. И так уже достаточно нахамил Толстому.
Наплевательская погода. И на мою улыбку не отвечает никто, кое-кому наверняка из-под сердца хочется списать ее на трудности путешествий.
Но я не подвел. И никому не дал уснуть этой ночью, рассказывая по пути анекдоты.
Сон ушел, а вместе с ним пришел Мелитополь. Всегда хотел побывать в этом городе. Его роскошный небольшой парк с кленами и выложенным камнями названия с датой города на небольшой площадке, прямо за зданием автостанции пленили меня своей тоскливой степенностью и видом грубого рандеву: отрешенных лавочек, разбросанных то тут, то там, редкими звуками, долетающими с той стороны вокзала. Завлекли обходительностью горожан и подмигивающим светофором на городской террасе.
Мне показалось, будто я попал в свой родной, – город старых лестригонов и отчаянных выпивох. Когда я следовал по парковой дороге вниз к сплошной стене магазинчиков и кофейн, схожесть была лишь поверхностной в обман моего утомленного поездкой внимания, но, впрочем, не оставляло меня удивляться немыслимому сходству дорог и закусочной, которой я соблазнился.
Для меня сейчас было бы в самый раз намешать красный перец с кофе и кока-колой, чтобы вконец протрезветь, но красного перца не оказалось и таблетки аспирина, который можно было бы размешать в алкоголе, тоже.
Я принимаюсь пить кофе. Горячий. Крепкий. Душистый. Словно он из настоящих зерен. Или эти зерна, по крайней мере, хорошей обжарки.
Мои глаза, утомленные бессонной ночью, воспринимают окружающий мир через какую-то мутную преломляющую солнце линзу, и я понимаю, что это просто-напросто замаранное окно.
Вновь вскидываю свой рюкзак и сдаю его уже в камеру хранения. Возвращаюсь в парк. После чего беру билеты и усаживаюсь под одной из ив. Хочу продолжить работу, но ничего не выходит. Только пустое и нетронутое, в котором я зарисовываю скамью с жасмином и несколькими штрихами намечаю кумушки у подножий скамей.
Как шаман вуду я прыгаю и бью в бубен в кругу соседушек, неспешно поедающих солнечный виноград и перебрасывающихся друг с другом улыбками.
Я пересек океаны времен и топи морей, чтобы рассказать вам о безмолвной тихой реке, плывущей вдоль безрадостных берегов, о том, как печальны они под конец нашей жизни, – словно покоящиеся чайки на погребальных камнях, болтающиеся на волнах морской пены и на пятнах израсходованного соляра… Залива, имя которому Балаклава, – в цвету садов и опьяняющих букетах молодого вина, когда мы поднимаем голову и видим в полете птицу, а на утро выпиваем стакан воды и становимся еще хмелее от еще неперебродивших остатков. О том, как похожи страны и полуострова с островами; что здесь в этом краю отдыхали великие люди; что он скоро будет со мной и мои мысли путаются друг в друге, будто в сетях отважных листригонов. О том, что время течет здесь не так как там. А там, не так, как здесь…
Распущенные почки вербы, желтые листья яблонь. Подернутые охрой листья кустарников и винограда, – таким я увижу Крым…
Под конец дня, болтающиеся провода теле- и коммуникационных узлов на заволоченной серой дымкой улице, ближе к вечеру, всегда навевают грусть.
Особую.
Несравненную ни с чем описанным классиками, полную журчащей по трубам теплосети воды и напоенную весенней прохладой, – когда еще ни зима, ни осень; когда все еще тепло и по-летнему тихо. Лишь тонкий еле колышущий ветви ветер скользит по углам домов и теребит листву, – шуршащую и замолкающую в толщи глухого шума, звенящего тишиной телеэкрана, выставленного на нулевой канал.
В такое время сладкий, немного подгнивший инжир воскрешает не только ваши надежды, но и самые приятные воспоминания о том, что было и будет. Ешьте его, а те, кто лежит подобно осенним листьям пусть подымит сейчас, и всегда, порыв ветра, расстелет их новым узором, подобно радужному ковру, в котором есть место небу, солнцу и травам, – повторяющемся изо дня в день, из минуты в минуту, в вечном движении противоположностей, что так притягивают друг друга.
Я выхожу на автовокзале и пересаживаюсь в японскую малолитражку в городах разбитых дорог, присаживаюсь на первое место рядом с водителем и надеюсь, больше никто не подсядет.
Так и есть.
Когда мы почти подъезжаем к выбеленным гаражам перед супермаркетом в тонкой узенькой дорожке часто окутанной сливой и разнотравьем, водитель крякает недовольно и скорбно обращается ко мне:
– Посмотри, что за дорога?
Говорит об автоинспекции и упоминает о своих мыслях, что вместо того, чтобы брать с людей штрафы, лучше бы исправили в нашей стране само название.
Я отвечаю, что это же страна такая, какой она есть и молчу.
Я почти дома.
И где-то тут, там… меня ждет хайвэй-Дженни, которую я творю сам в этой мешанине из лоскутков былых фантазии, бессеребряной красоты и бессмертных классиков.
Последняя сигарета. Последняя… Как смерть…
Все время последняя, говорит в моем сердце Гребенщиков и Мэрилин Монро…
А потом я, трезвея, задаюсь последним вопросом, который не хочу говорить про себя и вслух. Быть может, этот город, в котором я не был так долго уже потерян, давно потерян для меня…
Вполне…
Иллюзия, навеянная дорогой.
Так много нужно сказать, но почти все не к месту.
И я вычеркиваю это из моего блокнота. Вы думаете, это лишнее? Кому-то придется по вкусу. Возможно… Вполне…
Я уже здесь. Выхожу. Это моя остановка, а вам думаю дальше…
Пусть вас везет Дженни…
Через пустынные автострады и парковые аллеи, по дороге мимолетных иллюзий, наполненных жизнью ваших грез и желаний, – осуществимых и неосуществленных, – мимо автостоянок и магазинов. Банок из жести, катающихся по тротуарам и застывших в янтаре фонарных огней, под скамейками и возле мусорных баков. Мимо деревцев, уснувших с птицами, срывающихся с веток и хлопающих крыльями при первом же звуке двигателя, мимо кладбищ и одиноких пустых тоннелей, наполненных бликами трассирующих огней над головой и в спицах, проносящихся за вашей спиной, мелькающих далеко впереди.
А вы держитесь за спину. Не смейте говорить куда ехать. Вы всего лишь попутчик, и рискуете им остаться, если будете нетерпеливы.
Пусть дует в лицо вам ветер, облизывает щеки и плечи.
Пусть кажется, что это беспросветный тоннель, безостановочная погоня наперегонки с жизнью увлекает вас в никуда и вы знаете, что начинали путь неоткуда…
Но так и есть.
Это дорога.
Пусть она кажется вам чем-то большим, потому что так будет…
И я услышу также отчетливо, как вы, рокот двигателя, шорох шин, стелющихся по мостовым и шоссе, припомню, что важно знать, что любовь, это не только дорога или трасса с двусторонним движением. Это дорога, в которой вы меняетесь, а за рулем, каждый из вас, следуя своими путями…
Пусть города проносятся мимо. Но что-то остается. Что-то неуловимое, – скользящее и мимолетное, соскальзывающее в пустоту летней ночи, тишину и механический шум мотора.
Притормаживайте на поворотах.
Глядите на распускающиеся ветви саги. Иначе вас одолеет то, что одолевает каждого, кто пробовал на вкус ночи в Арле. В привычно-безразличное небо добавлены краски индиго, и все, что творится там внизу, станет для вас пустою гаванью, в которую так дурно и не с руки возвращаться.
Пусть Дженни везет вас, а я выхожу. Это мой дом. Я здесь живу.
These… few words of Truth
Славный день или славная ночь. В них так хочется раствориться и только привычное тиканье часов, безмолвно двигающих стрелки, медленно вплетаясь в сладкую полутьму эркера, дают о себе знать. Я думаю о прекрасной незнакомке, повстречавшейся мне в сети и блеск привычного бордо прибавляет в бокале. Я думаю о ней все чаще. За эту ночь я вспомнил ее почти десять раз и что-то случилось со мной. Что-то ускользает.
Как пристыла красота, которой не замечаешь. Шапки деревьев за окном в цвету и росе от тумана. Я не замечаю их, думая о ней. О том, что не отказался бы от пары слов за чашечкой кофе хотя бы приблизительно криво-косо на общем, о фугу, марципане, хотами и ее родном брате, бывшем реноме из Сун Хунг Кай или КНУК, Гайтаме или бодзюцу, ее родном доме, и о том, как сейчас там. Пуэре, и что говорила ее экономка о дзайбацу в Чжоу, готовила мама на рождество, и как она справлялась по дому, будучи занята в Anker Чанша. Что делает теперь, после выпуска из университета, и отчего так многострадален быт. Что она планировала на уикэнд и Боду, когда на нее свалилась куча проблем, инвестиций в будущее, если они есть, каждодневная суета. И в этот славный момент, когда у нее выдалась приятная минутка уйти в законный отпуск, мне было бы интересно, что она делает в такой дыре, как та, из которой давно никто не выезжал, чтобы никогда в нее не возвращаться.
Что она здесь делает? В этом маленьком провинциальном городке.
Возможно, она искательница странных развлечений, в своей форме более чем достойных перверсий, а быть может в ней скрыта душа авантюриста. И каждый раз, сидя в Sun Hung Kai Вачай за столом маленького офиса, она за своим маленьким Huawei Colorful или Colorfly, уже дома, жаждала всегда перемен.
Есть ли у нее все еще желание отведать омлет по-французски с рук русской кухни? Если да, то пусть в эту ночь, как будто в Хакаме или Чанша: на восточном побережье идет дождь и плавают пластиковые стаканчики возле плавучей прачечной, перед джонками на причале горят огни больших городов. Люди и технополис, струящаяся автомобилями развязка и хайвэй празднуют победу над крохотным существованием, суетясь и вия объятия. В улочках захламленных дворов плавают желтые огни флу и неона; в колодцах и узлах водостоков, в развилках шоссе, на перекрестках и круговой, в танце больших перемен, медленно утопает в тумане город. В неслышно спустившейся ночи, она, как дома, бросает ключи на маркетри перед входной дверью, сбрасывает пальто. И плывет на кухню, – в строгом воротничке, набрасывая по пути кардиган. Он куплен по цене два за одно. Готовит себе кофе, поправляя манжету, выправляет воротничок изуверской компашки, в которой проводит большую часть своей жизни, не имея возможности оплатить вовремя счета и хоть как-то улыбнуться радио Хунань, болтающего о всякой всячине, как обычно, как всегда проводя ночь в одиночестве под аккомпанементы колонок Toshiba или хитати сэйсакусё: глядя на хрупко подрагивающие светодиодами Сэйко, которое она купила на барахолке в базарном ритме бешено агонизирующего сидё, под звуки джаза и ритмы станции «саппоро на сегодняшний день стоит всего лишь десять тысяч», вспоминая о днях веселья на дни рождений и праздник мая, считая недостающие двадцать сен из отложенных в качестве подарка коллеге по работе, – помнит, что здесь виски стоит всего лишь девять, (особенно под маркой Саппоро), в местной пивнушке местного разлива не добавляют пива к воде, и у меня все так же весело, как у нее.
Ей некуда спешить и сдаваться в аренду вечно терзающей ее дзайбацу несколько раз на день. Негде упасть в сети безумной ночи и ритма авто, пользующего ее саму, чеки и счета, выставленные за отсрочку, – распрощаться с совестью, выдержкой и самообладанием, цейтнотом и ворохом головокружительных пустяков. Чашечка кофе, которую она пьет, – не прикрыв ладошкой рот – не призыв к исполнению четко указанных церемоний, не долг перед традициями или формальностью, а пустая разбавленная мной фантазия. Здесь нет зубоскальной компании, каждую секунду норовящей отгрызть от нее пару фибр и пожевать в исступлении воротничок. Отколоть номер с ее жетоном или отжать пару йен в ритме «Follow me» Kretzmer & Shaper. Нет вечной тоски. А если и есть, то только такая, как сейчас, в River of Cristal, где каждое ее неохотно исполняемое желание, проявляющих интерес к их пациентам забегаловки на Набережной, есть нечто интеллигибельное и посредственное в сводке набежавших купюр. И даже без них, официанты здесь не краше, чем в Чанша.