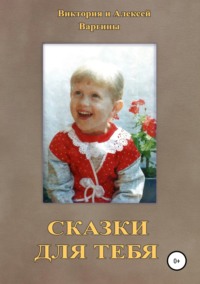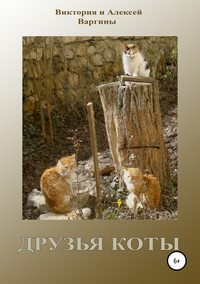полная версия
полная версияСолнечная тропа
Эта способность цепко держаться за жизнь и устремлённость в будущее замечались во всём. К каждому жилищу поселян прижимался небольшой огородик, опоясанный лёгким пряслицем, как видно, от скотины. Крестьянская нива занимала значительную часть пустоши, и по ней ветер катил жёлто-зелёные волны яровой и озимой ржи. По краям хлебного поля широкой бахромой лохматилась ботва репы.
В другую сторону тянулся луг, на котором паслись коровы и овцы, поодаль резвилось несколько лошадей с жеребятами. Однако Лёнька нигде не видел людей.
– А где же все?
– Слышишь ты в лесу перестук? – в свой черёд спросил старец. – То лес валят, к зиме бо новую избу ставить будут. А жены с детьми ягоды, грибы собирают, в озере рыбу ловят. Никто туне хлеб свой не вкушает.
– Так что, дома совсем никого нету?
Как будто в ответ Лёньке над деревней прорезался пронзительный плач маленького ребёнка. Лёнька хотел определить на слух, в какой избе зашёлся младенец, но крик носился в воздухе, словно перепуганная птица. Оборвался он тоже резко, и вот уже в тишине снова отдалённо стучали топоры.
– Подойдём поближе, дедушка, – попросил Лёнька, – отсюда не видно.
– Не обессудь, свет мой, а неможно нам внити в селение, – ответил отец Софроний. – Тут сумежие для тебя. Постой, погляди, аще хочешь, а больше не взыщи.
Лёнька не спрашивал, что за сумежие не пускает его в Пески; сейчас для мальчика это было неважно. Глядя на деревню, возле которой он чудом оказался по чьей-то безграничной милости, Лёнька думал: вот сейчас крестьянские топоры настойчиво рубят деревья, чтобы эта деревушка утвердилась на земле и когда-нибудь выдвинулась из лесов на распутье людской жизни… А в его время избы пустеют, люди уходят из Песков, и на месте прежнего жилья вырастают деревья. Как ни странно, теперь в этой мысли не было ничего страшного или грустного, а было ощущение чего-то единого и непрерывного…
– А какова-то Москва ваша, Лёня? – спросил старец, когда они возвращались к землянке.
– Москва?.. Большая…
– Ныне сорок тысящ в ней. В ваше время, известно, и поболе будет…
Лёнька произвёл в уме кое-какие подсчёты.
– В двести раз больше, – сообщил он.
– Господи! – отшельник даже пошатнулся. – Что еси речешь, чадо?!
– В двести раз… – повторил Лёнька и сам испугался.
Отец Софроний несколько времени молчал, полностью уйдя в себя, а затем промолвил вполголоса:
– Се несть ничтоже ино, но оскудение и духа, и ума…
Больше он не проронил ни слова до самой своей полянки.
– Вот, Лёня, – заговорил он потом, – вижу, крещен ты во Христе. Повеждь мне, где же крестик твой? Не в лесу ли обронил?
У Лёньки не поворачивался язык солгать старцу.
– Нет, крестик я вообще не ношу. Крестики у нас одни попы носят, и ещё старушки. Если я так в школу приду, меня засмеют и выгонят из школы.
– И отец твой крещен, и мать, – продолжал инок Софроний, непостижимым для Лёньки образом прозревая будущее как бы настоящее. – Креститесь, сораспинаясь со Христом, а церкви святой не знаете, волею отвергаетесь веры своей…
– У нас если узнают, что ты в церковь ходишь, – совсем пропал, – признался Лёнька. – Меня бы и крестить не стали, если бы не бабушка. И то не в Москве крестили, а в какой-то деревне, чтоб никто не узнал. А если бы узнали, отца бы с работы вытурили и никуда больше не взяли.
– Гонят, воистину, у вас христиан, бедное дитя. Какая же вера в чести суть?
– А никакая. Нас учат, что Бога нет, всё это выдумки, а человек произошёл от обезьяны.
– А после смерти? – тихо спросил седой подвижник. – После смерти на что еси уповаете?
– Ни на что. Умрёшь – и нет тебя.
На челе отца Софрония лежала глубокая печаль.
– Лютое суть время, – сказал он со скорбью, – безбожное время. Како живы-то в бесовствии сем? Речешь, крестятся люди – якоже непотребное что творят – татьбою? Что же за владыки у вас – от сатаны, что ли? Вот сказывал тебе про татар. Великую пагубу несут земле русской, а пресвитеров в церкви щадят и живота не отымают. Дикари, язычники суть, но вот чтут чужую веру, понеже Бог им – не слово, всуе молвленное. А у вас вовсе без него восхотели прожить… Оттого и нестроения все, и смуты. Несть Бога в душе – в нея входит лукавый, а с ним уныние, жестокосердие, страх. И велми же велик тот страх, от него душа едва не разделяется от тела. И, убоявшись зело, бежит человек во град многосуетный, яко муравьиная куча, и чает, что подадут ему врачевство… Но и во граде то же: празднословие и душевная проказа, неможение, тлен… Во зле привитают люди, забывшие Бога, по достоянью и примут.
Отец Софроний встал и, ничего не объясняя, удалился в свою келью. «Может быть, ему стало плохо? – с беспокойством подумал Лёнька. – Ведь он живёт здесь, чтобы молиться Богу. И молится он за всех людей, и за тех, которые родятся потом, – за нас. А мы…»
В эту минуту святой старец вновь появился на поляне. В руке его поблёскивал маленький серебряный крестик на суровой нитке. Этот крестик старец одел на шею мальчику.
– Вот, Лёня, тебе благословение мое, – сказал он и перекрестил Лёньку. – Носи, не смущаясь, по вся дни, да пребудет с тобою благодать Божья. То правда, что сердце дитяти – отверстая дверь для нея. Пускай же восприимет тебя десница Господня и да прилепишься к нему всею душою и всем разумением своим. Скажу тебе на пользу: верою своей не хвались велегласно, но зри на мир очами веры – и дано тебе будет многое прозреть и по земле ступати право. Ибо кто возводит очи присно к Живущему на небесах, того упование его не посрамит вовеки. Аще владети будешь сокровищем невещным и непохитимым, то и иных умудришь во спасение. Внемлешь ли, чадо?
– Да, – ответил Лёнька и коснулся рукой серебряного крестика на груди.
– По мале времени воротишься домой, дабы не умедлить в веках сих долее дозволенного, – сказал старец, и его родничковые глаза брызнули на Лёньку синим теплом.
– А как же я сумею, дедушка?
Отец Софроний подошёл к мальчику, поцеловал его и ещё раз перекрестил:
– Храни тебя Господь, благодатный отрок.
За сим он опустился на колени и, падая ниц, стал молиться необыкновенно горячо и как бы возгораясь от собственной молитвы. Скоро Лёнька почувствовал, что страстное и высокое напряжение духа – этот непопаляющий огонь – объемлет и его. Тогда же мальчик заметил, что окружающее пространство в силу каких-то причин изменяется, ускользает от его взора, словно теряется в галерее кривых зеркал.
– Дедушка! – закричал Лёнька и, обратившись в ту сторону, где молился дивный старик, не увидел его.
Зато он ясно увидел речку, размеренно бегущую в низинке меж холмистых полей, и невдалеке – деревню: несколько изб в окружении запущенных садов.
– Эге-гей! – что было сил завопил Лёнька и во весь дух бросился к Пескам. Вдруг он вспомнил о своей одежде, вернулся и без труда нашёл её. Маленький серебряный крестик мальчик спрятал под рубашку.
Осмыслить всё случившееся сразу Лёнька не мог. Поэтому он и не стал никому ничего рассказывать. Слова же, заповеданные мальчику святым старцем на прощание, вообще легли на самое дно души. Они касались одного Лёньки и по какому-то внутреннему его убеждению не должны были более повторяться.
Мальчик сказал бабушке, что ходил на речку, и она, совсем расстроившись из-за воды, ни о чём больше не спрашивала. Только подумала, глядя в сияющие Лёнькины глаза, как легко и беззаботно в девять лет воспринимается действительность.
ИСПЫТАНИЕ
Дед Фёдор возвратился из Раменья под вечер, Антонина Ивановна и Лёнька уже все глаза проглядели, высматривая его. Подошла Пелагея, она тоже не находила себе места дома. Вид у Акимыча был смертельно усталый.
– Плохо дело, – сказал он и натужно раскашлялся.
– У председателя-то был? – спросила Пелагея.
– У председателя колхоза и у председателя сельсовета – никому мы не нужны. Говорят, нету ни средств, ни людей, чтоб колодцы в заброшенных деревнях чинить…
– Так что же нам, помирать? – с упрёком спросила бабушка.
– Вроде того. То есть Мотькин, бригадир, именно так и выразился. Пошутил, называется… А если серьёзно, то советуют нам в Раменье или в Харино перекочёвывать.
– А чтоб им… самим перекочевать куда подальше! – вышла из себя Пелагея. – А как нам это сделать, не научили часом?
– Как сделать – не их забота.
– Дожили, – Антонина Ивановна встала и, не глядя больше на Акимыча, занялась самоваром.
– Можно, конечно, самим мастеров нанять, – тут же снова заговорил дед, – но дороговато это встанет, не потянуть нам… Подсказывали добрые люди, что дешевле сейчас скважину пробурить, чем колодец ремонтировать. А скважину, мол, пускай дачники бурят – им вода тоже нужна. Да и возможностей у городских поболе.
– Ну да, ну да, щас они разбегутся скважины тут бурить, – приземлила мужа Пелагея. – Им и нужно-то ведро воды в день, так за ним и на речку сходить можно.
– Сколько ж это стоит – воду пробурить? – без особой надежды полюбопытствовала бабушка.
– Не уточнял я, много. Однако мудрёное это дело. Надо ещё трубы самим доставать, потому дефицит это. Потом, объяснили мне, не всегда сразу и вода даётся. Бывали случаи, с десяток скважин пробурят, а её так и нету.
– Куда ни кинь – всюду клин, – Пелагея Кузьминична была мрачнее тучи. – Ну, нальют здесь чаю-то? Ничего нам самим не сделать, чего мы можем?.. Ага, спасибо, Тонь, вода с речки, что ль?
…Лёнька в разговоре не участвовал, он сидел в уголке и по лицу Акимыча пытался определить, что же тот собирается делать дальше? В то, что дед смирится с гибелью деревни, Лёнька, конечно, не верил.
– Акимыч, а что теперь? – спросил он, когда пошёл провожать деда Фёдора до дому.
– Теперь нам надеяться не на кого, – ответил тот.
У Лёньки вытянулось лицо.
– Значит… всё?
– Ну, почему всё? Завтра с утра попробую в колодец слазить, хотя бы понять, в чём загвоздка там.
– Акимыч, а если поймёшь – починишь?!
– Ох, не знаю, Лёня, новое дело для меня… Хотя, с другой стороны, я многому вот так, по крайней нужде, на ощупь учился. Скажем, печки класть. Сложили мне как-то печь: один дым да угар, а тепла в доме нету. Помаялся я эдак с недельку, а после разобрал её к чёртовой матери и сам сложил теплушку. Ну, конечно, пришлось повозиться, зато потом сколько я этих печей переложил!.. В любом деле главное – принцип уловить, а прочее само придет. Помощника половчее бы мне…
– А я?
Акимыч улыбнулся было, но потом смерил мальчика взглядом и сказал так:
– А чего в самом деле? Деревенские ребята всегда старшим подсобляют, и мы попробуем… А пока иди-ка, Лёня, спать, и я пойду. Устал я, ровно на мне весь день воду возили. Эх, вода, водичка!..
…В эту ночь Хлопотун появился в кухне раньше обычного.
– Ждёшь? – спросил он полуутвердительно. – Это хорошо. Обувайся и пойдём.
– Куда?
– Воду в колодец возвращать, – сказал домовой, и Лёнька с грохотом слетел с лавки.
– А ты знаешь как?!
– Тише! – цыкнул на него Хлопотун. – Знаю, конечно, мне твоя помощь нужна.
– Ну, так пойдём, пойдём! – воскликнул мальчик, приходя в сильное возбуждение. – А может, инструменты какие-нибудь нужно взять?
– Не нужно, – ответил Хлопотун и, как давеча дед Фёдор, окинул Лёньку пытливым взглядом.
– Ты чего, Хлопотуша? Мы идём?
– Идём.
На улице мальчик раззадорился пуще прежнего. Он представлял, сколько радости будет завтра в деревне, если сюда вернётся вода. Очень нравилось ему и то обстоятельство, что сам Хлопотун со своими мистическими способностями не может обойтись без Лёнькиной помощи. А чуть раньше его определил в подельники Акимыч.
Лёнька оглянулся на домового. И отчего тот всё молчит, как будто воды в рот набрал? Ну вот, опять вода. Ладно, пусть себе молчит. Всё равно ему придётся заговорить, когда они придут к колодцу.
…Высоко задравший шею колодец-журавль в темноте смахивал на чудовище, которое стояло на страже подземных вод и ненароком задремало.
– Я спущусь вниз, а ты стой здесь, – распорядился Хлопотун. – Ничего не бойся и думай про воду – представляй, как она к нам возвращается. А когда я снизу закричу, то вот бутыль воды, выльешь её в колодец. Выльешь и попросишь: «Малая, позови большую!» Понял?
– Понял, – сказал Лёнька и отметил про себя, что никакой бутылки с водой, да и без воды тоже, он у домового до сей минуты не замечал.
Хлопотун вспрыгнул на колодезный сруб и исчез, словно на самом деле провалился сквозь землю.
Оставшись один, мальчик огляделся вокруг. Ему показалось, что тьма сгустилась; Лёнька поднял голову – в ночном небе он не увидел ни луны, ни звёзд. Ещё одно несоответствие уязвило его натянутые нервы: совсем перестали кричать лягушки в пруду деда Фёдора. Лёньку окружала непривычная немая темень, и можно было лишь догадываться о том, что она таила.
Неожиданно мальчик заметил какую-то тень, бесшумно двигающуюся прямо на него. У Лёньки по коже пробежал мороз. Он хотел позвать Хлопотуна, но вовремя опомнился: если это человек, домовой всё равно не появится перед ним. А главное – Хлопотун сейчас кудесничает в колодце, и мешать ему нельзя. Лёнька прижался к срубу, ощутив спиной каждое брёвнышко. Тень же оформилась в незнакомого мужчину.
– Эге, – удивился он, обнаружив у колодца перепуганного мальчугана. – Почему здесь, в такой поздний час?
– А вы? – немного оправившись от страха, спросил Лёнька.
– Хорошее дело! – рассмеялся незнакомец. – Я его спрашиваю, а он меня. Ты вообще кто?
– Я Лёнька, а вы?
– Ну, ты прям как заведённый: а вы, а вы? Я в Харино иду, да вот припозднился. Звать меня можешь дядей Гришей. А это, как я понимаю…
– Это Пески, – подсказал Лёнька.
– Вот и ладненько, недалеко мне уже… И колодец на пути попался, а то совсем жажда замучила… – дядя Гриша взялся за бадейку.
– А в колодце нет воды, – предупредил Лёнька.
– Вот те раз! Ну, дай хоть из бутылки твоей хлебну водицы, – и он потянулся к той «малой», которая должна была позвать «большую».
Лёнька обеими руками прижал бутылку к себе.
– Не могу, вы только не обижайтесь!..
– Что? – спросил мужчина, приблизившись вплотную к Лёньке. – Захожему человеку глоток воды не дашь?
В этих словах, а вернее, в том, как дядя Гриша произнёс их, было что-то такое, от чего Лёнька опять струхнул. Но он крепко помнил наказ домового.
– Честное слово, не могу! Потерпите ещё немного, дядя Гриша, в Харине напьётесь!..
– Незачем мне терпеть, – прорычал тот, – давай бутылку, быстро!
От его любезности не осталось и следа; он грубо схватил Лёньку за плечо, но мальчик вывернулся и, не выпуская бутылки, шмыгнул за угол сруба. Ночной гость криво ухмыльнулся.
– Не поможет тебе никакая «малая», ясно? – дыша злобой, процедил он.
Лёнька похолодел, а тот, кто называл себя дядей Гришей, вдруг широко, неестественно широко для обычного человека, раскинул руки, и его глаза вспыхнули зелёным огнём.
– Отдай бутылку! – видимо, в последний раз приказал он, наступая на Лёньку.
– Не отдам, – ответил мальчик.
Он стоял – словно маленький слабый росток под натиском ужасной бури – и дрожал. Однако если бы в этот миг на него ринулись все силы зла, он и тогда ответил бы им «нет».
И страшный незнакомец понял это. Он остановился, словно наткнулся на невидимую преграду, и изменился прямо на глазах: звериный взгляд потух, руки повисли, а в фигуре даже появилась какая-то согбенность.
– Уходи, – сказал мальчик, и незнакомец безропотно подчинился.
Когда темнота поглотила его, Лёнька опустился на землю и прислонился к тёплому срубу «журавля». Он поднял пылающее лицо к небу и увидел, что оно вновь полно звёзд, а мёртвая тишина сменилась обычной музыкой ночных Песков. Внезапно в эту музыку ворвалось что-то ещё, и Лёнька вздрогнул.
– Лёня-я-я! – неслось откуда-то из-под земли.
«Что это? Кто это опять?» – подумал мальчик и вспомнил:
– Да это же Хлопотун зовёт из колодца!..
Он вскочил на ноги, быстро откупорил бутыль и вылил её содержимое, исступлённо повторяя: «Малая, позови большую!..»
Через минуту из колодца выскочил Хлопотун.
– Всё, дело сделано, – с облегчением произнёс он.
– А вода?
– Что вода?
– Вода где?
– Где и положено ей быть – в колодце.
Лёнька упал на сруб и заглянул вниз. Хлопотун молча взял бадейку и стал её опускать. Вскоре ведро, полное студёной воды, вернулось назад. Лёнька пил её, пока у него не заломило зубы, плескался от радости и никак не хотел оторваться от бадейки, пока последняя струйка не вылилась на землю. После этого мальчик счастливо вздохнул… и неожиданно вспомнил.
– Хлопотун, тут без тебя такое было! Тут такой приходил, такой…
– Это один из приближённых Светоносца, – сказал Хлопотун, не дав мальчику закончить.
– Откуда ты знаешь? Ты же в колодце был. Ты… ты что, знал, что он придёт?
– Знал, – ответил домовой.
– Почему же ты мне ничего не сказал? – Лёнька почувствовал себя обманутым. – Ты должен был предупредить! Я же мог испугаться и отдать ему «малую» воду!..
Хлопотун приблизился к мальчику и взял его маленькие ладошки в свои шерстяные лапы. Это был абсолютно человеческий жест.
– Нельзя было тебя предупреждать, – сказал он, и в его голосе слышались нотки глубокой любви. – Ты должен был победить его без чужой помощи и подсказки. А иначе… иначе я бы ничего не сумел сделать в колодце, понимаешь?
Лёнька начинал понимать.
– А тогда почему вода ушла из колодца? Это тоже Светоносцевы слуги?
Хлопотун только крепче сжал его руки.
– А если бы я всё-таки отдал ему бутыль? – задним числом испугался Лёнька. – Ты что, заранее знал, что не отдам?
– Есть такие вещи, которые предугадать нельзя, – ответил домовой, и это подтверждало, что Лёнькина стычка с мнимым дядей Гришей – событие исключительное, судьбоносное.
Множество вопросов вертелось у Лёньки в голове, а он, пытаясь найти главный, никак не мог этого сделать.
– А домовые знают, что вода вернулась?
– Домовые знают, люди завтра узнают.
Лёнька наконец понял, о чём ему так хочется спросить.
– Хлопотун, а можно рассказать бабушке, как мы воду возвращали?
– А ты хочешь рассказать?
– Конечно, хочу! Бабушка обязательно поверит, она у меня всё-всё понимает. А потом ты ей покажешься…
На лице доможила мальчику опять почудилась скрытая улыбка, неизвестно что означавшая в этот раз.
– Ну что же, расскажи, – позволил он, – уже можно… А сейчас идём-ка домой…
– Я давно хотел спросить, – сказал Лёнька, чувствуя, что спокойствие снова изменяет ему, – ты про моего деда Ивана знаешь?
– Убит твой дед Иван, в бою на Курской дуге, – ответил Хлопотун. – Отважный был человек и хозяин хороший, уважал я его. На фронте из виду не выпускал, для нас ведь это просто: он думает о доме – я его мысли читаю. А о доме у деда твоего постоянно душа болела, крестьянин он был, ему бы землю пахать, а не воевать. Вот и мучился на фронте, скучал и по жене, и по сыночку, и по земле родной.
– Хлопотун, а вот бабушке важно знать, где его могилка.
– Понимаешь, Лёня, Иван погиб так: он подпустил к своему окопчику танк и бросил связку гранат. Но гранаты не взорвались. И тогда танк закопал твоего деда живьём – наехал на окопчик и начал крутиться, вот и всё. По этой причине и не нашли Ивана после боя, он уже был похоронен в земле. А раз не нашли – значит, без вести пропавший. Так что не бывать твоей бабушке на мужниной могиле, много лет уже колосится над нею рожь…
– А об этом нужно ей говорить? – спросил мальчик, понимая, что эта тайна – слишком тяжёлая ноша для него.
У Хлопотуна, казалось, давно был готов ответ.
– Твоей бабушке важно про мужа правду узнать. И пусть она узнает. Страшно? А разве неизвестность лучше?
– Нет! – замотал головой Лёнька, уж он-то знал, как снедает бабушку эта неизвестность. – Лучше знать правду.
В знак согласия домовой наклонил голову.
– А последние мысли его были о ней, о Тоне…
…Дома Лёнька нашёл бумагу, ручку и написал: «Бабушка, вода в колодец вернулась. Утром расскажу всё».
ПРАЗДНИК С ГРУСТИНКОЙ
Пирогами пахло так, что они стали Лёньке сниться. Будто он покупает в Москве на улице пирожки и ест, да вот наесться никак не может. От этого он и проснулся. По всему дому расплывался запах свежеиспечённых пирогов.
Лёнька стрелой вылетел в кухню.
– Ба?!
Антонина Ивановна вытаскивала из печки очередной противень с румяными пирожками.
– Ба, хочу прямо из печки!
Бабушка расцвела:
– Горяченькие – самые вкусные, Лёнюшка!
– А сегодня что, праздник? – спросил мальчик, уплетая завтрак за обе щеки.
– А чем не праздник, ведь вода в колодец вернулась! Позовем Фёдора с Пелагеей…
Лёнька наконец всё вспомнил. И страшное испытание возле «журавля», и кудесничанье Хлопотуна под землёй, и долгожданный приход воды. Вспомнил он и о записке, оставленной для бабушки. Читала она или не читала? Не могла не прочесть, ведь никакой записки на столе уже нет. Но почему тогда бабушка ни о чём не спрашивает и вообще ведёт себя так, словно и не было ей никакого послания от внука? Лёньке сделалось немного обидно.
Но он ошибался: краем глаза Антонина Ивановна следила за внуком. Она всё утро думала: что означает его записка? Антонина Ивановна отчего-то беспокоилась, хотя ей полагалось радоваться в это утро, и вместо того чтобы обо всём расспросить Лёньку, она молчала и как будто собиралась, готовилась к чему-то…
– Ба, ты записку мою читала?
Антонина Ивановна посмотрела Лёньке в глаза и сказала спокойно, даже слишком спокойно:
– Читала.
– Ну?
Она вытерла руки о передник и села за стол напротив мальчика.
– Ну и что, Лёнюшка?
– Помнишь, я тебе про домового говорил, с которым Акимыч подружился?
Антонина Ивановна подумала о том, каким странным образом начинают сбываться её неясные, тревожные ожидания.
– Помню, – ответила она.
– Так это никакие не выдумки! Пелагея его своей бранью из дому выжила, и теперь он в старом сарае на краю деревни живёт. А все домовые в Песках стали его за это Выжитнем звать!
– Это тебе… тоже Акимыч рассказал? – тихо спросила бабушка.
– Нет, это мне наш домовой рассказал. Акимыч меня научил, как свести дружбу с ним, я и свёл. Нашего домового Хлопотуном зовут, он хозяйственный очень и толковый. Это он помог Черноушке семнадцатью крольчатами окролиться. И что яйца на сушиле – тоже он сказал… А ещё он каждый вечер навевает тебе крепкие и сладкие сны, чтобы ты спала и ему не мешала. А сам тут и чистит, и драит, и даже пыль выметает из-под сундука…
– Господи! – вырвалось у бабушки. – Действительно ведь, на днях сундук отодвигаю, а под ним ни соринки!
– Он и другое многое делает, просто ты привыкла и не замечаешь. А этой ночью мы с ним ходили воду возвращать. Знаешь, бабушка, почему вода пропала?
– Почему?
– Кому-то хочется, чтобы Пески исчезли.
– Да кому же, Лёня?
– Есть, бабушка, такие злые силы, это долго рассказывать. И мне нужно было их не побояться, чтобы воду вернуть.
– Да на что тебе-то эти страсти! – запротестовала бабушка. – Неужто без тебя не управились бы… твои домовые?
– Ну, ба, если б можно было без меня… Да ты не волнуйся, всё же хорошо кончилось.
– Ну и ну, – покачала головой Антонина Ивановна, – видно, не спать мне больше спокойно, пока ты здесь…
Лёнька рассмеялся.
– Ба, я тебе ещё не всё рассказал. В Песках совсем мало домовых осталось, но они все очень хорошие. Тут даже один домовёнок есть – Панамка, такой милый. У него пока дома нет, он в магазине живёт…
– А ты ничего не придумал, Лёнюшка? – взгляд у бабушки вдруг сделался таким, словно Лёнька был очень маленьким или тяжело заболел. Мальчику не понравился этот взгляд.
– Что вода вернулась, придумал? – спросил он, в упор глядя на бабушку.
– Да, – призналась та, – вода вернулась… Ну, ладно, рассказывай дальше.
– Я с домовыми несколько раз ночью ходил на посиделки. Знаешь, куда? В дом Егора Сеничева. Там домовой – Толмач. Он мне про жизнь Егора рассказал: как тот немцев лечил, как его в деревню не хотели пускать…
Лёнька посмотрел на бабушку – убедительно ли он говорит, – и продолжал:
– А у бабки Долетовой домовой очень весёлый, любит над кем-нибудь подшутить. Вот помнишь, она по деревням бегала, видение ей было?
Антонина Ивановна отмахнулась:
– Придурь у ней была, а не видение, совсем помешалась Катерина…
– Это её домовой хотел попугать тогда.
– Попугать?
– Ну, не попугать – проучить. Ведь она на людях говорит одно, а дома делает другое. Всю холодную избу иконами завалила, они там гниют, а ей хоть бы что. И поесть она любит, даже в пост. Домовой смотрел, смотрел, потом нашёл в холодной избе кадило, ладаном его задымил и стал перед Долетовой махать, а сам говорит: «Встань, иди и наведи порядок в холодной». А Долетовой его не видно, видно только кадило. Ну, и голос… Она с перепугу сперва под кровать залезла, а потом из дому выскочила и давай кричать о видении…