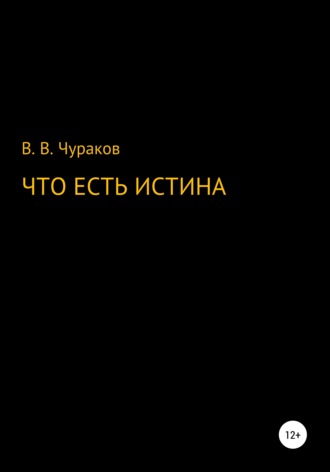 полная версия
полная версияЧто есть истина
В определенной мере выше сказанное относится к собеседованиям, дебатам, спортивным соревнованиям, конкурсам, различного рода посланиям и заявлениям.
Так неразумный, неморальный средневековый принцип Н. Макиавелли – “цель оправдывает средства” часто повторяют люди, стремящиеся оправдать преступные действия. Ему следуют и сейчас руководители и идеологи профашистских капиталистических стран, присвоившие себе исключительное право определять устройство жизни людей. Но понятие цели как деятельной причины самостоятельно и объективно. Цель же в общественной и государственной организации связана со средством ее реализации, потому что выбор цели и средства реализации цели в отношениях между людьми определяет человек. Человек, а не цель, в данных отношениях и оправдывает используемое им средство. Преступные цели и средства должны быть разоблачены. Люди не должны мириться с тем, что человек, оказавшийся у власти, оказался преступным, подлым и лживым.
Часто используется в отношении человека и общества высказывание Ф. Энгельса: свобода это познанная необходимость. Фактически это апология рабства. Не может быть в этих отношениях равенства понятий свободы человека и необходимости. Понятие свободы вообще означает отсутствие ограничений (зависимости от чего-либо) в существовании, проявлении, изменении, развитии. Необходимость чего-либо это, прежде всего, наличие внутренней причины (условий и движения внутренних и внешних моментов бытия) для закономерного осуществления в действительности. В сфере отношения конечного к конечному, зависящей от внешних обстоятельств, нет подлинной необходимости, которая бы достигла всеобщности, и вследствие этого нет и свободы. Свободное существование самостоятельных, всеобщих логических форм не может быть обусловлено и ограничено чем-либо. В “Науке логики” Гегель ведет речь о том, что самостоятельность моментов содержания действительных вещей в их чередовании через причинность и взаимодействие есть бесконечное отрицательное отношение с собой и есть необходимость. Связанные друг с другом моменты содержания этих вещей есть лишь моменты единого целого, всеобщего содержания. Каждый момент этого целого в отношении с другими моментами остается у себя и в соотношении с другими моментами. Проявление внутренней необходимости моментов всеобщего содержания и есть по Гегелю свобода. Свобода – истина необходимости.
Основой религиозной веры являются представления о всемогуществе бога и о вечной жизни; о жизни после смерти – об искуплении, воскрешении; о награде за мученическую смерть или праведную жизнь; о чудесных исцелениях. Формированием таких представлений занимаются религиозные проповедники. Они заменяют непосредственную достоверность объектов веры чувственным восприятием икон, таинств, обрядов и “чудес” и т. п. и приписывают это восприятие проявлению божественного промысла. Религия содержит в себе представления о боге; эти представления, например, в форме символа веры (для христианина), сообщаются в качестве учения религии, и поскольку отдельный человек верит в эти учения, и они для него представляют истину, постольку он имеет то, что ему нужно как верующему человеку. В пределах чувственного знания люди принимают эти представления в готовом, доступном виде на веру и удовлетворяются чувственным восприятием образов, символов и обрядов, которые оказывают действие на психологическое состояние человека. Ведь человек смертен, умирать не хочет.
Представление не только не раскрывает необходимости сущего, но оно вследствие этого не может дать необходимость отношения между объектом веры и верующими. Тут церковь и пускает вход “чудеса”: сообщения о явлениях святых и ангелов, о помощи, о чудесном исцелении и т. п., даваемых свыше верующим.
Зачем и кому нужен бог? Земле, Солнцу, да и Вселенной бог не нужен. Бог нужен только людям. Для каких своих целей люди сотворили бога? Каждый человек может задать такой простой вопрос себе и найти устраивающий себя самого ответ. Путь к богу у каждого размышляющего и свободного человека свой, отличающийся от пути людской толпы или управляемого пастырем стада, и бог у каждого их них свой, и молитва, с которой каждый верующий обращается к своим богам, отличается от молитвы верующего другой религии, другой веры. Разные религии, разные боги, разные веры у народов. Каждый твердит – бог один! Но у каждой религии свой бог! Из истории религиозных верований следует, что единого бога никогда не было. Возникновение богов, их появление в жизни людей есть следствие деятельности самих людей и связано с возникновением общественных формаций и даже просто небольших объединений, общин, сект и т. п. В сохранении многобожия заинтересованы власти и религиозные деятели. Они служат своим богам. Им в первую очередь нужен бог. Для них бог – источник доходов, основа для утверждения необходимости своей деятельности и значимости, а вера – средство достижения своих целей и управления людьми.
Где мы знаем внутреннюю необходимость, там не надо верить! Вера во что бы то ни было, без осознания сущности и действительности объекта веры, всегда остается только верой, чуждой мышлению и знанию, а значит и сущности человека. Определение единого бога, как всеобщности внутри себя самого во всеобщности пространства и всеобщности времени, как мирового духа, проявление бога, его отношение к многообразию Вселенной, к людям обречено быть только нашими представлениями, мыслями, конечными и неистинными. – Как бы нам не хотелось надеяться на всемогущую помощь, опору, хотя бы стабильность того, что у нас есть, надеяться на бесконечную жизнь и верить в ее возможность.
Незавидна судьба народов, остановившихся в своем развитии на ступени религиозных учений и воззрений и не имеющих потенциала подняться к всеобщим ценностям. Становятся понятными усилия мирских и религиозных властей, которые для сохранения стабильности своего положения, ограничивают духовное развитие народов, стремятся замкнуть дух народов в скорлупу и шелуху религиозных представлений и веры. Идеология православной веры, как и любой другой религиозной веры, любая идеология – это только видимость идеи, не имеющей истинного содержания и внутренней необходимости. Что дает православие? – Самоспасение себя в убогой форме бытия, т. е. мы в настоящем живем в прошлом. Религиозные вероучения – это разновидность идеологии. Идеология есть адекватное выражение зависимого или обусловленного чем-либо учения или явления, не знающее сущности этого учения или явления. Идеология не знает всеобщего единства мира и закона его развития. Поэтому идеология, несмотря на то, что представляет собой явление моментов отрицательности истины или явление преходящих моментов исторического процесса развития общества, есть антипод истины.
Для людей, живущих на Земле, реальность состоит в том, что Земля их дом. Вот и берегите, сохраняйте, любите Землю, ее Природу. Не обожествляйте ее. Уважайте и храните жизнь! Люди, радуйтесь Солнцу и Земле, которые дают вам и Природе жизнь! Делайте жизнь лучше для всех людей на Земле! Зачем вам боги? Зачем вы вашим богам?
Так как чувственная определенность представления отягощена внешней необходимостью абстрактной всеобщности, то и само представление для индивида по необходимости есть способ внешнего существования! Чувственная определенность сковывает абстрактное субстанциональное содержание, делает это содержание неопределенным в самом себе. Поэтому субстанциональное содержание, конкретное в себе самом всеобщее существует только для разумного мышления и только определения разумного мышления имеют дело с субстанциональным содержанием. Представление есть тот способ духовной жизни, который по своему предмету не имеет исключений и не имеет ограничений по видимости содержания. Подавляющее число людей живут, руководствуясь представлениями. Этому есть объяснение. Чувственная определенность возводится представлением в форму всеобщего. Каждое определение представления о содержании абстрактной всеобщности лишь равно себе самому и безразлично к тому, есть другое определение или его нет. Оно является лишь субъективным мнением, абсолютной формой эгоизма, абстрактным тождеством с самим собой. Поэтому в представлении всё спокойно уживается друг с другом, ничто ничему не противоречит – его не интересует ничего, кроме его самого. Поэтому представление и не знает противоречия, для представления противоречия нет. Для представления достоверно то, что оно считает субъективно согласующимся с объектом. Это оно и называет истинным, сколько бы незначительным, содержащим противоречие с объективностью и даже абсурдным ни было содержание этого субъективного. То, что не определено, то, что не подлежит познанию и не раскрывает свою необходимость в процессе познания, и есть предмет веры.
Между абстрактной сущностью и даже самой жалкой чувственно определенной реальностью для представления нет различий. Это лишь воображаемая сущность, ее нет вовсе, потому что такая сущность сразу поглощается самой определенностью реальности. Но сущность – это не уничтожение определенности чувственного мира, а всестороннее, абсолютное, всеобщее развитие определенности чувственного мира, и в этом состоит отрицание чувственного мира. Именно тем, что философия разрушает абстракции, что она видимость истины представления не принимает за истину, она вызывает к себе вражду: ведь видимостью истины является все, что конечно, что само себя разлагает и себя переводит в свою собственную противоположность. Представление есть необходимый способ движения мысли, но еще не конкретной в себе самой мысли. Оно содержит в себе момент истины, но не является истиной. Представление фактически формулирует: только конечное и есть абсолютная истина. А это – выражение презрения к человеку, к человечеству. Как только мы начинаем мыслить хоть одно определение субстанционального содержания представления – оно оказывается сразу различенным в себе самом. Абстракция и случайность чувственных определений в представлении начинает сниматься через первый шаг к деятельности разумного мышления. Разумность наша начинается с осознания противоречия представления.
Предметом воспринимающего сознания является сущность вещи с ее свойствами. Богатство чувственного знания принадлежит восприятию, а не непосредственной достоверности, ибо только восприятие заключается в выделении, внесении различий и в многообразии. Предмет в восприятии по существу есть движение – развертывание и различение моментов определенности предмета, нахождение их в совокупности. Чувственные свойства вещи или предмета даны сами по себе и непосредственны, и в то же время определены благодаря соотношению с другими и опосредствованы. Чувственные свойства принадлежат одной вещи и в этом смысле, с одной стороны, заключены в единичности, с другой же стороны, обладают всеобщностью, так как каждое свойство предмета есть негативное свойство другого и каждое свойство выражено в простоте всеобщего и является независимым друг от друга. На ступени воспринимающего сознания единичные вещи ставятся в отношение к всеобщему моменту сознания, но единства единичного и всеобщего не осуществляется. Достигается лишь смешение этих сторон, которое приводит к ступени рассудочного сознания, которое действует разделяющим и абстрагирующим образом, и где противоречие единичного и всеобщего находит свое разрешение.
Процесс восприятия сознанием предмета как движение есть то непостоянное, которое может быть, а может и не быть, а так же то, что несущественно. Восприятие имеет предметом не только чувственное, поскольку оно непосредственно, а чувственное, существующее как всеобщее, – опосредствованное, т. е. восприятие это смесь чувственных определений и определений рефлексии.
Простое восприятие вещи
Но сама всеобщность вещи, простая, себе самой равная, опять-таки различается и не зависима от этих своих определенностей. Она есть чистое соотнесение себя с собою или среда, в которой суть все эти определенности в ней как в некотором простом единстве проникают друг друга, смешиваются друг с другом, не приходя, однако, в соприкосновение; ибо благодаря участию в этой всеобщности они равнодушны для себя. – Эта абстрактная всеобщая среда, которую можно назвать вещностью вообще или чистой сущностью, есть не что иное, как здесь и теперь в том виде, в каком они оказались, т. е. как простая совокупность многих здесь и теперь.
Пример. Здесь – соль. Она белого цвета, а также острого вкуса, а также кубической формы, а также определенного веса и т. д. Всеобщие определенности соли не воздействуют друг на друга: белое не воздействует на кубическое, то и другое не воздействует на остроту вкуса и т.д. Каждое свойство соотносится с другими свойствами только посредством соединения в вещи. Но вещь как безразличное единство, не находящееся в отношении с другими вещами, есть одно, исключающее единство с другими. Одно есть момент отрицания, который просто соотносится с собою и исключает иное и благодаря которому вещность определена как вещь. В свойстве отрицание дано как определенность, составляющая непосредственно одно с той непосредственностью бытия, которая благодаря этому единству с отрицанием есть всеобщность; но как одно определенность освобождена от единства с противоположной определенностью и сама есть в себе и для себя.
Чувственная всеобщность или непосредственное единство бытия и негативного есть лишь постольку свойство, поскольку из него развиваются одно (единичное) и чистая всеобщность, поскольку они отличаются друг от друга и поскольку это единство бытия и негативного смыкает их друг с другом; лишь это соотношение их с чистыми существенными моментами завершает вещь.
Противоречивое восприятие вещи
Так как для чувственного знания предмет есть истинное и всеобщее, самому себе равное, сознание же есть для себя изменчивое и несущественное, то с ним (сознанием) может случиться, что оно неправильно постигнет предмет и впадет в иллюзию. Для воспринимающего сознания, обладающего знанием о возможности впадения в иллюзию, и всеобщность, и инобытие есть ничтожное, снятое. Поэтому критерий истины воспринимающего сознания состоит в равенстве с самим собой, а его стремление – постигать что-либо как равное с самим собой. Так как для него в то же время существует разное, то оно есть некоторое соотнесение разных моментов его постижения; но если в этом сравнении обнаруживается неравенство, то это не есть неистинность предмета (ибо он есть то, что равно себе самому), а есть неистинность процесса восприятия.
В процессе восприятия сознание совершает опыт, который для нас содержится в отношении сознания к предмету и развитии имеющихся в этом отношении противоречий. Приведу диалектическое рассмотрение этого противоречия Гегелем. – Предмет, который я воспринимаю, предстает как чистая единица; я также замечаю в нем свойство, которое всеобще, и благодаря этому выходит за пределы единичности. Первое бытие предметной сущности как некоторой единицы не было, следовательно, его истинным бытием; так как предмет есть истинный, то неистинность относится ко мне, а постижение было неправильным. В силу всеобщности свойства я должен предметную сущность принимать скорее как некоторую общность вообще. Я воспринимаю, дальше, свойство как определенное, противоположное другому свойству и исключающее его. Следовательно, на деле я неправильно постигал предметную сущность, когда я определял ее как некоторую общность с другими или как непрерывность, и я должен, в силу определенности свойства, разделить непрерывность и установить сущность как исключающее одно. В обособленном одном я нахожу много таких свойств, которые не воздействуют друг на друга, а равнодушны друг к другу; следовательно, я неправильно воспринимал предмет, когда я постигал его как нечто исключающее, как прежде он был только непрерывностью вообще, так теперь он – всеобщая совокупная среда, в которой из множества свойств как чувственных всеобщностей каждое есть для себя и, будучи определенным, исключает другие. Но простое и истинное, которое я воспринимаю, есть единичное свойство для себя, которое, однако, в таком виде не свойство, не определенное бытие. Оно теперь не находится ни в одном, ни в соотношении с другими. Но свойство есть только в одном, и определено оно только в соотношении с другими. В качестве этого чистого соотнесения себя с самим собою одно остается только чувственным бытием вообще, так как у него более нет характера негативности. Мышление при чувственном восприятии предмета способно выделять единичное свойство, но так как существование этого свойства зависит от других, оно выступает как изменяющееся и несущественное.
Сознание, для которого теперь есть чувственное бытие, есть только мнение. Сознание целиком покинуло область восприятия и ушло обратно в себя; однако, чувственное бытие и мнение само переходит в восприятие; я отброшен назад к началу, и меня опять захватывает движение по тому же кругу, которое снимает себя и в каждом моменте и как целое.
Итак, сознание необходимо проходит опять по этому кругу, но вместе с тем проходит иначе, чем в первый раз. А именно, оно на опыте узнало относительно процесса восприятия, что результат и истинное в нем есть его растворение или рефлексия из истинного в себя самого. Тем самым определилось для сознания, каково по существу его восприятие, а именно, оно есть чувственное познание, а в своем познании сознание вместе с тем погружается в себя из истинного. Это возвращение сознания в самого себя, непосредственно вмешивающееся в познание, изменяет истинное. Признанием, что неистинность относится к нему, сознание различает свое постижение истинного от неистинности своего восприятия, исправляет неистинность, и поскольку оно само предпринимает это исправление, истина как истина восприятия, без сомнения, относится к сознанию.
Разнообразие сторон вещи мы берем не из вещи, а из нашего сознания, в котором всеобщие моменты обособляются и суть для себя. В процессе восприятия сознание погружается в себя само и сознает, что в процессе восприятия выступает момент единства вещи с самой собой, который исключает различие. Это есть то единство, которое сознание должно принять на себя; ибо сама вещь есть устойчивое существование многих разных и независимых свойств. Сведение этих свойств в одно принадлежит только сознанию, так как бытие одним принимается сознанием лишь в строгом и собственном смысле.
Единичное содержание исключает из себя другое. Этим исключением оно вступает в отношение к другому содержанию. Определенное единичное содержание предмета проявляется как выходящее за пределы самого предмета, как зависимое от другого предмета, как опосредованное этим другим, как внутри себя содержащее это другое. Определения отношения одного к другому составляют то, что называется определениями рефлексии. Определения рефлексии имеют чувственное и мыслительное – необходимое основание для познания предмета.
Рассудок
Мы сможем познавать только тогда, когда наше сознание отличает себя от предмета и имеет в себе самом свою собственную определенность, т. е. оно должно относиться к себе самому, быть предметом для себя. Предметность сознания для себя есть необходимая предпосылка к познанию предмета, находящегося вне сознания, а так же и для познания самого себя.
Так как определенность составляет сущность вещи, благодаря чему она отличается от других вещей и есть для себя, то прочие многообразные свойства этой вещи могут рассматриваться нами как несущественные. Вещь находится в отношении к другим вещам и по существу есть только это нахождение в отношении; но отношение есть отрицание ее самостоятельности, есть ее зависимость. Это участь любого конечного. Относящееся к себе отрицание есть снятие себя самой, т.е. вещь имеет сущность в некотором ином. Для-себя-бытие вещи обременено бытием для чего-то иного. Но так как для-себя-бытие и иное находятся по существу в некотором единстве, то имеется налицо безусловная абсолютная всеобщность – сущность.
Сознание воспринимает предмет как для-себя-сущее внутреннее и всеобщее. Познание простого различия предметов и их явлений, которые проявляются в свойствах предмета и в отношениях данного предмета с другими предметами и явлениями, определение существенных и несущественных свойств отдельного предмета характеризует рассудочное сознание.
Рассудочное сознание выделяет из многообразия свойств и рассматривает отдельные свойства предмета, которые предмет являет как свое внутреннее содержание. Мышление рассудочного сознания фиксирует определенность каждого свойства в отношении к предмету как простое различие. Каждое свойство предмета для рассудка остается самостоятельным, тождественным самому себе, изолированным от других свойств и по отношению к внутреннему единству предмета. Внутреннее содержание предмета понимается рассудочным сознанием как конкретное различенное и находящееся в необходимой внутренней связи единство определений.
Единство и необходимая внутренняя связь различенных многообразных определений предметов и явлений составляют сущность законов. В многообразии явлений существование закона открывается рассудочным сознанием. То есть законы, внутренне присущие миру, есть определения рассудка. Закон необходимо содержит отношение неких всеобщих определений. Так как в законе любое из этих определений взаимосвязано с другими содержащимися в законе определениями, то одно непосредственно содержится в другом. Закон как отношение определений предмета, имеет свою особую необходимость, поскольку его различие есть внутреннее различие. Законы явлений оказываются опосредованными деятельностью рассудочного мышления.
В отношении мысли к объективности рассудок, так же как представление, не сознает противоположности мышления внутри себя самому себе. Рассудок, так же как и представление, содержит веру, что то, что он обнаруживает в объекте, есть поистине. Рассудок воспроизводит содержание ощущений и созерцаний, делает их содержанием мысли и удовлетворяется этим содержанием. Все опытные науки, повседневная деятельность и движение сознания большинства людей живут в этой вере. Поэтому вера, в том числе религиозная вера, находит последователей в течение всей многовековой истории своего существования. В своих действиях обыденный рассудок сам нарушает свои основные положения и жизнь, руководимая рассудком, в сущности, является лишь непрерывной непоследовательностью, исправлением ограниченной определенности поведения посредством нарушения другой. К старости он становиться обладателем “житейской мудрости “. Напротив, тот, кто во всех случаях действует согласно одной определенности, портит дело себе и другим. Такой человек сыскивает себе звание “принципиального” или “твердолобого” человека. Рассудочное сознание не сознает себя духом, а в его сознании выступают такие определенные законы, правила, общие положения, которые кажутся ему незыблемой истиной, но, ограниченность которых оно само опровергает в своих действиях. Когда понятие обращается против “богатства” рассудочного сознания, которым оно располагает, и рассудочное сознание начинает чувствовать угрозу своей истине, без которой оно не существовало бы, – оно приходит в ярость. Понятие, которое в процессе своей реализации берется за обыденные истины, навлекает на себя вражду и поношение рассудка. Это вопль здравого смысла, который иным образом не умеет себе помочь. Е.С. Линьков обращает внимание на то, что рассудок притязает иметь определение чего-то, и никогда этому рассудку не приходит соображение, что определение чего-то и есть отрицание.
Рассудочное мышление, не обладающее сознанием противоположности определений мысли и не выходящее за пределы противоположности конечных определений мысли, характерно для так называемого метафизического учения. Метафизика всегда и повсюду существует и является чисто рассудочным воззрением на предметы.
Недостатком метафизики является то, что она не исследовала определений рассудка ни со стороны их содержания, ни со стороны их формы, заключающейся в том, что абсолютное определяется посредством приписывания предикатов, способными быть признаками истинного. Метафизика не исследовала ни вопроса о том, представляют ли собою такие предикаты (например, наличное бытие, конечность и бесконечность, простой и сложный, единое, целое и т. д.), взятые сами по себе, нечто истинное, ни вопроса о том, может ли форма суждения быть формой истины. Определения мысли, непосредственно изолированные рассудком, суть конечные определения. Истинное же есть в самом себе бесконечное, которое нельзя выразить и осознать посредством конечного определения. Мышление по своему существу бесконечно внутри себя. Конечным называется, выражаясь формально, то, что имеет конец, то, что есть, но перестает быть там, где оно соприкасается со своим иным и, следовательно, ограничено последним. Конечное, таким образом, состоит в соотношении со своим иным, которое является его отрицанием и представляет собою его границу. Конечным мышление является лишь постольку, поскольку оно останавливается на ограниченных определениях, которые признаются им чем-то последним. Напротив, разумное мышление точно так же определяет, но определяя, ограничивая, оно снова снимает этот недостаток.

