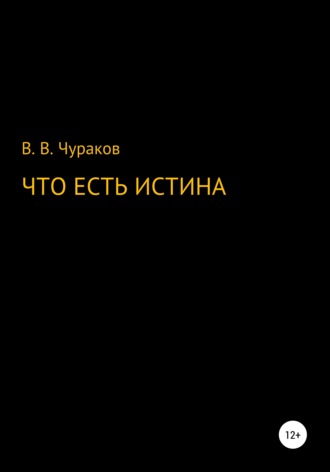 полная версия
полная версияЧто есть истина
Определенности вещей и мысли есть вообще всеобщее, абстрактное, возникающее в результате деятельности мышления. Гегель обращает внимание на то, что каждый, если он имеет мысли и рассматривает их, найдет в своем сознании характер всеобщности этих мыслей и определений. Для этого необходимо, во всяком случае, иметь развитое внимание и способность к абстракции.
Представления людей о чем бы то ни было, помимо чувственного содержания имеют и мысленное содержание, имеют форму всеобщности. Но содержание представлений индивидуально, как индивидуальны чувства, на которых оно основано, как индивидуальны способности к мышлению. Поэтому представление даже об одной и той же вещи или сущности одного явления у каждого человека различны и являются только мнениями. Представления, основанные на единичном восприятии, на чувствах, не отличаются от рассудочных определений, не выходящих за пределы противоположных определений мысли.
Посредством языка, как произведения мысли, нельзя выразить ничего такого, что не есть всеобщее. Например, если язык выражает только всеобщее, то я не могу передать словами то, что лично я чувствую, ощущаю, воспринимаю и понимаю. С детства ребенка должны учить приводить особенное в соответствие всеобщему, вникать в содержание и различать особенное от всеобщего. В нашем особенном поведении должно содержаться и распознаваться всеобщее определение. Всегда всеобщее содержание обладает значением сути дела, существенного, внутреннего и истинного. Размышление всегда есть определение всеобщего и движение к пониманию истинного. Понимают ли люди необходимость деятельности, основанной на понимании всеобщего? Занимается ли этим система образования и воспитания? Конечно, нет! Государственная и церковная власть все делает для лишения людей способности и потребности мыслить, для разрушения всеобщих ценностей! Власть даже свою абсурдную деятельность в экономике и политике называет “игрой”. Это действительно игры, которые соответствуют реальности, в которой нет ни разумной экономики, ни разумной политики. Есть только групповые интересы в политике, финансах, экономике и идеологии.
Философия начинается только тогда, когда начинается познание всеобщего единства бытия и мышления. Самое главное, что само единство бытия и мышления нигде до философского познания в своей всеобщности и не выступает. Всеобщее единство является и выступает во всех природных, во всех исторических образованиях и т. д., но как всеобщее оно впервые выступает только в разумном способе познания.
Свое определение всеобщее единство получает в определениях разума и с необходимостью является процессом.
Имея в содержании всеобщее единство бытия и мышления, мы никогда не придем к абсолютному состоянию покоя мысли, т.е. философия не претендует на абсолютную законченность и завершенность познания, и это вовсе не следует из всеобщего содержания. Это следует из определенности самого всеобщего содержания и состоит в развитии его определенности. В начале оно выступает непосредственно простым, абстрактным всеобщим и только в процессе самоопределения получает дальнейшую определенность как рефлексию, как отношение бытия и мышления друг к другу.
Ни о каком всеобщем содержании, кроме как в философской форме, соответствующей определению всеобщего единства бытия и мышления, речи не может быть. Какова ступень развития всеобщего единства бытия и мышления, всеобщего предмета, всеобщего содержания философии и каковы определения этого единства – таково и философское учение. В историческом развитии философии любое философское учение в своей основе имеет одно – свое определение единства бытия и мышления, которое и выражает принцип данного учения, а все остальное – проведение этого принципа уже через всю определенность содержания.
Мировоззрение есть понимание содержания и развития всеобщего единства бытия и мышления. Без этого нет мировоззрения. Для определения единства бытия и мышления характерно, что в него с необходимостью втягивается особенное содержание природы и духа. Знание особенного содержания без понимания и определения содержащегося в нем всеобщего единства бытия и мышления есть опытное знание, опытная наука.
Если мы занимаемся определением самого единства бытия и мышления, мы действительно заняты развитием мышления, а если мы занимаемся особенным содержанием, мы заняты именно содержанием и не занимаемся развитием мышления. Это принципиально важно. В этом состоит различие между опытной наукой в целом, с одной стороны, и философским познанием с другой. Опытная наука всегда занята содержанием и определенностью этого содержания, но она не содействует развитию мышления. Само единство бытия и мышления одно. Оно постоянно развивается и образует диалектический процесс. Ему соответствует единственный философский метод – диалектика, которая является формой саморазвития и самоопределения содержания бытия и мышления, формой саморазвития всеобщего содержания. Диалектический метод один, поэтому неуместны слова о философской методологии. Методология это всего лишь совокупное название эмпирических методов опытных наук, занятых познанием особенного содержания с использованием различных средств.
Всеобщее содержание является отрицательностью любого особенного содержания. В историческом развитии философия, дойдя до понимания всеобщего содержания, как определенности всеобщего единства бытия и мышления, снимает всякое особенное содержание природы и духа, становится логической формой философии. Важной ступенью логической формы философии является “Наука логики”, имеющая непреходящее значение в развитии человечества.
Ниже представлено конспективное изложение основных положений “Науки логики”, составленное по “Энциклопедии философских наук. Наука логики. Т. 1” с некоторыми комментариями автора.
В предисловии к первому изданию “Науки логики” в 1812 г. Гегель говорит о том, что противоречивая природа содержания всего существующего полагает и порождает содержание и определение метода философии как науки познания истины. Мышление так же противоречиво: рассудок определяет и твердо держится за свои определения: разум же диалектичен, так как разрешает противоречия между различенными определениями рассудка, порождает всеобщее и постигает в нем особенное. Разум полагает определенное различие и представляет развитие и движение сознания к понятию, к равенству своего понимания с понятием. Это духовное движение, дающее сознанию определенность и равенство знания с содержанием, достижение единства мышления и бытия осуществляется диалектическим методом познания. Только на этом конструирующем самом себя пути духовного развития философия способна быть объективной, доказательной наукой. Требование быть объективным распространено и в повседневной жизни. Но что означает быть объективным? Что означает быть истинным? Вы найдете ответы на эти вопросы, если будете размышлять.
Движение и развитие конкретного знания основывается на природе чистых, свободных от внешней зависимости мыслей или сущностей, составляющих содержание логики.
В предисловии ко второму изданию 1831 г. первой части (“Объективная логика”, кн. 1 – “Учение о бытии”) Гегель говорит о том, что ставит перед собой задачу изобразить философскую науку в деятельности философской мысли и ее развитии.
В человеческом языке для общения в обыденной жизни содержатся некоторые категории, используемые науками, и слова, смысл которых не имеют предметной формы. Они понимаются разными людьми по-своему и служат для сообщения друг другу представлений, относящихся к субъективным определениям. Смысл этих слов и категорий в науке должен быть освобожден от конкретных интересов, страстей, ощущений, воли, мнений. Гегель отмечает важность наличия в языке слов и категорий, фиксирующих и определяющих различие (например, “полярность”). В таких словах различенные моменты неразрывно связаны друг с другом, т.е. имеются словесные формы, определения в которых продолжают оставаться в тождестве, как неотделимые от слова различные определения. Наличие таких форм не допускает, чтобы переходили от противоположности к абстракциям и всеобщностям. Гегель напоминает, что то, что кажется известным, еще не есть познанное, и должно быть сделано предметом рассмотрения и познания.
Мы скоро обнаруживаем, что используемые нами субъективные определения, суть особенные и противоположны всеобщности нашего сознания. Мы чувствуем себя в них ограниченными и несвободными, потому что сущность вещей мы еще не постигли и не понимаем. Выбраться из субъективных определений и прийти к свободе, к понятию мы можем только с помощью мышления. Субъективная деятельность мышления характерна для нас, а объективное понятие вещей составляет их суть. Перед мышлением стоит задача осознания логической природы отношения между мыслью и содержанием вещи, т. е. необходимости сознательной деятельности мышления. Логическая природа такого отношения может представлять в себе и для себя существенные моменты для понимания понятия и так образовывать опорные и направляющие узлы. Далее Гегель говорит: “Важнейший пункт, уясняющий природу духа, – это отношение не только того, чтό он есть в себе, к тому, чтό он есть в действительности, но и того, чем он себя знает; так как дух есть по своей сущности сознание, то это знание себя есть основное определение его действительности. Следовательно, высшая задача логики – очистить категории, действующие лишь инстинктивно как влечения и осознаваемые духом, прежде всего, разрозненно, тем самым как изменчивые и путающие друг друга, доставляющие ему, таким образом, разрозненную и сомнительную действительность, и этим очищением возвысить его в них к свободе и истине”.
В обычной своей рефлексии мы часто отделяем форму от содержания. Введение содержания в логическое рассмотрение вещи позволяет логике понять суть и понятие вещей. Понятие чувственно не созерцается и не представляется; оно предмет, продукт и содержание мышления и в себе и для себя есть истина того, чтό носит название вещей. Понятие как мысль, как всеобщее есть беспредельное сокращение по сравнению с единичностью вещей, созерцаемых или представляемых нами. Каждое понятие в самом себе имеется в единственном числе и составляет субстанциональную основу. Во-вторых, оно есть некоторое определенное понятие, определенность которого выступает как содержание; определенность же понятия есть определение формы указанного субстанционального единства, момент формы как целостности самого понятия, момент понятия, составляющего основу определенных понятий. Логическая наука должна реконструировать те определения мысли, которые выделены рефлексией и фиксированы ею как субъективные, внешние формы по отношению к материалу и содержанию. Наука логики ни на одной ступени развития не должна допускать при изложении таких определений мысли и рефлексии, которые не возникали бы непосредственно на этой ступени, а не переходили бы в нее из предшествующих ступеней. Дело логического мышления состоит так же в основательном исследовании начала и первых понятий и положений логики как основы, на которой зиждется все остальное, и требует, чтобы не шли дальше, прежде чем оно не окажется прочным, чтобы не было отвергнуто все следующее за ним.
В предисловии ко второму изданию в 1825 г. “Энциклопедии философских наук”, т. 1, “Наука логики” Гегель отмечает, что стремился сохранить при изложении в энциклопедии, как основу, логическую связь материала большой “Науки логики”. “Единственное, к чему я вообще стремился и стремлюсь в своих философских изысканиях, – это научное познание истины. Такое познание является наиболее трудным путем, но только этот путь может представлять собою интерес и ценность для духа, после того как последний, однажды вступив на путь мысли, не соблазнился представлением о тщете ее усилий, а сохранил неустрашимую волю к истине. Он вскоре находит, что единственно лишь метод в состоянии обуздывать мысль, вести ее к предмету и удерживать в нем”. Этот метод и методический путь сам есть воспроизведение содержания предмета логики. Наука логики стоит в противоречии с поверхностным содержанием опытных наук, истории, искусства и религией, с затушевыванием этого противоречия, потому что они не учитывают достижения философского познания всеобщего и задерживаются на рассудочной ступени развития.
Далее привожу почти дословно высказывание Гегеля, так как оно актуально в настоящее время из-за отсутствия должного его понимания. Важный отрицательный вывод, к которому пришла рассудочная ступень всеобщего научного развития, что на пути конечного понятия невозможно достичь истины, приводит обыкновенно к последствию, противоположному тому, которое в нем непосредственно содержится. Вместо того чтобы привести к удалению конечных отношений из области познания, это убеждение имело своим последствием исчезновение интереса к исследованию категорий, отсутствие внимательности, осторожности при их применении. Как бы в состоянии отчаяния, их вновь стали применять откровеннее, бессознательно и некритично. Из основанной на недоразумении посылки, будто недостаточность конечных категорий для познания истины приводит к невозможности объективного познания, выводится заключение, что мы вправе судить и рядить, исходя из чувства и субъективного мнения. Доказательства заменяются заверениями и сообщениями о том, какие факты встречаются в сознании, признаваемом тем более чистым, чем оно менее критично. На такой скудной категории, как непосредственность, и без дальнейшего ее исследования, согласно этому взгляду, должны быть утверждены “возвышеннейшие” потребности духа, и эта скудная категория должна творить над ними свой суд. При этом, – в особенности, когда рассматриваются религиозные вопросы, – часто можно встретить, что философствование должно быть совершенно отклонено, и будто этим изгоняется всякое зло и достигается защищенность от заблуждения и иллюзии. Тогда предпринимают исследование истины, исходя из неизвестно откуда заимствованных и где-то установленных предпосылок, выводят из них заключения путем рассуждений, т. е. применяют обычные определения мысли о сущности и явлении, основании и следствии, причине и действии и т. д., руководясь этими и другими отношениями сферы конечности. «От злого избавились, но зло осталось», и зло в девять раз хуже прежнего, так как ему вверяются без всякого подозрения и критики. И разве то зло, которое стараются отстранить, разве философия есть что-либо иное, чем исследование истины, но исследование с сознанием природы и ценности отношений мысли, связывающих и определяющих всякое содержание? Наихудшую участь испытывает философия в руках представителей этой точки зрения, когда они начинают заниматься философией и когда они частью усваивают себе ее содержание, частью подвергают его обсуждению. Тогда самый факт физической или духовной и, в особенности, религиозной жизни искажается этою неспособною понять его рефлексией. Однако подобное рефлективное понимание имеет само по себе тот смысл, что факт должен быть возведен в некое знание, и трудность заключается в переходе от предмета к знанию, достигаемом посредством размышления. Этой трудности не существует больше в самой науке, так как в ней факт философии представляет уже готовое знание, и понимание его означало бы, следовательно, здесь лишь осмысливание в смысле последующего мышления, и только обсуждение требовало бы размышления в обычном смысле этого слова. Но некритический рассудок обнаруживает также свою недостаточность даже в простом схватывании определенно высказанной идеи; он так мало анализирует содержащиеся в нем самом предпосылки, так мало сомневается в них, что оказывается неспособным даже просто повторить за наукой голый факт философской идеи. Рассудок странным образом совмещает в себе две несовместимые черты: его поражает в идее полное несовпадение и даже явное противоречие с его собственным способом употребления категорий; он не подозревает, что существует и применяется другой способ мысли, нежели тот, который свойственен ему, и что поэтому он должен здесь мыслить иначе, чем привык. Таким образом, оказывается, что идея диалектической философии принимается абстрактно, причем либо полагают, что всякое определение должно само по себе выступать ясным и завершенным, и имеет критерий оценки только в заранее принятых представлениях, либо, по меньшей мере, не знают, что смысл, равно как и необходимое доказательство определения, содержатся только в его развитии и в том, что оно является результатом этого развития. Идея есть вообще конкретное духовное единство, а рассудок состоит в понимании определений понятия лишь в их разделенности и, следовательно, в их односторонности и конечности. Это единство превращается представителями рассудочного мышления в абстрактное пустое тождество, в тождество, в котором, следовательно, не существует различия, а все одно и то же, в том числе добро и зло. Различие между добром и злом касается определения единства; только оно имеет здесь значение. Что же касается отношения человека к добру и злу, различию их для человека, то следует заглянуть в те части этики, которые рассматривают человека, страсти, человеческое рабство и человеческую свободу.
Многие политики, ученые и идеологи из-за отсутствия культуры мышления искажают и уродуют идеи. Выхватывают из учения лишь один момент и (как по отношению к тождеству) выдают его за целое, совершенно не задумываясь, применяют категории в том виде, какой они имеют в повседневном сознании, в их односторонности и неистинности. Такое ложное понимание решительно не имеет оправдания. Опирающееся на развитую культуру мысли познание соотношений мысли есть первое условие правильного понимания известного философского факта. Но принцип непосредственного знания не только оправдывает, но даже делает законом примитивность мысли. Познание мыслей и, значит, культура субъективного мышления так же мало представляет собою непосредственное знание, как какая-нибудь другая наука или какое-нибудь другое искусство и уменье. Научное познание истины есть особая форма ее сознания, работу над которой готовы брать на себя лишь немногие. Для этого содержания религии и научного познания существуют выражения на двух языках: на языке чувства, представления и рассудочного, гнездящегося в конечных категориях и односторонних абстракциях, мышления и на языке конкретного понятия. Если хотят, исходя из религии, говорить и судить также и о философии, то для этого требуется нечто большее, чем одно только обладание привычкой говорить на языке повседневного преходящего сознания. – Основой научного познания является внутреннее содержание, обитающая внутри его идея и ее живая жизнь в духе, точно так же, как религия не в меньшей мере есть развитое чувство, дух, пробудившийся к самоотчету, развернутое содержание. В новейшее время религия все больше и больше сокращала объем своего содержания и уходила в напряженность благочестия или чувства, уходила притом часто в такое чувство, которое обнаруживало скудное и плоское содержание. Лишь мышление превращает душу, которой одарено и животное, в дух, и философия есть лишь сознание человеком этого содержания – духа и его истины – также и в форме той своей существенности, которая отличает человека от животного и делает его способным к религии. Что же касается отношения к религии, то Гегель, как глубоко верующий человек, со ссылкой на Франца фон-Бадера, пишет: “До тех пор, пока наука не возвратит снова религии уважения, основанного на свободном исследовании и, следовательно, подлинном убеждении, вы, благочестивые и неблагочестивые, со всеми вашими заповедями и запретами, со всеми вашими разговорами и действиями, не поможете беде, и не пользующаяся уважением религия не будет пользоваться также и любовью. Ибо любить настоящим образом, от души, мы можем только то, что пользуется искренним уважением, и что мы признаем, несомненно, достойным такого уважения …”. Гегель отмечает также, что внешнее и внутреннее состояние религии в определенную эпоху определяется скудностью или богатством ее содержания.
О понятии Гегель пишет, что понятие есть понимание самого себя, а также и лишенного понятия человека, его деятельности, всего существующего. Наука понимает чувство и веру, но о вере можно судить, только исходя из понятия, на котором она основывается, и так как она есть саморазвитие понятия, то суждение о ней, исходящее из понятия, есть не столько суждение о ней, сколько движение вперед вместе с нею. Такого суждения Гегель желает иметь нам и нашему опыту. Только такое суждение, пишет Гегель, достойно уважения и внимания.
Во введении к “Науке логики” Гегель говорит о том, что определения мышления составляют часть содержания логики и сначала должны получить внутри нее свое обоснование, что в содержание науки логики входит указание метода и понятие науки. Предмет науки логики Гегель определяет как науку о мышлении, постигающем в понятиях.
В представлениях, на которых основывалось прежнее понятие логики, предполагается: во-первых, раздельность содержания познания и его формы, т.е. истинность познания не зависит от развития сознания и мышления; во-вторых, что познаваемый мир существует отдельно от сознания и мышления, которые пусты и примыкают извне к действительному миру; в-третьих, в отношении сознания к предмету предмет остается чем-то потусторонним мышлению, как вещь в себе, т.е. непознаваемым. От этих обыденных взглядов между субъектом и объектом следует освободиться, прежде чем приступать к философии, так как они представляют собой заблуждения.
В прежней метафизике утверждалось, и это было в отношении к мышлению благоприятным (для мышления), что то, что познается мышлением о предметах и в предметах есть истинное, т.е. истинны мыслимые предметы, а не предметы в своей непосредственности. Определения мышления не нечто чуждое предметам, а скорее их сущность. Мышление в своих имманентных определениях и есть истинная природа вещей, т.е. мышление и природа вещей имеют одно содержание.
В новое время предпочтение отдается рефлектирующему рассудку. Это абстрагирующий, следовательно, разделяющий рассудок, упорствующий в своих разделениях. Обращенный против разума, он ведет себя как обыкновенный здравый смысл. Он отстаивает свой взгляд, согласно которому, истина основывается на чувственной реальности, и лишь чувственное восприятие сообщает знанию содержательность и реальность. Так как чувственно воспринимаются только явления, которым природа вещи может не соответствовать, то знание низводится до уровня способности восприятия, представления, веры и мнения. Определения рассудка необходимо сталкиваются с самими собой. Разделяющая деятельность рассудка выходит за пределы этих различных определений и соотносит их. При этом выступает наружу их противоречивость. Возвышение над этими определениями и понимание их столкновений есть дело разума. Но не доведенное до конца понимание приводит к ошибочному взгляду, будто именно разум впадает в противоречие с собой; рассудок не признает, что противоречие и есть свидетельство его ограниченности. Поэтому рассудок отступает к чувственному существованию, пытаясь пройти повторно тот же путь, который уже пройден мышлением, ошибочно полагая, что в нем он найдет устойчивость и согласие. Но так как сознание знает себя как познание только явлений, то оно вынужденно согласиться, что, основанное на чувственном восприятии, познание неудовлетворительно. Рассудочное сознание полагает, что, хотя вещи в себе и не познаются, однако, внутри сферы явлений осуществляется правильное познание, т.е. мы способны познавать не истинное, а только правильное или не правильное. Рассудочное мышление не приводит к истинному познанию предмета, как он есть в себе.
Таким образом, рассудочная форма мышления как форма субъективной логики отдалена от содержания вещи. Разумеется, при этом и речи нет о выведении объективных форм мышления и их диалектическом рассмотрении.
О формальной логике, развитой еще Аристотелем, можно сказать следующее. Мы не находим содержания в логических формах формальной логики потому, что они основаны на правилах рассудочных абстрактных определений, лежащих вне субстанциональной сущности субъекта и объекта.
В отличие от рассудка, разум есть та форма сознания, которая удерживает в себе все различенные абстрактные определения, и он есть их подлинное, абсолютно конкретное единство.
В “Феноменологии духа” Гегель представил поступательное движение сознания от первой противоположности между ним и предметом до абсолютного знания. Результатом этого движения становится понятие науки как истины и понимание необходимости ее предмета. Феноменология духа это дедукция понятия науки. В движении сознания достигается абсолютное знание как истина всех способов сознания, полностью преодолевается разрыв между действительным содержанием предмета и достоверностью самого сознания. Истина в науке “… есть развивающееся самосознание и имеет образ самости [что выражается в том], что в себе и для себя сущее есть осознанное понятие, а понятие, как таковое, есть в себе и для себя сущее. Это объективное мышление и есть содержание чистой науки”.

