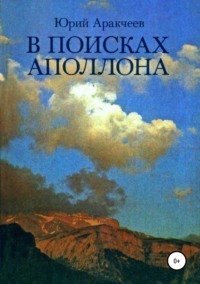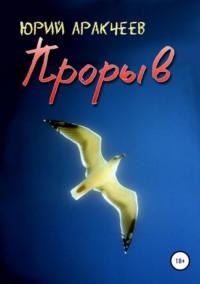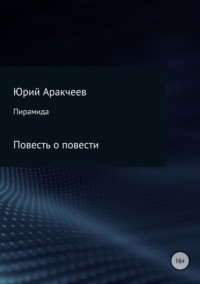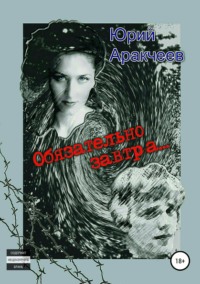Полная версия
Поиски Афродиты
Конечно, я не злоупотреблял. Ведь это запретно да и вредно очень, как говорят. Но иногда очень, очень хотелось, даже горло сжималось от нестерпимой жажды. Иногда разрядка происходила сама собой. Во сне или по утрам. Было приятно, блаженно, однако, увы, на белье или одежде оставались следы…
Бабочки, фотография, книги…
Уж не знаю, как выкручивались бабушка и сестра. Кроме прочего, бабушка иногда занималась с учениками – давала уроки английского, французского, итальянского языков, делала переводы. Но учеников и заказов на переводы было немного, по-прежнему подрабатывала тем, что набивала табак в бумажные гильзы. И еще мы теперь периодически пускали жильцов в мою комнату – за мизерную плату «сдавали койку». До сих пор мне снится один и тот же сон в разных вариациях: я возвращаюсь домой из какой-то очередной поездки, а моя комната занята – там несколько жильцов, которые въехали без моего ведома, мне негде спать, не говоря уже о том, чтобы писать книги или хотя бы дневник. В крайнем расстройстве я просыпаюсь… Немного помогала нам мать сестры, моя родная тетя – тетя Лиля, которая, как сказали потом, очень любила меня почему-то, а я тогда этого не понимал. С разрешения своего мужа, доброго, но капризного и страшно занятого на какой-то важной работе человека – Владимира Ивановича, – она брала меня к себе на каникулы; однажды я все лето провел у нее на даче, в Никольском под Москвой, где произошло историческое событие: впервые в жизни я увидел живого Махаона – большую бабочку, солнечно-желтую, с черными полосами и пятнами, со «шпорами» и голубыми глазками на задних крыльях. Он, вернее, она, большая бабочка, села на цветок и вдруг осторожно и медленно раскрыла великолепные, роскошные крылья. И замерла.
Словно из какого-то другого мира глянули на меня два синих пятнышка-глаза. Я тоже замер. Мгновенная связь возникла между нами. Доверчиво и беззащитно распахнутые нежные крылья. И голубые внимательные глаза. Что-то девичье почудилось в них… Тотчас захлопнулись крылья, и бабочка унеслась, навсегда оставив в моей памяти очаровательный облик. Любовь – с первого взгляда.
А еще сад. Таинственный, запретный сад по другую сторону дачи, куда разрешено было ходить только в сопровождении хозяйки дачи, Марии Ивановны. Яблоки, вишни, груши, сливы. Сколько раз потом снился мне этот сад, росистый, пронизанный утренним солнцем, с тяжелыми душистыми плодами среди листвы…
И еще часами я мог теперь сидеть на дачном участке или на какой-нибудь поляне в ближнем лесу, наблюдая за муравьями, шмелями, бабочками, подставляя солнечным лучам свою кожу, ощущая, как жизненная энергия перетекает в меня из травы, из деревьев, из воздуха.
Помню, как летним вечером Владимир Иванович обещал мне платить по гривеннику за каждого убитого комара. Комары донимали нас. Помню веранду, душистый свежезаваренный чай, аромат клубничного варенья. Помню потрясающе красивую, нездешней какой-то расцветки ночную бабочку: темно-шоколадные с белыми четкими прожилками бархатные верхние крылья и оранжевые с фантастическими синими пятнами нижние (потом я узнал, что это медведица-кайя). Ее нашел днем под карнизом мой четырехгодовалый двоюродный брат Володя, сын тети Лили, и показал бабушке, а уж она позвала меня. Помню мохнатую темную гусеницу, которую я увез с дачи в Москву, она окуклилась в банке, а потом из нее вывелась одна из красивейших дневных наших бабочек – Адмирал. Красно-бело-черная…
И, конечно же, началось у меня очередное увлечение («очередное сумасшествие», по определению бабушки) – интерес к природе, а особенно к бабочкам.
Приблизительно в то же время постепенно овладевало мной и еще одно сумасшествие – фотография. После отца осталось четыре старинных фотоаппарата, химикаты, увеличитель, бумага и пленки, и я осваивал таинственный, чудесный процесс: можно было, оказывается, остановить мгновение… Самым волнующим был, пожалуй, момент, когда при красном свете фонаря в ванночке под проявителем на чистом фоне бумаги вдруг торжественно и постепенно появлялось изображение…
Ну, и конечно, книги. Кто сказал, что искусство, литература существуют сами по себе и практически не влияют на жизнь человечества? Несусветная глупость. Для меня, например, книги всегда были прямыми учебниками жизни. Чем бы я был без них? В детстве – «Аленький цветочек», «Собирание бабочек», «Записки об уженьи рыбы», «Рассказы о разных охотах» Сергея Тимофеевича Аксакова, «Приключения Карика и Вали» Яна Ларри, «Конек-Горбунок», сказки Г.-Х. Андерсена, русские народные сказки (например «Гуси-лебеди»), Сетон-Томпсон («Крэг – Кутенейский баран», «Арно», «Краснозобая казарка»…), Фенимор Купер, Жюль Верн, Майн Рид, «Робинзон Крузо», «Путешествия Гулливера», «Дон Кихот», Рони-Старший «Борьба за огонь» (Нао, Нам и Гав…). И конечно, конечно, Джек Лондон.
Бабушка и сестра
В детстве и юности из живших вокруг людей больше всех я любил, конечно же, бабушку. Почему-то казалось, что она, как никто, не только любит, но – понимает меня. Уважает то есть. Так, наверное, и было, судя, например, по письму, которое она написала мне в город Молотов (так тогда называлась Пермь) и которое у меня сохранилось. Оно написано как бы взрослому человеку, другу, можно сказать, хотя мне тогда едва исполнилось четырнадцать.
Судьба моей бабушки типична для того времени: она потеряла мужа, потом, поочереди, четверых своих дочерей (в том числе мою мать), случайно – благодаря моей сестре – избежала ссылки в Сибирь и, начав жизнь богатой, высококультурной аристократкой, кончила ее в полном духовном одиночестве и материальной нищете. Хотя и сохранила бодрость духа и трезвость мысли до конца дней. Типичная судьба русских аристократов в послереволюционной России, хотя бабушка и была обрусевшая немка.
Моя сестра тоже, конечно, человек неординарный. Свои недостатки у нее есть, разумеется, но энергия человеколюбия и голос совести в ней настолько сильны, что всю свою жизнь она только то и делала, что кого-нибудь спасала. Про меня я уж не говорю, мне она стала фактически матерью, но вот как она спасла бабушку от ссылки в Сибирь, рассказать стоит.
Бабушку увезли на Лубянку в начале войны как представительницу вражеской нации. Узнав об этом по приходе из школы, сестра, недолго думая, ринулась туда же, сумела каким-то образом прорваться в приемную, где, как впоследствии с пафосом описывала, висел огромный, во всю стену, портрет Вождя Народов, Друга Всех Детей, во весь рост, и с комсомольским нахрапом принялась свою бабушку защищать – «как достойную воспитательницу комсомолки, у которой отец воюет на фронте», как «высококультурного, честного человека, ничем не провинившегося перед Советской властью»… Бесстрашие и задор шестнадцатилетней девчонки, видимо, были такой силы, что ее не только не взяли заодно с бабушкой – что для тех времен было бы вполне логичным, – но… отпустили. Вместе с бабушкой! Которую с тех пор оставили в покое, несмотря на то, что ее дочь с мужем и многих ее знакомых – не говоря уж о родственниках близких и дальних – методично высылали в Сибирь, большей частью в Карагандинскую область. Некоторые, разумеется, до мест ссылки не доехали – поумирали в вагонах.
Охота
На Урал, в город Молотов, куда попала одна из дочерей бабушки (моя тетя), и меня отправили однажды на лето. Естественно, уже после войны. У тети был взрослый сын, Костя, мой двоюродный брат, лет на восемь старше меня. Там, в Молотове, я, конечно же, тотчас влюбился в пятнадцатилетнюю девочку, дочку соседки, но и попытки не сделал даже сказать ей об этом – только смотрел с замиранием сердца на ее темноглазое личико, на стройную тоненькую фигурку в синем простеньком платьице, а потом о чем-то неразборчивом фантазировал… И… И, к счастью, тут же и заболел еще одним сладостным сумасшествием: брат Костя водил меня в лес на охоту.
О, Костя был страстным охотником, страсть его не признавала даже рамки закона. Охотничий сезон еще не был открыт, и Костя завертывал ружье в одеяло… Мы шли с ним бродить по окрестным лесам, по берегам реки Гайвы. Все вокруг было таинственным – ничего подобного я раньше не видел и не испытывал. Торжественно стояли леса, освещенные солнцем, внезапно перед нами распахивались глубокие лесные овраги, блистала на солнце широкая поверхность реки. Лес начинался сразу за поселком, в котором мы жили – на самой окраине Молотова. Сосны, ели, березы, липы, осины, кусты рябины, малины, черемухи – я открывал для себя все это. Нагретый неподвижный воздух. Жарко. Тихо. Костя идет, держа наперевес ружье, я следом за ним, напряженно глядя вперед и сдерживая дыхание. Помню, как мы зашли в болотистый лес. Деревья стояли тихо, угрюмо, мы шли, чавкая сапогами среди голых стволов. Зелень и солнце – наверху, а здесь тихо, сумрачно. Серые и бурые стволы поднимаются прямо из воды. Кустов почти нет. Лишь кое-где тощая рябина или черемуха уныло выставила свои жидко-зеленые ветви. Жутковато… Помню походы вдоль берега Гайвы, охоту за утками… Помню, как Костя убил зайца – мы сначала осторожно выслеживали его в сумерках утра, и он проскакал рядом со мной, большой, серый – в сторону Кости. Потом грохнул выстрел, и было так жалко зайца, неподвижного, мертвого… Когда не попадалось ничего другого, Костя стрелял дроздов – подкрадывался к ним в густых кустах, а я стоял в стороне, затаив дыхание, ожидая выстрела. Помню густой и сытный сероводородный запах дымного пороха – в отличие от кислого и жидкого бездымного… Как-то среди леса мы с Костей набрели на большой овраг, весь поросший деревьями и кустарником. Там было очень много смородины. По краю его бежала тропинка. Костя велел мне стоять на месте, ждать, а сам пошел в заросли, держа наготове ружье. Я стоял и любовался красотой оврага. И опять по тропинке прямо на меня выскочил заяц. Остановился, посмотрел удивленно, не спеша развернулся и поскакал обратно. Этот остался живым.
Там же, в поселке у Кости, я впервые услышал по радио передачу «Голоса Америки» сквозь вой глушилок. Это, конечно, произвело на меня впечатление, но прошло еще немало лет прежде, чем я оказался в состоянии вынырнуть из наивного детского мира и оглядеться вокруг себя.
Осенью в тот год умерла тетя Лиля – рак легких. Рита тоже стала сиротой. Потом сошел с ума и вскоре умер родной брат моего отца, мой дядя Иван Алексеевич – он, его жена тетя Маргарита (почему-то было принято ее звать «тетей Гретей») и его дочь, моя двоюродная сестра Инна, жили с нами в одном дворе. А их сын, Дима, мой двоюродный брат, пропал без вести во время войны.
Засыпая, я теперь каждый раз молился за бабушку.
– Господи, помилуй и благослови бабушку, – шепотом повторял я три раза и только после этого позволял себе уснуть. Почему-то мне казалось, что бабушка не может умереть днем, при мне, а засыпая, я как бы оставлял ее на всю ночь без своей защиты – потому и молился, передавая на ночь заботу о ней Богу.
Но осенью следующего года в моей комнате ноябрьским утром на моих глазах она все-таки умерла.
Высшие силы последовательно и неотвратимо выполняли, очевидно, свой замысел: они оставляли меня одного. Правда, пока вместе с сестрой. Карабкайтесь, как можете. А мы посмотрим.
Проблемы
О девочках я, конечно, мечтал все чаще.
Ни на Урале, у Кости (и сейчас помню милое личико и синее платье), ни на школьных вечерах (о, сколько симпатичных девчушек там было!), ни в своем дворе (особенно одна – круглолицая, смугленькая…), ни на улицах родного города пока не только не целовался ни с кем, но даже и не «дружил». Хотя ребят-приятелей было у меня более, чем достаточно.
А вот классе то ли в седьмом, то ли в восьмом школы очередным сумасшествием стала у меня химия. Мы с приятелем Славкой пытались получить бертоллетову соль, гремучую ртуть, нитроглицерин и еще множество разных интересных веществ – главным образом, конечно, взрывчатых. И получали ведь – вот что интересно! Кроме, правда, бертоллетовой соли, почему-то она никак не выпадала в осадок. Неугомонная энергия, полыхавшая во мне, заставляла иной раз смешивать растворы наугад, получалось черт знает что, однажды из колбы повалил густой буро-зеленый едкий дым, жидкость дьявольски забурлила, мы ожидали немедленного гигантского взрыва (а может быть, появится Джин?), меня, слава Богу, хватило на то, чтобы обернуть колбу тряпкой и вместе с ней опрометью выбежать во двор… Обошлось. А еще мы пытались однажды электролизом добыть металлический натрий: расплавили поваренную соль на газовой плите в железной банке, я старательно опустил в нее электроды и… чуть не лишился глаз, потому что расплавленная соль брызнула в лицо – несколько маленьких шрамиков надолго остались на веках, которые, к счастью, вовремя и четко сработали. А еще в восьмом, кажется, классе я тайком от завуча Елены Алексеевны, которая доверяла мне ключи от школьной лаборатории, украл из банки с керосином кусок металлического калия и положил в карман. Дело в том, что ключей от самой заветной маленькой комнатки, где стояли, в частности, банки со щелочными металлами, Елена Алексеевна мне не давала. В тот же раз пришла сама и показала нам со Славкой эту комнатку. Я и воспользовался за ее спиной… В кармане был носовой платок, на котором, очевидно, были влажные пятна, а калий, как известно, загорается от соприкосновения с водой… И вот мы со Славкой прощаемся с Еленой Алексеевной перед тем, как уйти, я стою перед ней и чувствую, что мою ногу словно кто-то обливает кипятком – из кармана сначала идет дым, а потом вырывается фонтанчик огня. И приходится мне позорно бежать в туалет, спасаясь от последствий безобразной кражи… Увы, катастрофически прожжены единственные брюки, а на ноге ожог второй степени… Целый месяц пришлось ходить в клинику на перевязки – шрам, кстати, виден на ноге до сих пор, – на брюки сестра старательно поставила большую заплатку, с которой и пришлось ходить даже на школьные танцевальные вечера, а самое неприятное все же – стыд перед Еленой Алексеевной. У которой я теперь, разумеется, не решался попросить ключ. Так справедливо был наказан акт воровства.
А раньше еще, классе в четвертом, я принес домой на второй этаж очередную охапку дров, бросил ее возле печки и почувствовал тянущую, ноющую боль в низу живота. Потом прошло, но через некоторое время началось опять.
Весенний день, мы, мальчишки, бегаем, поддаем ногами консервную банку. Боль в низу живота справа становится такой сильной, что я ухожу домой. Трогаю там, где болит… Боже мой, в маленьком сморщенном мешочке, который называется очень смешно – мошонка, – я нащупываю что-то лишнее: выпирающий твердый бугор. Вокруг него все ноет, болит, я нажимаю посильней на бугор, и он уходит обратно в живот. Жутковато, однако становится чуть легче. Потом опять. Больно, неприятно. И не с кем поделиться – вот беда. Стыдно!
Никаких современных удобств в старом доме нет, вода только холодная, отопление печное, о душе, ванной мы и не мечтаем, а мыться ходим по субботам в баню. А там ведь раздеваются догола. И если у тебя что-то лишнее между ног – стыдно. Спасибо, если прежде, чем снять трусы, в раздевалке, я нажимаю на все растущий бугор, и он убирается восвояси. Но во-первых, не всегда до конца. А во-вторых, постепенно потом вылезает… Приходится незаметно для окружающих повторять процедуру. Если сидишь, то лучше. Ну, ладно еще, если в бане чужие. А если знакомые? Противно. Только через некоторое время я узнаю, что это и называется отвратительно: грыжа.
Перед уроками физкультуры в школе приходится проделывать то же самое: нажимать, загоняя обратно. Но со временем она возвращается все быстрей и быстрей… Нажимать тоже непросто: если как-то не так нажмешь, боль очень сильная.
В то короткое время, что мы жили вместе с отцом, однажды утром я проснулся и вижу: он сидит на краю постели совершенно голый, а между ног у него огромный, величиной с два кулака, шар – во всяком случае таким большим он мне тогда показался. Отец с печалью смотрит на него и осторожно поглаживает. Увидев, что я проснулся, он смутился и тотчас накрыл себя одеялом. Я в первый момент ничего не понял и только потом вспоминал все чаще. И теперь, когда эта штука стала расти у меня, я с ужасом думал о том, что может меня ожидать.
А что я буду делать, если в конце концов удастся мне остаться наедине с девочкой? Об этом стыдно и думать.
И еще, конечно, проблема с одеждой. Она преследовала меня в юности постоянно. Конечно, сестра старалась, чтобы я выглядел не хуже других, но с нашим достатком это было весьма и весьма непросто. Однажды сестра сшила мне вельветовую курточку – помню ее до сих пор, целый период юной жизни моей связан с вельветовой курточкой… Для человека обеспеченного одежда может не иметь большого значения, но для бедного и гордого именно она порой становится первостепенной. Особенно в том возрасте, когда больше всего на свете тебя волнует то, как относятся к тебе сверстники противоположного пола.
«Нимфа» Ставассера и «Купальщица» Коро
Кажется, была поздняя осень. Или зима. А может быть и ранняя весна. Помню грязь, слякоть. Стояли в очереди несколько часов или даже всю ночь, меняясь.
Выставка «Сокровища Дрезденской галереи, спасенные доблестными советскими воинами».
Грандиозное событие в нашей – а особенно в моей – жизни. Понравилось многое, хотя многого я не запомнил. Да и народу было битком, к некоторым полотнам не протолкнешься. Я взял с собой фотоаппарат и умудрился сфотографировать кое-что, разумеется, на чернобелую пленку. Больше всех понравились и запомнились: «Шоколадница» Лиотара, «Святая Инесса» Риберы, «Сикстинская мадонна» Рафаэля и «Спящая Венера» Джорджоне. Все это я прилежно сфотографировал, но с особым волнением печатал потом «Венеру». Хотя мне и не нравилось, что у нее довольно большой живот. Почти как и у «Данаи» Рембрандта, которая мне именно потому и не понравилась вовсе.
Но из произведений искусства самое пылкое восхищение с детства вызывали у меня все же другие. Картина «Купальщица» Камиля Коро в Пушкинском музее и скульптура Ставассера «Сатир и нимфа» в Третьяковке – по-моему, она стояла в том же зале, где висело огромное монументальное полотно А.Иванова «Явление Христа народу», которое мне тоже нравилось.
Узкие, хрупкие плечи Нимфы, небольшие аккуратные холмики грудей, плавные линии рук, бедер, ног, нежная припухлость треугольничка внизу живота… Я готов был смотреть бесконечно. Слабость, томление, сладкие спазмы где-то в глубине горла, желание гладить и чуть ли не целовать белый теплый мрамор. Я готов был молиться на все это и постоянно вызывал в воображении волшебный, прекрасный образ. То же и «Купальщица». На берегу пруда, в темных зарослях. Белая, словно светящаяся. И опять эти сходящиеся плавные линии… И то, и другое я, конечно, сфотографировал и рассматривал потом фотокарточки с замиранием сердца. Никогда никакие откровенные изображения не волновали меня потом в такой степени. А если – то лишь такие, где возникала подобная магия линий. Скульптуры Родена или Кановы, картины Ренуара, Энгра, некоторые фотографии женщин в журналах…
«Откровенные» фотографии посмотреть тогда возможности не было. Только если мутные черно-белые «фотки» где-нибудь тайком у приятелей в мужском туалете. Да и то с острым ощущением чего-то грязного, запретного, даже преступного. Любовь, преклонение – где они? Вместо этого – вонь общественной уборной, милиция, решетка тюрьмы, унижение, хамство, мерзость… Почему?! Недоумение мое все росло. Но опыта, знания, увы, так и не прибавлялось.
Читаю свой дневник того времени и вижу: в пятнадцать лет в восьмом классе школы была у меня какая-то Тоня. «Была у меня» – это, конечно, сильно сказано, потому что ни поцелуев, ни даже встреч один на один не было. Только вздохи в дневнике и бесконечные сомнения – нравлюсь ей или не нравлюсь. Ходили как будто бы коллективно в кино, по улицам просто так шатались в компаниях, Тоня то «посмотрела на меня», то, увы, «не посмотрела». Была эта Тоня для меня, очевидно, зеркалом. Ведь так хотелось узнать, что же я из себя, с точки зрения их, девочек, представляю! Не помню Тоню ту сейчас. Абсолютно! Антонина вообще довольно редкое имя. Но вот что поразительно. Ведь самая первая женщина в моей жизни – когда этот великий акт, наконец, свершился! – оказалась… Тоней! Больше за всю свою жизнь я близко не общался ни с одной Антониной – и вот, значит, выходит так, что судьбой предназначено мне было познать первой женщиной именно Тоню. И коли не смог я воплотить этот замысел судьбы с той, забытой мною сейчас абсолютно первой Тоней, когда было мне 15, то и пришлось ждать голубчику еще ой-ой-ой сколько лет – до следующей Тони! И она, эта вторая Тоня (фамилия у нее была символическая – Волкова…), тоже была, как теперь понимаю, зеркалом, которое отразило-таки мой образ. Который мне, увы, не понравился… И сколько же еще пришлось пережить и промучиться прежде, чем удалось этот свой образ подкорректировать…
Смерть бабушки
Бабушка умирала на моих глазах. Последние месяцы она сильно болела – бронхиальная астма в тяжелой форме и куча хворей других, – но держалась на ногах и делала, что могла, по хозяйству. А в те хмурые ноябрьские дни я заболел тоже, лежал с высокой температурой, ребята из школы пришли меня навестить, а бабушка вдруг сказала:
– Юра-то выздоровеет, а вот бабушка Юрина заболела по-настоящему.
Странно прозвучали эти слова, потому что она слегла только в этот день – 28 ноября. Да и то не совсем, потому что 29-го утром встала.
Я, простуженный, еще спал, разбудили меня бабушкины слова:
– Вставай, Юра!
И тут же она рассказала, как обгорела ручка у нашего чайника: выходит она на кухню, а ручка чайника, стоящего на газовой плите, так и пылает. Это было странно, потому что сколько раз мы оставляли чайник на кухне, порой забывали о нем так, что он почти совсем выкипал, но ручка никогда не горела. А накануне я поставил заварочный фаянсовый чайник на конфорку, как всегда, но он вдруг лопнул. Теперь же, после того, как ручка сгорела, сестра вдруг разбила чайницу, полную чая – она выскользнула у нее из рук, чай рассыпался…
Днем бабушка слегла – ей нездоровилось. К вечеру стало и вовсе плохо. Ни мне, ни сестре и в голову не могло прийти, что это что-то особо серьезное, бабушка и раньше ложилась, у нее были сильные приступы астмы. Но тут вдруг вечером один за другим стали приходить соседи. Из квартиры и со двора – бабушку уважали и знали довольно многие. Бабушка мужественно говорила, что ей лучше и что она завтра обязательно встанет. Но голос ее был какой-то странный, надтреснутый, к тому же и дикция невнятная – язык ворочался с трудом. И взгляд вечером был совсем незнакомый, чужое выражение глаз. Мы с бабушкой спали последнее время в одной комнате – моей, – наши кровати были напротив. В эту ночь я спал совсем без снов, хотя обычно мне всегда что-нибудь снится.
Когда проснулся, услышал, что бабушка дышит с трудом и в груди у нее что-то клокочет, но это мы слышали и раньше – астма. Сестра пришла будить бабушку, но та не просыпалась. Опять стали приходить соседи и плакали. Вызвали врача – женщину с редкой фамилией – Прорвич, она была любимым врачом бабушки, и та не раз говорила, что когда будет умирать, пусть рядом с ней будет Прорвич. Осмотрев и послушав бабушку, Прорвич сказала:
– Все главные центры поражены…
Инсульт. Мы стояли около той, которая была для меня дороже всех на свете и вдруг услышали, что дыхание начало прерываться. Я еще не оправился от болезни, и у меня кружилась голова. Чтобы не упасть, сел на кровать. Дыхание бабушки остановилось. Прорвич поднесла зеркало к ее губам, а потом пощупала пульс.
– Все, – сказала она.
Как-то машинально я посмотрел на часы. 11 часов 20 минут утра, 30-го ноября.
Мы с сестрой Ритой остались вдвоем.
Тетеревиный ток и рыбная ловля
Билеты на электрички были тогда очень дешевые. Хлеб, сахар, масло и колбаса тоже. Вполне доступными для самых бедных были: нейлоновая леска «сатурн», рыболовные крючки, насадка для зимней подледной ловли – рубиновые червячки, мотыль. И даже валенки и резиновые сапоги. Обычно мы ездили с другом Славкой и одноклассниками – Левкой Чистоклецевым, Витькой Яковлевым, – иногда удавалось сагитировать и других. Еще в охотничьем магазине мы познакомились с Вадиком Парфеновым, который стал моим спутником на охоте. А в электричке однажды, когда ездили со Славкой на рыбную ловлю, – с пожилым рыбаком Андреем Гаврилычем, который потом брал меня с собой на рыбалку в новые для меня места. С этими поездками, кстати, связаны самые первые мои рассказы. А был еще и Владимир Иванович Жуков – тоже знакомство в охотничьем магазине и тоже поездки и вовсе в места просто замечательные. Самая первая из них – на тетеревиный ток в окрестности подмосковного городка Рогачево. Там я был просто ошеломлен широким весенним половодьем реки Яхромы, полетами и кряканьем настоящих диких уток, ночевкой в лесу у костра и хором токующих тетеревов ранним утром. Ничего более прекрасного и чарующего я за свою предыдущую жизнь не видел, не слышал, не чувствовал. В сером сумраке раннего апрельского утра слышались бурлящие, но в то же время и звонкие звуки, нежные, завораживающие. Что-то древнее, первобытное было в них, периодически они прерывались задорным шипением – «чуфыканьем». Я был совершенно очарован ими, готов был слушать без конца, а небосвод тем временем светлел, розовел – впереди ожидался бесконечный счастливый, солнечный день. Таким он и стал для меня, хотя я так и не подстрелил ни одного тетерева из своей старенькой берданки с допотопным затвором, которую не помню уж где достал…