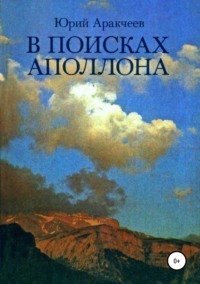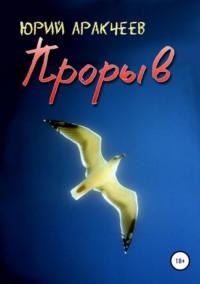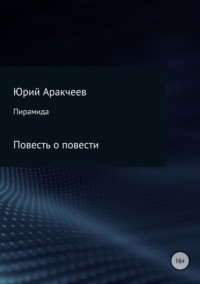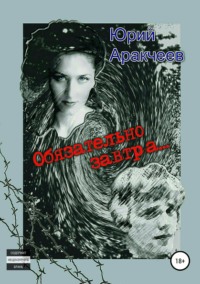Полная версия
Поиски Афродиты
Да, мои фантазии ограничивались объятиями, нежными поцелуями. В губы, в шейку, самое большее, то есть самое низкое территориально – в грудь. Не ниже. Но и этого вполне хватало. Еще, правда, было световое, музыкальное и парфюмерное оформление в моих мечтах: притушенный красноватый свет, аромат духов – обязательно! – ковры, широкий диван или тахта, почему-то красное стеганое атласное оделяло. Музыка тихая, медленная (флейта… кларнет…). И наше молчание. Не нужно слов, объяснений. Пусть говорят чувства, а также губы, руки, движения наших тел… Я тогда и представить себе не мог – да ведь не слышал никогда – лучшую на свете музыку: взволнованное, сбивчивое дыхание, стоны, крики, отрывистые слова… Да где уж.
Моя комната
«…И вот вчера вечером мы решили устроить танцы в моей комнате. Из девчонок пригласили Аллу и ее подруг…»
О, потом-то я понял, какой это был рискованный и опрометчивый шаг – тем более после новогоднего моего позора. Вот теперь, с расстояния прожитых лет, вижу: комната была моей неразрывной частью, вернее даже не она, а я был порождением и частью ее – гомункулус, двуногое, двурукое головастое существо, рожденное в глубине матки-комнаты, концентрирующее в себе (до сих пор не перерезана пуповина) волны, вибрации, запахи, исходящие от ее древних стен, оклеенных в то время серо-зелеными, выцветшими, кое-где оторванными, отставшими от штукатурки и слоя газет обоями, грязного, закопченного потолка с лепными карнизами, уцелевшими с дореволюционных времен, с наружной, кое-где провисшей, отцепленной от кругленьких белых изоляторов электропроводкой, стареньким оранжевым пыльным, потрепанным абажуром. Высокая, до самого потолка, побеленная прямоугольная колонна печи возвышалась справа от входной двери. Над железной дверцей ее красовалось черное пятно копоти, похожее на закругленный язык; под большой этой дверцей была и еще одна, маленькая, за которой открывался зев поддувала, где скапливались залежи серой мягкой золы, тихо струящейся на округлый кусок почерневшей жести, прибитой к паркету пола. В зимнее время печь занимала, разумеется главное место в иерархии комнатных ценностей, топка ее была настоящим искусством, которое я осваивал с детства. Тепло печи – энергия нашей мрачной военной и послевоенной жизни…
Выбрать сначала полено посуше, желательно, конечно, сосну, очень хорошо, если смолистую, толстым ножом нащепать из него лучинки – ставя полено на один торец, на другом отмерить тоненькую полоску от края и, вонзив в узор годовых колец бывшего дерева лезвие ножа, навалиться на него всем телом, левой рукой надавливая на тыльное тупое ребро лезвия, а правой на рукоятку, и с характерным шипением, треском сползать вдоль полена, отделяя от него полосу маслянисто-желтой свежей лучины, вдыхая острый, пряный, иногда кисловатый аромат леса. Потом еще, еще… До сих пор при воспоминании начинают тотчас ныть набухающие ладони и вот-вот выступят красноватые полоски от тупого тыльного ребра лезвия… Наконец, лучинок достаточно – я кладу смятую в комки бумагу в закопченное мрачное жерло топки, а еще лучше, если бело-розовые завитки бересты, сверху выстраиваю аккуратный шалашик лучины, на него – потоньше и посуше поленья, так, чтобы между ними оставались достаточно широкие щели, – теперь только чиркнуть спичкой, поджечь аккуратно… Если дрова сухие, то очень скоро веселое бойкое пламя охватывает все сооружение, возникает устойчивая воздушная тяга – печь начинает дышать… Дверцу нужно закрыть, а нижнюю – поддувало – слегка приоткрыть. И вот уже гудит, играет буйный огонь, лихо посверкивая сквозь щели между дверцей и кирпичами – «спящая царевна» ожила! – и большое, мощное тело ее дрожит от сдерживаемого восторга… Воздух в комнате становится свежее, чище, хотя попахивает чуть-чуть горьким, смолистым дымком. Жизнь просыпается во всех нас…
Оживаю не только я – оживают постепенно, просыпаются от спячки и словно слегка шевелятся неподвижные до того и замерзшие, как и я, постоянные обитатели комнаты: большой, красного дерева, со многими ящичками старинный комод с прямоугольным зеркалом в деревянной резной оправе, подвешенным на резных же столбиках (мы называли его «туалет») – этакий мощный, сытый толстяк… За ним – стройный ореховый платяной шкаф с искусными завитушками на дверце (утонченный аристократ…); его простенький, легкомысленный меньшой брат – шкафчик, только не из ореха, а – как и комод – из красного дерева; шаткий, совсем старенький овальный столик на одной центральной подставке (одноногий пенсионер-старичок…); рассохшаяся, почти разломанная бамбуковая этажерка, изнемогающая под тяжестью напиханных в нее книг и тетрадей (трудяга, вечно всем помогавшая, словно костлявая, курящая и кашляющая пожилая интеллигентка); основательное, старинное бабушкино кресло, глубокое, с дырами в обивке, из которой торчат пружины, накрытые, правда, каким-то тряпьем (пытающийся сохранить достоинство и военную выправку больной генерал…); железная, расшатанная, плебейская, совсем не в масть остальному кровать, стальная мелкая сетка которой местами проржавела до дыр и накрыта сначала тоже каким-то старым тряпьем, а потом не менее древним матрасом, единственной простыней и неприятного, коричневато-желтого оттенка одеялом – этакое жилистое, скрипящее существо с сомнительным криминальным прошлым… А вот, наконец, – занимающий центральное место, солидный, тоже красного дерева, тоже весь покрытый искусной резьбой, круглый стол с тяжелой, темно-красной, исчерченной многочисленными белыми жилками мраморной круглой плитой посредине – атаман-председатель… Мы одной крови – они и я…
И все бы ничего, и могло бы это древнее антикварное семейство «родственников» создать вполне приемлемый, аристократический даже колорит в задрипанных стенах моей родной комнаты, однако за военные и послевоенные мрачные годы превратилось оно в компанию ободранных, обшарпанных, искалеченных инвалидов, да еще и заваленных теперь всяким старьем, выбросить которое было жалко, так как заменить нечем. Между колонной печи и одной из стен навалены дрова, над ними висит старая драная одежда, форточка в нижней части одного из двух окон отсутствует, и дыра заткнута древней подушкой (рамы гнилые, да и стекло непросто достать), паркет тоже растрескался, кое-где в полу зияют глубокие щели, из которых очень трудно выметать мусор. В углах, за шкафом, за туалетом, под этажеркой тоже тряпье, резиновые сапоги, валенки, рыбацкий маленький чемоданчик, фотоувеличитель, ванночки, фонарь, бутылки, старая клетка, книги, которые не уместились на этажерке, и много еще другого всякого барахла.
И вот в убогую, мрачную эту обитель, в темное от пыли и копоти чрево, хранящее память о нелегких годах, коптилках, голоде, клопах, смертях, болезнях, слезах и маленьких радостях, в душную эту свою родную берлогу я пригласил ребят, а среди них – предмет первой, трепетной, хрупкой моей любви. Светленькую, аккуратную, опрятно одетую девочку, дочку вполне обеспеченных, интеллигентных родителей, никогда не знавшую, как я думаю, что такое голод, грязь, отсутствие самого необходимого. Едва ребята вошли, как по растерянным глазам своей любимой я понял, какую сморозил глупость. Но, очевидно, все поняв по моим глазам, желая, очевидно, как-то успокоить, утешить меня, сделав вид, что все это для нее не имеет значения, Алла изящно уселась в кресло… Вернее, хотела усесться, потому что тотчас же и вскочила, ибо какая-то из пружин «генерала», очевидно, повела себя непристойно. Вскочив, Алла приподняла накидку, увидела в кресле зияющую дыру… Конечно, в те времена не многие жили благополучно, но я-то, я-то ведь лидер компании, я всегда так гордо держался и – претендовал на внимание не кого-нибудь, а – первой красавицы «женской» школы! Я открыл перед нею самое сокровенное – мое родное жилище, – и получился жестокий конфуз…
Мы тотчас организовали танцы под патефон, который я взял у Риты, я, конечно же, хорохорился, пытался показать, что мне все нипочем, но преодолеть ощущение скованности и жуткой какой-то униженности так и не смог.
На другой день после школы я решил позвонить ей не из квартиры, а из уличного телефонного автомата, чтобы не подслушивали соседи. Важно было узнать, как она, не разочаровалась ли во мне окончательно после всего. Сначала спросил, нет ли у нее стихотворения Некрасова «Родина», которое нам задали по внеклассному чтению. Она сказала, что нет. Тогда я вдруг признался, что позвонил не из-за этого, а просто сказать, что она мне очень, очень нравится.
– Ну, что ж, я верю, – спокойно и холодно произнесла она.
Каждое ее слово, каждый звук ее голоса был для меня как небесная, несказанно прекрасная музыка. Даже такие слова – холодные и почти враждебные, как сейчас.
– Что же ты ответишь на это? – тем не менее глупо спросил я, превозмогая холод ее, борясь со своей беспомощностью перед ее безусловной властью, идя ва-банк.
Она сказала, что не понимает, на что надо отвечать. Тогда я – головой в омут – предложил ей встретиться.
– Зачем? – спросила она.
– Я хочу сказать тебе то, о чем не говорят по телефону.
– Сегодня я не могу. У меня занятия с репетитором по английскому. Учительница приходит.
– А завтра?
– Тоже не знаю, смогу ли.
Ощущая мертвенный холод, в полном отчаянье я повторил:
– Ты мне нравишься, правда.
– Знаешь, сколько людей мне это говорят? – сказала она даже с какой-то досадой. – Во всяком случае, если я правильно думаю о том, что ты скажешь, то дружить я ни с кем не собираюсь.
– Хорошо, – упавшим голосом проговорил я, едва шевеля губами. – Завтра я позвоню тебе еще.
И повесил трубку.
…Но продолжались, продолжались наши детские, бестолковые гуляния по улицам, дурацкие телефонные звонки, за которые потом было стыдно, бесконечные сомнения, фантазии. Чувство постоянной униженности, неуверенности, и – гимнастика по утрам, танцы перед зеркалом, коньки зимой, поездки за город летом, дневник…
Первый тетерев
Нужны были победы. Обязательно! Хоть какие-нибудь…
Из дневника:
«…Приехав в Рогачево, мы направились по знакомой дороге на север… Вечером первого дня мы пошли на речку ловить рыбу. Места очень хорошие, но берет все-таки слабовато. Я поймал штук 5 окуньков, Левка – штуки 4, густерку и пару пескарей. Эдька поймал штуки 3 ёршика.
На другой день, это было 13-е августа, мы встали в 5 часов утра и отправились на рыбалку. Сидели до семи часов и почти ничего не поймали. Искупавшись, решили пойти на охоту. Пошли вдвоем с Эдиком. Я все время твердил ему об осторожности в обращении с ружьем, и он старался. Вышли на болото за 3-ей канавой. Было часов 10 утра. Мы прошли по очень хорошим местам за 3-ей канавой, по ягодникам, но… не вспугнули ни одного косача. Вышли на канаву, прошли еще с километр. Я нес ружье наготове со взведенными курками. Вдруг передо мной раздался характерный звук тетеревиного взлета – взбалмошные, чуть ли не пушечные удары крыльев. Я вскинул ружье и повел стволами, но тетерева не увидел. В то же мгновение из-за кустика, который был шагах в 25 впереди и левее меня, поднялся второй косач, но не взлетел он и на два метра, как сраженный моим выстрелом упал на ковер из мха и прошлогодних листьев. Когда я подбежал к нему, его прекрасный хвост лишь слегка дергался. Из клюва обильно текла кровь, на перьях же – ни кровинки: доказательство резкости боя моего ружья. Как красив был этот первый мой косач! Я положил его в сумку, и ремень начал слегка «приятно резать плечо», по выражению С.Т. Аксакова.
Больше в этот раз мы ничего не встретили.
Интересно то, что в Пустыни в этот сезон еще никто не убивал тетерева, даже охотники с собаками.
Итак, я сам поздравил себя «с полем»…».
Читая, вижу опять со стороны «того парня», который писал все это. Любопытно: «Эдик» – это тот самый Эдик, который так упорно и нахально ухлёстывал за Аллой и которого она в конце концов «бортанула». Я, конечно, простил его, и на охоте он полностью мне подчинялся… Но главное, главное – другое: помню, помню тот знаменательный день 13 августа, помню…
Влажный, обволакивающий и приторный аромат багульника (голубику в тех местах называют «пьяникой», потому что растет среди багульника, чей аромат пьянит), мягкий ковер мха под ногами, в котором сапоги тонут наполовину, редкие хилые березки вокруг, желто-бурые, серое мутное небо над нами, ощущение подавленности, затерянности в бесконечном пространстве, напряженное ожидание взлета больших черных птиц, всегда внезапное, взрывное появление их с оглушительным хлопаньем крыльев – до мурашек – и ощущение дикого первобытного торжества, ружье навскидку, дрожь волнения, сравнительно слабый стук выстрела, толчок в плечо, кислый запах бездымного пороха, очередное – как правило – разочарование промаха, расслабление… Но в тот раз я ощутил ошеломляющую радость победы, клокочущие крики вырвались из моего судорожно сжимающегося горла (кажется: «Дошел! Дошел!» – так писали в охотничьих книгах…), слезы восторга и благодарности готовы были брызнуть из глаз; задыхаясь, я бросился к упавшему черно-белому красавцу, который лежал на мху, чуть-чуть вздрагивая, подвернув свой короткий черный хвост, вывернув белоснежное подхвостье, и кровь, льющаяся из клюва, горела так же, как набухшие празднично брови. И тотчас ощущение торжества сменилось чувством раскаяния, жалости, хотя и не уходила радость победы… Что-то общее – да-да, очень похожее! – на то, что испытывал я когда-то с девочкой, которая была по условиям нашей военной игры, «врагом»… И еще на то похожее – понимаю теперь, – что стал испытывать потом – много позже! – с девушкой, женщиной, когда стонет она в беспомощности и восторге, и прижимает к себе, и мечется ее голова на подушке, и закрыты или, наоборот, широко и дико раскрыты глаза, неотрывно, жадно смотрящие в глубину моих глаз, а стоны – радостные и жалобные одновременно, торжествующие и беспомощные, – ласкают слух и будоражат душу. И раскинуты широко ее ноги, и я готов весь, целиком проникнуть в нее, и жалость и нежность к ней соединяются с клокочущим в горле жестоким рычанием, и рвется, кажется, из груди счастливая, победная, первобытная песнь…
То был первый в моей жизни добытый тетерев, хотя я не раз уже бывал на охоте и либо ничего не встречал, либо позорно мазал.
То была так нужная мне победа. Пусть не в том, что было столь важным и становилось все важнее и важнее. Но все-таки.
Еще победы
А в декабре того же года я все же одержал, наконец, настоящую, одну из самых крупных своих юношеских побед: пошел в клинику. И сказал, что готов лечь на операцию когда угодно. Только не во время экзаменов в школе, конечно.
Операция состоялась на следующий год, 6-го февраля.
Сначала было посещение небольшого кабинета, и пришлось спустить больничные штаны и трусы, и молоденькая сестра брила наголо «операционное поле», и я напрягал всю свою волю, чтобы не дай-то Бог, не опозориться, не среагировать на эти нежные касания девичьих рук – впервые во «взрослой» жизни, но не где-нибудь, а в медкабинете, увы. Сдержался, вышел из кабинета с благополучно голым лобком и всем остальным, готовый.
Везли потом на каталке в операционную. Сначала боялся, конечно, панически, хотя и вел себя прилично. Но в какой-то миг вдруг подумал: жребий брошен, от меня уже ничего не зависит. С каталки ведь не вскочишь, назад не побежишь. Будь что будет, вручаю Тебе, Господи, судьбу свою, а Вам, Роберт Станиславович Асмоловский, мой первый в жизни хирург, тело свое. Смотрите, ради Бога, внимательно, не режьте лишнего, зашить потом не забудьте как следует, не оставляйте ничего постороннего в моих недрах. А поэтому мне лучше не дергаться, не мешать, не отвлекать, вести себя нужно достойно.
Помню яркий свет широкой плоской лампы, состоящей из многих ламп, совершенно белых, слегка, может, голубоватых; где-то там, выше, потолок операционной; в поле зрения появляются люди в белых халатах, в шапочках, с марлевыми повязками на лицах – опять что-то из далекого детства. Расставленные пальцы рук хирурга, его сочувственные ласковые глаза. Ассистенты надевают ему резиновые желтые перчатки, и вот он уже смазывает все мое хозяйство сначала спиртом – чтобы охладить.
– Дело молодое, – говорит, подмигивая мне, улыбаясь.
А потом – йодом. Это я еще видел, но вот перед лицом опускают кусок простыни. И руки мои привязывают к столу – на всякий случай. Первые уколы, потом действие наркоза – потеря чувствительности там, внизу живота. И вот они уже что-то делают сосредоточенно с моим бесчувственным телом, я полностью в их власти. И во власти Бога, как всегда. Господи, помоги им, вразуми их, а меня прости за то, что я такой трус и дурак, я постараюсь, обязательно постараюсь вести себя лучше, смелее, я научусь пользоваться тем, что Ты мне дал, прости, прости меня, неразумного труса… Позвякивают инструменты, слышны короткие тихие реплики, мое безвольное тело дергается иногда. Но вот, кажется, зашивают.
После всего, когда благополучно привезли обратно в палату и часа через два заморозка стала отходить, было больно, но радость победы уже разгоралась во мне, уже распирала грудь – неужели? Неужели я теперь буду… нормальным? Но когда, наконец, решился пощупать рукой (все ли на месте?), то – о, ужас! – нащупал, кроме привычного и нужного, почти прежней величины бугор в мошонке – тоже привычный, но ведь не нужный, не нужный! И слезы обиды, досады готовы были хлынуть из глаз. Как же это? Неужели не вырезали?! Только утром следующего дня хирург осмотрел, сказал, что все в порядке, что это – послеоперационная опухоль, так и должно быть, она рассосется, все в порядке.
– Через полтора месяца штангой сможешь заниматься, – сказал он с улыбкой, и слезы радости на глаза у меня все-таки навернулись.
Интересно, что это было в год смерти Сталина. Я ко дню похорон уже выписался из больницы, ходил по квартире, но идти на «всенародные похороны» все-таки не решился. Хотя в своем дневнике написал-таки слезный «некролог», который теперь стыдно и странно читать, но который легко объяснить общим гипнозом и тем, что, как уже говорил, слишком был занят своими проблемами, а до социальных размышлений пока еще не дозрел. К тому же в школе-то был отличник и экзамен по Сталинской Конституции, в частности, сдал потом, конечно же, на пятерку.
А в том же году, в апреле, кажется, пришел на занятия по физкультуре – не стесняясь уже переодевать трусы. Так совпало, что физрук затеял игру «в петухов». Тогда сегодняшнее позорное слово не имело теперешнего значения. А просто подбирались пары приблизительно равные по комплекции и, прыгая на одной ноге и подогнув другую, нужно было плечом толкнуть соперника так, чтобы он, теряя равновесие от твоего удара, опустил вторую ногу, чтоб не упасть. А ты чтобы устоял. Когда подошла моя очередь, физрук в соперники мне выбрал Кустова, одного из самых крепких и хорошо сложенных парней класса – уже это вызвало гордость во мне. И вот дана команда, мы, подогнув ногу, наскакиваем друг на друга, сталкиваемся плечами, и… Вот это да! Кустов с грохотом летит на пол, а ребята, наблюдающие за нами, дружно аплодируют. Я даже не сразу понял, что они аплодируют – мне! Ведь я, оказывается, победил с явным преимуществом! Значит – могу?!
На лекции в МГУ
…Но вот мне уже и девятнадцать. Почти никого из тех девушек, что станут, как сейчас принято говорить, моими «фотомоделями», еще нет на свете. Нет на свете моих будущих жен и подавляющего большинства будущих моих любимых женщин. Я – другой человек, не теперешний, я все еще «тот парень». Мог ли представить тогда, что буду фотографировать девушек обнаженными, что научусь их любить так, чтобы и они любили меня, что любимые и любовницы будут вдвое, а то и втрое моложе меня, причем вовсе не купленные, а заслуженные, честно завоеванные и – на равных?! Нет, конечно, не мог. Но рассчитывал на свое «светлое будущее» безусловно. Каким же образом? А просто. Будет оно – и все тут. А как и когда – не знаю. Стойкое ощущение не покидало меня никогда: нужно быть самим собой, не делать – по возможности – глупостей, стараться освобождаться от недостатков, комплексов и – учиться. Учиться и учиться, трудиться и трудиться, а там – будь что будет. Легко, конечно, сказать…
И вот сижу, представьте, на лекции по физике в одной из просторных, светлых аудиторий физфака МГУ на Ленинских горах – лекция известного, заслуженного профессора Сканави. Ноябрь. Вот уже полтора года, как я студент одного из лучших вузов Советского Союза.
Да, как ни странно, окончил школу с Золотой медалью, сдав все экзамены на пятерки, и мы с сестрой решили, что получить высшее образование, конечно, необходимо. Она предложила военную Академию – «По крайней мере будешь всю жизнь обеспечен», – но я решил поступать в университет на физфак, потому что физика нравилась мне, к тому же в последнее время она делала фантастические успехи: ядерная энергия, полупроводники, электроника, автоматика… Чехов был врачом и писателем, а я стану физиком и писателем!
Победно прошел собеседование и стал студентом «одного из престижнейших вузов страны», высотные корпуса которого были сданы только что – с бассейном, с лабораториями, оборудованными новейшими осциллографами, масспектрометрами и еще много чем. На торжественном открытии Главного здания был многолюдный митинг – и столько оживленных, красивых, веселых девушек и парней там было, и так приветливо, радостно светило солнце в тот день, и так «носились в воздухе» надежды на новую, свободную жизнь! После смерти Отца Всех Народов люди опомнились, и многие уже понимали, кем он на самом деле был, но теперь-то, теперь-то все будет совсем по-другому, по-новому…
А в августе – перед началом учебы – я почти целый месяц жил у знакомой старушки в Рогачеве, снимал комнату в деревенской избе, ходил на охоту, на рыбную ловлю – и там, в Медвежьей-Пустыни, была такая великолепная встреча с такой очаровательной девушкой… Она, правда, не закончилась тем, чем могла бы закончиться, но… Представьте себе, хотя я и не мог забыть Аллу – ведь потерял ее, потерял позорно, по своей собственной глупости, по неопытности, по трусости и неразумению уступил другим, более опытным своим одноклассникам… – но все же встреча в Медвежьей-Пустыни чуть-чуть успокоила душу, и, мало ли… Она, та девушка – Рая! – может еще позвонить…
Да, граждане, дорогие мои соотечественники, увы, я все еще девственник. Стыдно в девятнадцать-то лет, но ничего не поделаешь. Настроение – ни к черту. То, что было в том августе – больше года назад, – удалилось, Рая не звонила, а ее телефона у меня нет. Алле как-то задумал писать письмо, написал, переписывал несколько раз, стараясь сделать покрасивее почерк, но так и не отправил. И правильно. По слухам, она тоже учится в институте, я даже знаю, в каком.
Плоховато у меня и со зрением. С трудом вижу, что там пишет на доске профессор, очки носить не люблю – мне кажется, что они мне не идут, а потому я забыл их дома, – и вместо лекции в толстой тетради пишу свой дневник.
Ко всему прочему, вылез у меня внизу новый бугор, точнее – мешок (пять ненавистных букв: г-р-ы-ж-а) – теперь с другой стороны, левой. Не прошло и года после операции справа. Испытания, стало быть, продолжаются…
А еще я один из самых худших студентов в группе по успеваемости – это после того, как в школе привык быть почти всегда первым. Чувствую уже: занимаюсь не своим делом. И повинна в этом не физика вовсе – а просто впечатление такое, что на физику как таковую большинству студентов и преподавателей здесь наплевать: важно а\ не вылететь из университета ни в коем случае, б\ понравиться преподавателям и служащим деканата, особенно инспектору Вере Ивановне, противной прыщавой женщине (почти не сомневаюсь, что она старая дева) – она без конца шастает по коридору в перерывах между лекциями и шпионит, шпионит, проверяет журнал посещений у старосты группы и чуть что «ставит вопрос перед деканатом» об отчислении или, в лучшем случае, «лишении студента стипендии», в\ всячески подчеркивать свою безусловную приверженность политике партии и правительства, г\ ни в коем случае и ни в какой форме не показывать интереса к соученикам противоположного пола, д\ при всем при этом делать вид, что оно, то есть бесполое, послушное существо «студент» есть нормальный, лояльный «строитель Социализма». А если кто не соответствует перечисленным пунктам, то он чуждый, не наш, и ему не место… Странно все-таки – вроде бы и Сталина уже нет, однако…
Что же касается нескольких девиц нашей группы, то их принадлежность к «прекрасному полу» можно определить лишь по одежде, а также по чисто визуальному наличию вторичных половых признаков, которые, впрочем, отнюдь не выдающиеся. А я-то думал, что теперь, после школы… Ведь самые лучшие годы! Увы.
Правда, я записался в секцию плавания – бассейн ведь! Но вот какая штука: плаванье пока что у нас «сухое». Дело в том, что высотное здание сдано, как это у нас принято, в срок, однако же с недоделками, одна из них – бассейн. Мы, конечно, тренируемся – бегаем, прыгаем (не с вышки, разумеется!), делаем упражнения в зале: ложимся на скамеечки и машем руками, словно плывем. А в недостроенный бассейн заглядываем иногда – посмотреть. Точно как в том анекдоте: если мы, психи, будем себя вести хорошо, обещают воду налить…