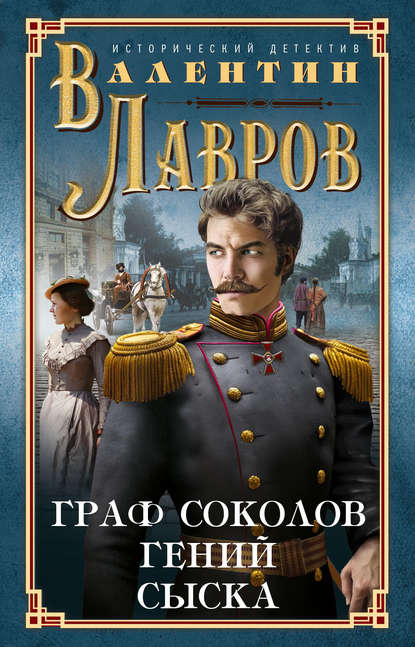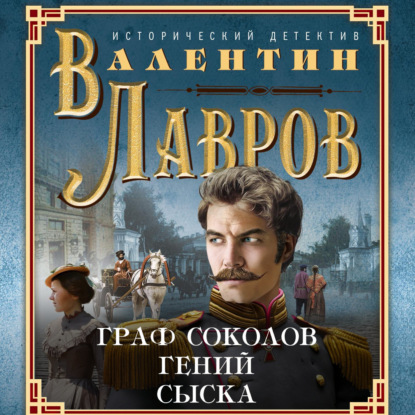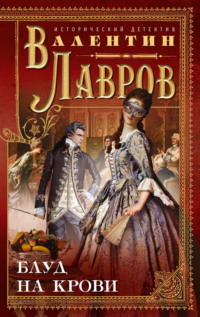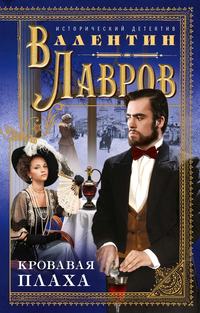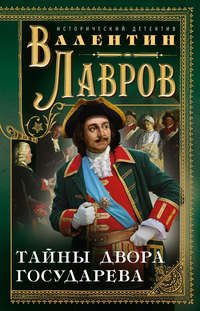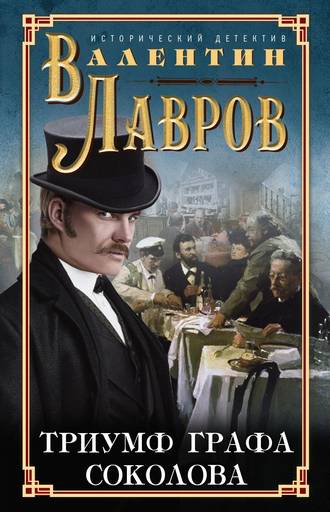
Полная версия
Триумф графа Соколова
– Прямо на цирковой арене? – ехидно улыбнулся Бунин. – Представляю, зрелище вполне гладиаторское! Такого Колизей не видел.
– Но выход был найден гениальный: наш граф облачился в трико и выступал как артист. Полицейские сбились со следу.
– Очень остроумно! Ну а этот дядя-шпион, утонул?
– Ульянов-Ленин, – подсказал Соколов, – выбрался на берег.
– Как же, у Федора Ивановича и этого Ленина есть общий друг – Горький, – заметил Джунковский. – Этот «буревестник» привечает Ленина в Италии и дает на революцию деньги.
– Деньги дает на покушения и на убийства, – уточнил Соколов.
– Столько прекрасных жизней унесли покушения! И убивают самых дельных, самых верных сынов России. – Джунковский помрачнел, с горечью добавил:
– Если Россия погибнет, то причиной тому станут революционеры. Они Россию ненавидят.
Соколов грустно покачал головой:
– Да, ненавидят! Однако во всех бедах Отчизны – нынешних и будущих – виноваты лишь мы сами, наши раздоры. Что далеко ходить, наглядный пример – сегодняшнее совещание. Для многих чинов главное не дело, а собственные амбиции, личные интересы. Иначе жалкую кучку смутьянов можно было бы моментально раздавить.
Челкаша – на трон!
Гарнич-Гарницкий на этот раз выпил водку, отломил ломтик паюсной икры и с аппетитом закусил. После этого произнес:
– В борьбе со смутьянами нельзя полагаться на волю Божью. Надо беспощадно уничтожать революционную заразу уже при ее возникновении. А у нас из Сибири государственные преступники бегут в любое время и по собственному желанию. Наглядный пример – недавний побег Брешко-Брешковской. Разве не так, Владимир Федорович?
Джунковский согласно кивнул:
– Это совершенно ненормальная особа! Она патологически жаждет гонений и страданий, без них она не мыслит свое существование. Первый раз она попала за решетку еще в 1873 году. Особое присутствие Правительствующего сената за разлагающую работу среди крестьян и провоцирования среди них неповиновения лишил Брешковскую всех прав состояния и сослал на каторжные работы. С той поры она бегала несколько раз. А в седьмом году за пропаганду террора и организацию тайных кружков в Саратовской и Черниговской губерниях, а также за попытку поднять на бунт жителей Симбирска ее вновь отправили в Сибирь. Но уже вскоре наши либеральные сенаторы заменили ей каторгу поселением.
– И что же? – Шаляпин со смаком закусывал янтарной семгой.
– Нынешней осенью бежала в сторону Парижа, где главари российской смуты готовили празднование ее семидесятилетия. Чествование позорной и преступной жизни! К счастью, зловредную старуху схватили и вновь отправили этапом в Сибирь. Эти исчадия ада на нас с заговорами и бомбами, а мы им пальчиком грозим: «Ай-ай, так нельзя!»
Гарнич-Гарницкий, пребывавший в мрачном состоянии духа, согласно кивнул и жарко заговорил:
– Да, мы слишком великодушны. В каких-то поганых журнальчиках, которые называются почему-то «сатирическими», печатают всякие непристойные гадости про государя, про императрицу и Григория Распутина, про нашу православную церковь.
– Писакам все сходит с рук, писаки – публика наглая, – добавил Соколов. – Едва государь по своей милости объявил Манифестом от семнадцатого октября пятого года свободу слова, в свет тут же стали выходить пошленькие журнальчики, пропитанные ядом ненависти к России. Больше всего достается тому, кто дал возможность этим бумагомарателям свободно высказываться. Известные художники рисовали в самом непристойном виде государя и его министров. Я подсчитал и ужаснулся. Этой гнусной подрывной продукции выходило почти полторы сотни названий.
– Интеллигенция заражена нигилизмом, уже лет сорок открыто требует «свержения проклятого самодержавия», – заметил Бунин. – Авторитет самодержавия сильно подорван, это очевидно. И все это сделала российская мятущаяся интеллигенция. Но положим, свергнут они царя. А кто сядет на престол?
– Челкаш! – грустно усмехнулся Джунковский. – И он себя тут же окружит таким же ворьем и перережет всю российскую интеллигенцию – цвет нации.
– И в этом будет историческая справедливость – сами того добивались! – Гарнич-Гарницкий вдруг встрепенулся: – Под анчоусы еще не выпивали.
– Какой конфуз! – засмеялся Бунин. – Никакого уважения достойным представителям морских рыбешек. – И вдруг серьезно-печальным тоном: – Газеты почти в каждом номере трубят: «Победоносным шагом двинемся войной на загнивающую Европу!» И никто не хочет думать, что «победоносная» война – это тысячи трупов, миллионы разбитых судеб.
Соколов с грустью покачал головой:
– Горький только недавно вернулся в Россию, но, трепеща от гнева, на каждом углу восклицает: «Если грядет война, то самым страшным проклятием станет русская победа! Дикая Россия навалится стомиллионным самодержавным брюхом на просвещенную Европу!»
– Алексей Максимович, как многие другие интеллигенты, забывает, что благодаря этому «проклятому самодержавию» живет припеваючи, – сказал Джунковский.
Соколов охотно согласился:
– Да, у Горького маниакальная страсть воспевать воров и убийц. Его герой – бездомный босяк. А сам Алексей Максимович раскатывает по лучшим курортам мира, купил дворец в Сорренто, где привечает большевистскую верхушку.
– Зато этого Горького российская интеллигенция только что на руках не таскает, превозносит выше небес, – заметил Бунин. – Он, безусловно, очень талантлив, но талант его какой-то изломанный…
К столу подошел Куприн. Он обнял сзади за плечи Соколова, пробормотал:
– Граф, ты красив и знаменит, а меня дамы любят больше!
– Поздравляем! – рассмеялся Соколов. – И кто очередная жертва твоих чар?
– Имя назвать не могу, это нескромно. Лишь откроюсь, что это знаменитая графиня, юная красавица!
– И она уже лобызала тебя?
Куприн уклончиво отвечал:
– Мы не торопимся к вершине амуровых страстей. Пока графиня приказала накрыть для нас роскошный стол.
– Счастливец!
Куприн поцеловал в щеку Соколова, с чувством воскликнул:
– Я тебя люблю! – и уже обращаясь ко всем: – А жизнь сыщику я спас, это точно. Я отговорил его лететь с Чеховским… – и, малость пошатываясь, отправился восвояси.
Шаляпин с некоторым изумлением и восторгом проговорил:
– Вот настоящий русский человек: и талантлив, и бесшабашен. Ведь сколько раз он летал с Уточкиным!
Градоначальник под облаками
Соколов взглянул на Джунковского:
– Владимир Федорович, а вы ведь тоже летали с Уточкиным. И как там, в небе?
Джунковский сделал руками движение, обозначавшее: этого не понять, это самому испытать надо! Но вслух произнес:
– Во второй половине апреля десятого года в Московском техническом училище открылась выставка по воздухоплаванию. Интерес у нас к воздухоплаванию, сами знаете, громадный. Одновременно с выставкой на скаковом поле Ходынки устраивали пробные полеты бипланов. Публики ходило много, а тут вся Москва собралась: «Ура, сам Уточкин летит!»
Признаюсь, мне давно хотелось в небе побывать. Я прикатил на Ходынку и к Уточкину:
– Сережа, жажду с тобой в небо подняться!
Тот в ответ самым обыденным тоном, словно в трактир к Егорову собрались на блины:
– М-милос-сти п-прошу! З-забир-райтесь сюда. Т-только крепче держитесь.
Биплан Уточкина был системы «Фарман». Весил он тридцать пудов, наибольшая скорость – чуть меньше ста верст. Передовая техника! И вот на глазах тысяч людей ваш губернатор полез на биплан. Восторг оглушительный и всеобщий! Я себя чувствую героем. Что тебе граф Суворов, овладевающий Измаилом! Но уже через минуту иллюзии развеялись: не герой я, а несчастная жертва.
Сотрапезники слушали, боясь дыхнуть, а Шаляпин прямо-таки впился взглядом в рассказчика.
– Уточкин сидит впереди, а мое сиденье оказалось сзади и выше. Взглянул – а там крошечное велосипедное седло. Упора никакого, ноги можно поставить лишь на тонюсенькие поперечные жердочки. С ужасом думаю: «А за что руками держаться?» Оказывается, за такие же ненадежные жердочки. Куриный насест в деревне видели? Так вот он по сравнению с этими жердочками могучая стальная балка. Размышляю: «А что, если на высоте, где мощный встречный ветер, жердочки моего веса не выдержат, в прах развалятся? Что делать, господи? Может, отказаться от этой глупой затеи?» Нет, думаю, срама такого не переживу. Лучше погибну героической смертью.
Уточкин орет, заикается:
«Ф-фуражку с-сымите! В м-мотор попадет, тогда…»
Не договорил он, а мне и так понятно. Заревел за моей спиной мотор, зачихал, сиреневый вонючий дым стелется, а аэроплан затрясся, как умирающий в агонии. И двинулся, двинулся…
Побежал самолет по Ходынскому полю, все больше скорость набирает, по кочкам подпрыгивает, только зубы лязгают. Ощущение дурное, кажется, вот-вот вылечу от толчка на землю. Вдруг – рывок, меня прижало к моей жердочке. И так плавно оторвались от грешной земли, так хорошо на душе стало! Только адски ревет мотор да ветер стремительным потоком норовит сдуть меня. День ясный, солнечный. Поднялись – вся Москва как на ладони! Храм Христа Спасителя золотом куполов блестит. На горизонте голубой лентой Москва-река к Кремлю жмется. Из домов обывателей мирные дымы вверх тянутся. Красота необыкновенная! И понимаю, что все сейчас головы задирают, на нас смотрят. Загляделся, про страх и жердочки вмиг забыл. Спускаться на землю не хотелось – так хорошо в небе.
Обиженный Шаляпин
– Выпьем за отчаянного Владимира Федоровича! – предложил Шаляпин.
– За такого знатного авиатора необходимо выпить! – засмеялся Соколов и обратился к ресторатору:
– Иван Григорьевич, почто голодом нас моришь? Закусок мало.
– Уже на подходе, Аполлинарий Николаевич! Эй, Порфирий, бочоночек с икрой черной сюда ставь, к ракам. Обратите ваше милостивое внимание на салат оливье – пальчики оближете. На горячую закуску рекомендую-с брошет из судака, хороши омары, а устрицы самые наисвежайшие, вот это – форшмак из рябчика…
Шаляпин нетерпеливо дрыгнул ногой:
– Уха из стерлядей будет?
– Непременно-с, двойная, с расстегайчиками! А на рыбу холодную готовим студень «Царский» и аспиг из ершей.
Шаляпин продолжал:
– А нынче поставишь нам «Графа Соколова»?
– Это непременно-с. «Граф» – статья особая. Пользуется повышенным спросом. Подаем вместе с портретом гения сыска.
Джунковский, знаток ресторанных блюд, вопросительно посмотрел на ресторатора:
– Что за блюдо – «Граф Соколов»?
– Извольте знать, это когда стерлядь приготовляется на пару шампанского «Абрау-Дюрсо», а внутри фарш сложный – с лангустинами очищенными или крабами, икрой черной и красной. Это, простите, любимое блюдо Аполлинария Николаича-с. Рецепт его, сам нам подарил.
Шаляпин протянул:
– Да-а, в мою честь еще блюдо нигде не названо. Может, мне в сыщики податься?
Находчивый ресторатор тут же откликнулся:
– Только вам, Федор Иванович, чтоб в сыскном деле с графом Соколовым сравняться, следует стать, как Шаляпин в оперном! А это оченно трудно-с.
За столом улыбнулись.
В это время раздались аплодисменты – на эстраде появился маэстро Андреев. Музыканты, устраиваясь, загремели пюпитрами, задвигали стульями. Дирижер дал знак, все стихло, и вдруг полилась нежнейшая мелодия – «Ох ты, ноченька».
«Благословляю я свободу»
Шаляпин выпил еще шампанского и начал тихонько напевать.
Тем временем лакей подал нарочно для певца приготовленное изысканное блюдо – седло молодого барашка.
Шаляпин с неожиданной печалью произнес:
– Вот поставили мне седло, за которое нам в счет впишут не меньше десяти рубликов. А меня все время упрекают в том, что алчен, деньги, дескать, очень люблю. Даже Горький, капиталы лопатой гребущий, меня в «жадности» упрекает. Когда зовут петь купцы именитые или кто из великих князей, естественно, размер гонорара называю. Цену я себе знаю, бесплатно только птички поют. Но почему я должен по дешевке продаваться, а? Да, деньги я люблю. А как не любить? Я голода, холода и унижений смолоду ох как много натерпелся. И только потому, что сидел без копейки единой. Я-то знаю, как по два дня не евши в Казани и Нижнем ходил… И еще смертельно боюсь: голос потеряю, денег не будет, кто поможет? Никто, господа, бывшей знаменитости не поможет. Вот если только Иван Соколов в своей «Вене» тарелку супа и рюмку водки поставит. – На глазах Шаляпина блеснула слезинка. – Ванюшка, сукин сын, нальешь тарелку супа нищему Федору Шаляпину, а?
– О чем вы, Федор Иванович! – Ресторатор даже побледнел. – Когда хотите, всегда за честь сочту… бесплатно…
– Я ведь с ранних лет в себе силу необыкновенную ощущал, – горячо продолжал Шаляпин. – Начинал в Тифлисе. В тамошней оперетте меня не взяли солистом, поставили в хор. Вдруг – счастье удивительное! Меня приглашают в Мариинку. Для начала дали партию Руслана. Боже мой, как я провалил эту роль! Брр, вспоминать и стыдно, и страшно. С той поры ни разу не пел Руслана – зарок дал. Несколько раз пел Фарлафа, Руслана – ни-ни. В Мариинке после этого провала держали меня на крошечных ролях и мизерном жалованье. Я слушал самых знаменитых солистов и понимал: я ведь могу петь во много раз лучше! Так и пропал бы, если б меня вдруг Мамонтов не заметил. Он и пригласил в свою оперу, в Москву. Тут я запел – люстры мелко дрожали, нервные дамы в обморок от восторга падали.
Шаляпин вдруг расхохотался, поднялся во весь рост, обратился к залу:
– Господа, мы сегодня хорошо гуляем с моим другом графом Соколовым и со товарищи. Пусть этот вечер нам запомнится на всю жизнь. Посвящаю гению сыска, стерлядь имени которого вы сегодня можете заказать за двенадцать с полтиною по карточке и съесть, романс… – Повернулся к Андрееву: – Прошу, Василий Васильевич, «Благословляю вас»!
Зал затих. Полилась чудная мелодия Чайковского. Шаляпин взял негромко, в малую силу, но и в дальних уголках и наверняка на улице было слышно:
Благословляю вас, леса,Долины, нивы, горы, воды!Набирая мощь, свободно и счастливо играя каждым звуком, торжественно взял ноту, и необычной красоты звуки наполняли, казалось, не только это пространство – весь мир:
Благословляю я свободуИ голубые небеса.И посох мой благословляю,И эту бедную суму,И степь от края и до края,И солнца свет, и ночи тьму…Когда стих последний аккорд, зал, очарованный этой красотой, еще долго сидел молча. Все были поражены до столбняка могучей божественной силой, воплощенной в этом человеке.
Потом бурно грянули овации.
И никто не кричал «бис» – в ресторане просить пения великого артиста было бы неприличным: он пришел сюда для отдыха.
За столом вновь закипел разговор. Бунин спросил Джунковского:
– Владимир Федорович, правду пишут газеты, что войны с Германией не миновать?
Тот неопределенно отвечал:
– Трудно говорить с определенностью, однако…
Его перебил Шаляпин, который страстно начал доказывать, что войны не будет.
Соколов обратился к Гарнич-Гарницкому:
– Отчего, сударь, вы нынче столь печальны?
Подметное письмо
Тот после некоторой паузы, задумчиво почесав переносицу, медленно произнес:
– Со мной произошла странная и нехорошая история. Я еще никого в нее не посвящал, вы, Аполлинарий Николаевич, первый. И я очень жду вашей помощи. Но теперь вижу, что ресторан не очень подходящее место для нашей беседы. Позвольте к вам завтра пораньше заглянуть?
– Конечно, Федор Федорович, приходите к девяти. Я буду в первом люксе ждать вас.
– Вот, на всякий случай возьмите это письмо. – И он протянул обычный, сиреневого цвета почтовый конверт.
Соколов удивился: кончики пальцев у этого всегда мужественного человека слегка дрожали.
Гарнич-Гарницкий продолжал:
– Лучше, если оно у вас будет. Сегодня моему камердинеру вручил письмо какой-то мужчина, приметы которого камердинер сообщить не умеет. Дома прочтите, оно напрямую связано с тем, что меня тревожит. Мои враги пошли на хитрость. Чтобы скомпрометировать меня, пишут как бы от лица неведомой мне возлюбленной. Теперь я не уверен ни в одном своем дне. Иду словно над пропастью.
На конверте изящным, немного округлым и каллиграфическим почерком было выведено черными чернилами: «Его высокоблагородию, действительному статскому советнику Ф.Ф. Гарнич-Гарницкому – лично».
Сыщик убрал письмо, произнес:
– Дома прочту, писала явно женская рука.
Раздался рокочущий голос Шаляпина:
– Эй, друзья! Почему не пьем? Не дело! Человек, беги на кухню, спроси: готов «Граф Соколов»? А то сейчас съедим своего, натурального. Ха-ха!
* * *Разъехались незадолго перед закрытием ресторана, в половине третьего.
Следующий день стал у графа весьма хлопотливым.
Шантаж
В «Астории» Соколов принял душ (это он делал два раза в день – после сна и перед сном). Уже вытянулся на широчайшей, но недостаточно длинной постели по диагонали, как вдруг спохватился:
– Ах, письмо!
Он достал чуть смятый конверт, вынул из него обычный лист почтовой бумаги. В левом углу картинка – изящно отпечатанные белые и розовые маргаритки. Мелькнула мысль: маргаритки – смертные цветы, их сажают на могилах. Поднес к носу лист: запах был сложным – табачный смешался с еле заметным нежным – дамских духов, – который показался ему знакомым.
Сыщик улыбнулся, подумал: «Ну совсем как в дешевых книжонках про Ната Пинкертона или пресловутого Шерлока Холмса. Эти выдуманные сыскари по воле их авторов то и дело нюхают вещественные доказательства, словно охотничьи псы».
Расправил письмо, начал читать:
«Милый Теодор!
Все мои дни наполнены только Вами. Вы переменили мою жизнь. Я целую этот лист, ибо знаю, что Ваши руки коснутся его. Нет на свете ничего страшнее, чем любить и знать, что твои чувства никогда разделены не будут. О боже, за что такая мука?!
И все же луч надежды не померк: отдайте этим гнусным людям то, что они требуют. Может, они правы, что это пойдет на пользу нашей России, которую я патриотично люблю?
И тогда они выпустят меня из своих когтей! Я тут же сольюсь в любовной истоме с Вами, о мое дорогое дитя! Ваша душа создана для любви чистой и пылкой. Любовь – это неземное блаженство, которое в полной мере только я смогу дать Вам, ибо никто, кроме меня, не в состоянии оценить превосходные качества Вашей души.
Неужели какой-то пустяк, кучка каких-то жалких бумажек станут непреодолимой преградой между нами? Женское сердце так нежно, что одно неосторожное прикосновение может разбить его, как драгоценную фарфоровую вазу.
Я падаю на колени: Вы, милый ангел, можете растоптать меня, но берегите нашу любовь – она дарована небом!
Вечно Ваша Е.».Соколов перечитал письмо. С удивлением подумал: «Боже, какой изящный слог! Сама Жорж Занд не писала столь возвышенно своему возлюбленному – Альфреду Мюссе».
Он спрятал письмо в ящик письменного стола, помолился на угадывавшийся за окном в непроглядной тьме купол Исаакиевского собора и через минуту погрузился в беспробудный сон.
Легенда
Утром Соколов спал дольше обычного. Разом пробудившись, открыл крышку золотого карманного «Буре». Стрелки показывали начало девятого. По обычаю размявшись гимнастикой, сыщик перешел к силовым упражнениям: приседания, отжимания с полсотни раз – уперевшись руками в пол, а ноги поставив на широкий мраморный подоконник.
Едва принял душ и оделся, в дверь постучали. Это был Гарнич-Гарницкий.
– Завтракать, сударь, желаете? – гостеприимно осведомился Соколов.
Гость махнул рукой:
– У меня аппетит пропал, похудел на шесть фунтов. Если только чашку крепкого чая…
Лакей принес в люкс из ресторана легкий завтрак и самовар. Соколов, поглощая омлет из дюжины яиц с ветчиной, участливо спросил:
– И что вас тревожит, Федор Федорович?
– Нынешней осенью, в самом конце ноября, я в поздний час возвращался с какого-то приема. Хотелось прогуляться. Я отпустил извозчика, а сам не спеша двинулся вдоль Малой Невки. Кругом ни души. Вдруг слышу торопливые шаги. Оглянулся – меня какая-то долговязая фигура, одетая в ватерпруф, догоняет. Еще на подходе, шагов за десять, фигура вежливо приподымает шляпу:
«Простите за беспокойство. Если не ошибаюсь, вас зовут Гарнич-Гарницкий?»
Лица в темноте не разглядеть. Я удивления не показываю, спокойно отвечаю:
«Чем, сударь, могу быть вам полезным?»
«О да, вы можете быть полезным. Наш разговор совсем конфиденциальный. Я прошу вас не волноваться. Пока вы в полной безопасности». – Слова вежливые, а тон угрожающий.
Чувствую, добра ждать от этой встречи не приходится. Требовательно произношу:
«Для начала, сударь, представьтесь!»
«Можете меня называть Александром Степановичем».
Я заметил: при некоторых звуках у этого типа словно просвист выскакивает. И акцент небольшой. Спрашиваю:
«Вы немец?»
«Это не главное. Наш разговор полезен для вас и для России. Вы ведь любите Россию?»
«Продолжайте!»
«Скажите, вы желаете хорошего для России? В этом случае вы обязаны помочь нам. В противном случае вас ждут очень большие неприятности».
Одним словом, после некоторых угроз, в том числе… – Гарнич-Гарницкий малость замялся. – Ну, в общем, этот тип потребовал, чтобы я передал ему полный набор военных карт. Это значит выдать секретнейшие сведения: дислокацию войск, инженерные сооружения, коммуникации. В случае отказа, заявил тип, меня и мою семью «ликвидируют в назидание другим».
Соколов перестал пить чай, вопросительно поднял бровь:
– И что было дальше?
– Этот господин стал убеждать меня, что все «порядочные» люди так и мечтают изменить Родине: «Многие дальновидные русские полезно сотрудничают с нами.
Ваш приятель-сыщик Соколов столкнулся с одним из них. И еле ноги унес». – «Вы имеете в виду Ульянова-Ленина?» – «Его самого!» – «Жаль, что Соколов не утопил его, а только искупал в реке». – «Утопить Ленина – на его место нашлось бы много других. Вы, к примеру». – «Нет, любезный, как вас там…» – «Александр Степанович!» – «Так вот, Александр Степанович, только отпетый негодяй может сотрудничать с нашими врагами. А для меня Россия – не пустой звук. Так что я не поддамся на ваши угрозы. И вообще советую ко мне с подобными гнусными предложениями впредь не соваться».
Гарнич-Гарницкий подошел к высокому окну, долго смотрел на засыпанные снегом мостовые, на покрытые снегом деревья, на золотившийся в морозном мареве купол Исаакия. Он долго молчал. Наконец продолжил:
– Казалось бы, чего проще разоблачить эти козни! При передаче карт схватить вражеского агента, допросить и устроить крупный международный скандал. Рулон с картами я должен тщательно упаковать в непромокаемую клеенку. Затем выждать ненастный день, когда хороший хозяин собак на улицу не выпускает, и в темное время суток швырнуть секретные карты за ограду германского посольства по Морской, сорок один.
Соколов глядел на собеседника чуть иронично.
– Сделать послу Фридриху Пурталесу бесценный подарок? Ну и приключение! А сколько было обещано заплатить?
– Тридцать тысяч рублей.
– Щедро! И все, конечно, фальшивые?
– Я этого не знаю.
– А способ передачи денег?
– Я даже не стал спрашивать. Я ведь не собираюсь их получать. Может, мне домой принесли бы. При первой встрече я хотя и не имел при себе оружия, но хотел схватить этого типа.
– Однако он оказался не дураком?
– Да, эти люди все продумали. Тип вытащил револьвер, упер мне в спину и приказал: «Идите вперед и не оглядываться! Если подымете шум, тут же пристрелю. Вперед, до конца улицы!» Я двинулся в указанном направлении. Шагов через двадцать оглянулся – типа нигде не было видно.
Соколов незаметно и с наслаждением потянулся в кресле. Спросил:
– И что же дальше?
– Я сказал типу, что подумаю. Сначала хотел направиться в отдел контрразведки. Но потом решил, что эта история может на меня бросить тень. Я решил, что, когда ко мне вновь подойдет этот тип, обязательно его арестую. Или застрелю. Вот видите. – Он подошел к вешалке, влез в карман своей шубы и достал револьвер. – С той поры хожу вооруженным.
Разоблачение
Зоркий Соколов сразу разглядел: карманная модель 1909 года системы «Смит-и-Вессон», так называемый «усовершенствованный», ствол шести дюймов.
Соколов уставился своим знаменитым буравящим взглядом в приятеля. Тот заерзал, завертелся. Нервно спросил:
– Что вы меня гипнотизируете?
– А вы разве не догадываетесь?
– Я вам все по-дружески рассказал, а вы словно не верите мне. Странно, право.
Соколов вскочил с кресла, побегал вперед-назад по ковру, словно не зная, куда девать избыток энергии. Остановился против Гарнич-Гарницкого, вонзил в него немигающий взгляд, укоризненно покачал головой:
– Ну, братец, странно, очень странно!