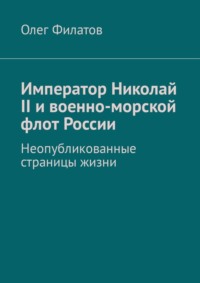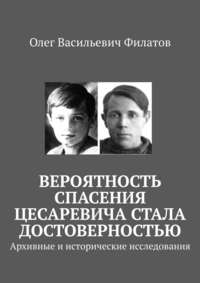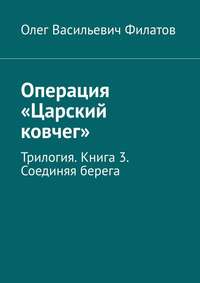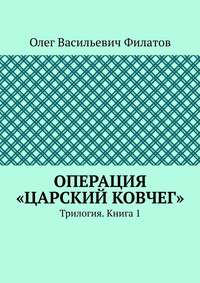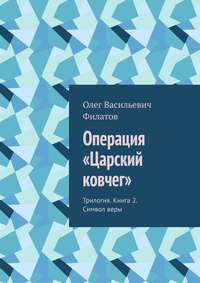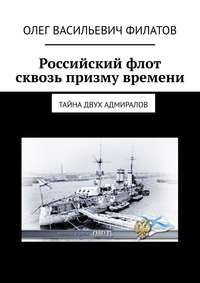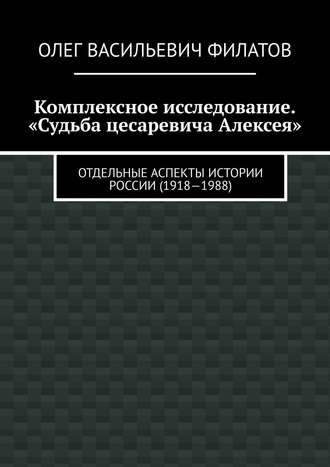
Полная версия
Комплексное исследование. «Судьба цесаревича Алексея». Отдельные аспекты истории России (1918—1988)
Спрашивается, что этому помешало?
Ко всему вышесказанному необходимо добавить, что среди охраны, которая сопровождала Царскую Семью были люди, которые готовы были в случае попытки побега оказать помощь. Сама Царская Семья вела такую работу постоянно, тем более что она не была изолирована от них. В беседах со стрелками Император и его дети, проводили много времени. Об этом пишет в своих дневниках Император. Так при переезде из Тобольска в Омск Великая Княжна Мария Николаевна постоянно общалась с охраной. Филатов В. К. рассказал автору о том, что именно во время переезда из г. Тобольска в г. Омск, в г. Тюмени и была достигнута договорённость между охраной и Семьёй о помощи, в случае если Семье будет угрожать опасность. Часть охраны в г. Тюмень была заменена. Именно эти солдаты и остались в г. Тюмени. Затем они прибыли в г. Екатеринбург и вновь попали в охрану царя и последовали с ним далее.
Для более наглядной иллюстрации приведём выдержки из записей Императора. 15 апреля 1918 года Император записал:
«…15 апреля. Воскресенье.
Все выспались основательно. По названиям станций догадались, что едем по направлению на Омск. Начали догадываться: куда нас довезут после Омска? На Москву или на Владивосток? Комиссары, конечно, ничего не говорили. Мария часто заходила к стрелкам – их отделение было в конце вагона, тут помещалось четверо, остальные в соседнем вагоне. (Какая же это изоляция арестованных!). Обедали на остановке на ст. Вагай в 11 час. очень вкусно. На станциях завешивали окна, т. к. по случаю праздника народу было много. После холодной закуски с чаем легли спать рано.
16 апреля. Понедельник.
Утром заметили, что едем обратно. Оказалось, что в Омске нас не захотели пропустить! Зато нам было свободнее, даже гуляли два раза, первый раз вдоль поезда, а второй – довольно далеко в поле вместе с самим Яковлевым. Все находились в бодром настроении. (Так долго гуляли вместе враги? Что это? О чём они говорили, что обсуждали?)
17 апреля. Вторник.
Тоже чудный теплый день. В 8.40 прибыли в Екатеринбург. Часа три стояли у одной станции. Происходило сильное брожение между здешними и нашими комиссарами. В конце концов, одолели первые, и поезд перешел к другой – товарной станции. После полуторачасового стояния вышли из поезда. Яковлев передал нас здешнему областному комиссару, с кот. мы втроем сели в мотор и поехали пустынными улицами в приготовленный для нас дом – Ипатьева. Мало-помалу подъехали наши и также вещи, но Валю не впустили. Дом хороший, чистый. Нам были отведены четыре большие комнаты: спальня угловая, уборная, рядом столовая с окнами в садик и с видом на низменную часть города, и, наконец, просторная зала с аркою без дверей. Долго не могли раскладывать своих вещей, так как комиссар, комендант и караульный офицер все не успевали приступить к осмотру сундуков. А осмотр потом был подобный таможенному, такой строгий, вплоть до последнего пузырька походной аптечки Аликс. Это меня взорвало, и я резко высказал свое мнение комиссару. К 9 час., наконец, устроились. Обедали в 4 1/2 из гостиницы, а после приборки закусили с чаем. Разместились след. образом: Аликс, Мария и я втроем в спальне, уборная общая, в столовой – Н. Демидова, в зале – Боткин, Чемодуров и Седнев. Около подъезда комната кар. Офицера. Караул помещал в двух комнатах около столовой. Чтобы идти в ванную и WC, нужно было проходить мимо часового у дверей кар. помещения. Вокруг построен очень высокий досчатый забор, в двух саженях от окон стояла цепь часовых, в садике тоже. ся
18 апреля. Среда.
Выспались великолепно. Пили чай в 9 час. Аликс осталась лежать, чтобы отдохнуть от всего перенесённого. По случаю 1 мая слышали музыку какого-то шествия. В садик сегодня выйти не позволили! Хотелось вымыться в отличной ванне, но водопровод не действовал, а воду в бочке не могли привезти. Это скучно, т.к. чувство чистоплотности у меня страдало. Погода стояла чудная, солнце светило ярко, было 15 в тени, дышал воздухом в открытую форточку. о
19 апреля. Четверток Великий.
День простоял отличный, ветреный, пыль носилась по всему городу, солнце жгло в окна. Утром читал книгу Аликс «la sagesse et la destine’e Maeterlinck. Позже продолжал чтение Библии. Завтрак принесли поздно – в 2 часа. Затем все мы, кроме Аликс, воспользовались разрешением выйти в садик на часок. Погода сделалась прохладнее, даже было несколько капель дождя. Хорошо было подышать воздухом. При звуке колоколов грустно становилось при мысли, что теперь «Страстная» и мы лишены возможности быть на этих чудных службах и, кроме того, даже не можем поститься! До чая имел радость основательно вымыться в ванне. Ужинали в 9 час. Вечером все мы, жильцы четырех комнат, собрались в зале, где Боткин и я прочли по очереди 12 Евангелий, после чего легли.
20 апреля. Пяток Великий.
За ночь стало гораздо холоднее; вместо дождя перепадал изредка снег, но стаивал сейчас же. Солнце показывалось по временам. Двое суток почему – то наш караул не сменялся. Теперь его помещение устроено в нижнем этаже, что для нас, безусловно, удобнее – не приходится проходить перед всеми в WC или в ванную и больше не будет пахнуть махоркой в столовой.
Обед очень запоздал из-за предпраздничного наплыва в город жизненных припасов; сели за него в 3 1/2 ч. Потом погулял с Марией и Боткиным полчаса. Чай пили в 6 час. По утрам и вечерам, как все эти дни здесь, читал соответствующие Св. Евангелия вслух в спальне. По неясным намекам нас окружающих, можно понять, что бедный Валя не на свободе и что над ним будет произведено следствие, после которого он будет освобожден. И никакой возможности войти с ним в какое-либо сношение, как Боткин ни старался. Отлично поужинали в 91/2 час.
21 апреля. Великая Суббота.
Проснулись довольно поздно; день был серый, холодный, со снежными шквалами. Все утро читал вслух, писал по несколько строчек в письма дочерям от Аликс и Марии и рисовал план этого дома. Обедали в час с 1/2. Погуляли 20 минут. По просьбе Боткина, к нам впустили священника и дьякона в 8 час. Они отслужили заутреню скоро и хорошо; большое было утешение помолиться хоть в такой обстановке и услышать «Христос воскресе». Украинцев, помощник коменданта, и солдаты караула присутствовали. После службы поужинали и легли рано.
Светлое 22 апреля. Христово Воскресение.
Весь вечер и часть ночи слышен был треск фейерверка, кот. пускали в разных частях города. Днем стоял мороз около 3°, и погода была серая. Утром похристосовались между собою и за чаем ели кулич и красные яйца, пасхи не могли достать*. Обедали и ужинали в свое время. Гуляли полчаса. Вечером долго беседовали с Украинцевым у Боткина. (Враги, заключенные долго беседуют с пом. коменданта).
23 апреля. Понедельник.
Встали поздно морозным серым утром. Второй раз взаперти провели именины дорогой Аликс, но этот раз не всей семьей. Узнали от коменданта, что Алексей уже выходил на воздух пять дней тому назад – слава Богу! Гуляли и при солнце и при крупе. Мороз держался около 3 – 4°. Перед обедом хотели затопить камин в столовой, но повалил такой дым, что пришлось загасить огонь, а в комнатах стало прохладно.
24 апреля. Вторник.
День простоял лучше и немного теплее. Сегодня довольствие получили из собрания, но какого, не знаю? И обед и ужин опоздали на час. Гуляли подольше, т. к. было солнце. Авдеев, комендант, вынул план дома, сделанный мною для детей третьего дня на письме, и взял его себе, сказав, что этого нельзя посылать! Вечером выкупался в ванне. Поиграл с Аликс в безик.
25 апреля. Среда.
Встали к 9 час. Погода была немного теплее – до 5°+. Сегодня заступил караул, оригинальный и по свойству, и по одежде. В составе его было несколько бывших офицеров, и большинство солдат были латыши, одетые в разные куртки, со всевозможными головными уборами. Офицеры стояли на часах с шашками при себе и с винтовками. Когда мы вышли гулять, все свободные солдаты тоже пришли в садик смотреть на нас; они разговаривали по-своему, ходили и возились между собой. До обеда я долго говорил с бывшим офицером, уроженцем Забайкалья; он рассказывал о многом интересном, также и маленький кар. начальник, стоявший тут же; этот был родом из Риги. Украинцев принес нам первую телеграмму от Ольги перед ужином. Благодаря всему этому в доме почувствовалось некоторое оживление. Кроме того, из дежур. комнаты раздавались звуки пения и игры на рояле, кот. были на днях перетащен туда из нашей залы. Еда была отличная и обильная, – и поспевала вовремя. (Беседы с офицерами. Игра на рояле и т. д. Странный режим.).
26 апреля. Четверг.
Сегодня около нас, т. е. в деж. комнате и в карауле, происходило с утра какое-то большое беспокойство, все время звонил телефон. Украинцев отсутствовал весь день, хотя был дежурный. Что такое случилось, нам, конечно, не сказали; может быть, прибытие сюда какого-нибудь отряда привело здешних в смущение! Но настроение караульных было веселое и очень предупредительное. Вместо Украинцева сидел мой враг – «лупоглазый», кот. должен был выйти гулять с нами. Он все время молчал, т. к. с ним никто не говорил. Вечером, во время безика, он привел другого типа, обошел с ним комнаты и уехал… ».
Автор отмечает, что, очевидно, сам «Дневник» Императора, может стать объектом отдельного исследования. Почему? Дело в том, что, краткий стилистический анализ данного текста из «Дневника» Императора, показывает, что та часть информации, которая относится к оценке обстановки, в которой находилась Семья, излагается в разном времени. Обратимся к записи за 17 апреля, например. Император пишет: «Разместились след. образом: Аликс, Мария и я втроем в спальне, уборная общая, в столовой – Н. Демидова, в зале – Боткин, Чемодуров и Седнев. Около подъезда комната кар. (это часть текста в настоящем времени). Караул помещал в двух комнатах около столовой…». Почему в прошедшем времени? «… Чтобы идти в ванную и WC, нужно было проходить мимо часового у дверей кар. помещения». Также в прошедшем времени. А за 20 апреля запись сделана Императором в настоящем времени, например: «Теперь его помещение устроено в нижнем этаже, что для нас, безусловно, удобнее – не приходится проходить перед всеми в WC или в ванную и больше не будет пахнуть махоркой в столовой». ся
Единственный свидетель следователя Н. А. Соколова. – П. Медведев.
Следователь Соколов Н. А. ознакомил свидетеля, (то есть гражданина Проскурякова, с которым до этого уже месяц «работали» в тюрьме, и он стал давать развёрнутые показания) с утверждением Медведева, о том, что он Медведев не расстреливал членов Царской Семьи в подвале Дома Ипатьева, а красноармеец Проскуряков высказал об этом свое мнение, мол, Медведев солгал следователю.
Совершенно ясно, что доказательственной ценности, подсказанные таким способом показания, не имеют .
Результаты изучения протоколов допросов граждан в период 18 – 20 гг., позволили прийти к мнению, что трупов царской семьи в то время не было обнаружено.
Белая разведка в основном через местных жителей интересовалась передвижением войсковых соединений. А лица причастные к расследованию дела об исчезновении царской семьи, придерживалась разноречивых позиций. Одни искали тела убитых, другие либо ничего не искали, а просто допрашивали граждан, либо оставались при своём мнении»1 августа 1918 года и. д. Судебного Следователя Наметкин М. А. допрашивал гражданку Лобанову Евдокию Тимофеевну. Евдокия Лобанова 19 июля 1918 года пыталась проехать из города на дачу в дер. Коптяки, в 18 – 20 верстах от Екатеринбурга. .
Красноармейцы, стоявшие впереди в нескольких саженях с грузовиком – автомобилем, не пропускали никого. Они вернулись к будке и стали обсуждать, что делать. Утром она и её компаньон доехали до деревни Коптяки. Из показаний Е. Лобановой можно сделать вывод, что в этом районе были выставлены кордоны и людей не пускали, а красноармейцы разъезжали на лошадях и автомобилях. Вечером кордоны сняли и её пропустили.
О какой-либо секретности здесь речь идти не может, если военные или лица, выдававшие себя за таковых, пили с ней чай, и получается так, что им и в голову не пришло удалять людей с переезда, то есть свидетелей передвижения военных в этом районе. Евдокия, зная, что на переезде стоит оцепление и никого не пропускает, озаботилась через своего бывшего мужа, чтобы её сопровождал человек с пропуском. Раз так, то получается, что поехала она туда как раз для того, чтобы посмотреть, что же там происходит. Затем она приезжает на дачу в сел. Коптяки где находится поручик Шереметевский А. А., который, как мы увидим далее из его собственных показаний, сам интересовался обстановкой в этом районе. 3 августа следователь допрашивает поручика Андрея Андреевича Шереметевского. Шереметевский А. А. жил в дер. Коптяках на даче, куда ехала Лобанова Е. Т., находящейся на берегу Исетского озера, в 18-ти верстах от гор. Екатеринбурга. Шереметевский А. А. получил информацию о продвижении войск, и решил провести разведку той местности, где по слухам были войска, то есть «Четыре брата». Место было расположено в 4-х верстах от деревни в сторону от тракта. Из этих показаний следует, что поручик Шереметевский А. А. находясь в дер. Коптяки наблюдал за передвижением войск, опираясь на помощь местных жителей, и не исключено, что он и был там оставлен для этого. Собранные сведения он передавал белому командованию. В тексте протокола допроса поручик вначале говорит о том, что имеет отношение к разведке, и только потом об обнаружении вещей у крестьянина, которые он потом отдал властям. Однако речи о принадлежности вещей в этом протоколе не ведётся, а тем более о том, что они принадлежали царской семьеПосле этого следователь в этот же день допрашивает крестьянина Михаила Дмитриевича Алферова. Из протокола допроса гражданина Алфёрова М. М., 4 планшетки от корсетов, пряжки от подтяжек и туфлей следователь мог узнать, что он вместе с друзьями обследовал местность, где были по их предположению красноармейцы и обнаружили там крест с зелеными камнями, пуговицы, кнопки и 4 бусины. Далее он сообщил следователю Намёткину, что они обследовали шахту и ничего там не нашли. Следующим был допрошен Бабинов Михаил Игнатьевич. Бабинов житель дер. Коптяки. На основе материалов его допроса следователь смог получить подтверждение той информации, которую он получил от других свидетелей о том, что жители исследовали заброшенные шахты после снятия караулов. Но снарядов, там не обнаружили . .
Интересен следующий протокол допроса, гражданки Евдокии Семёновой Межиной из Шадринского уезда, оформленный начальником уголовного розыска Плешковым 30 сентября 1918 года. Евдокия работала на фабрике Злоказова и знала многих из охраны дома особого назначения, но ничего о судьбе царской семьи не сообщила. Однако Евдокия ничего не сообщила о тех лицах в охране, которые, как и она были родом из Шад- ринского уезда, такие как Шулин Иван. Они были знакомы друг с другом. Она сообщила, что за воровство их (охранников) отправили на фронт.
данные показания говорят нам о том, что в этом районе находились красноармейцы. Но трупов царской семьи там никто не обнаружил. Это показания простых людей, которые вовсе не разбирались в тонкостях военных операций. Никто из красных этих людей не арестовывал за нарушение секретности, а также за то, что они видели передвижение войск и за то, что находились непосредственно в этом районе. Из представления товарища (так именовали в то время помощника) прокурора Н. Н. Магницкого мы узнаём, что на Коптяковской дороге, в это время в течение двух недель шли бои, и это не стыкуется никак с тем, что мы до сих пор знали о событиях, описанных в различных источниках. Обращает на себя внимание тот факт, что время от времени, в протоколах допросов свидетелей у различных следователей, представлявших белое следствие, мы натыкаемся на имена граждан родом из г. Шадринска. Как-будто рядом с г. Екатеринбургом не было других городов, жители которых не находились в то время в зоне боевых действий. Общий вывод:
– Группа показаний, указывающая на отсутствие каких-либо останков царской семьи под помостом, сооруженным в районе Ганиной ямы, у села Коптяки, вблизи Екатеринбурга.
Деятельность Н. А. Соколова говорит о том, что под г. Екатеринбургом он не обнаружил ничего. Самое информативным по своему содержанию является представление товарища прокурора Н. Н. Магницкого. Именно оно объясняет, что шпал или брёвен у Ганиной ямы или в самой яме, не было обнаружено при захвате города. А значит, никакого захоронения там не было. Оно появилось позже. Вопрос когда? В те годы или в 30 – 40-е? Как сложилась судьба товарища прокурора Магницкого Н. Н. неизвестно, во всяком случае, следователь Соколов ни словом не обмолвился об этом в своей книге. (Показания товарища Прокурора Екатеринбургского Окружного Суда Н. Н. Магницкого)Читая представление товарища прокурора Магницкого Н. Н., обращаешь внимание на то, что в нем отсутствуют даты. Например, он пишет, что приехал на место предполагаемого сокрытия трупов спустя две недели. Какого числа? Какого месяца, и какого года, прокурор не указал? Почему? Перед поездкой началось наступление большевистских войск на Екатеринбург. Какого числа не указано? .
Места, где шли работы, находились в зоне боев. Когда ликвидировали наступление, работы продолжились. Какого числа оно было ликвидировано, прокурор опять не указывает. Возникает вопрос: почему бои шли именно в той зоне? На этот вопрос также нет ответа. Итог работы поисковых групп доказал, что никаких шпал там не было обнаружено и соответственно тел. Таким образом, шпалы и захоронение, о котором так много говорили, появилось позже. Такой вывод напрашивается после прочтения данного документа.
– Наличие сведений о Филатове в семье Романовых, то есть в дневниках Великой княжны Татьяны Николаевны Романовой.
Известно, что в США в Принстонском университете преподавал Чеботарёв Григорий Порфирьевич (1899 г. р.) с 1937 г. по 1970 г., по профессии инженер-строитель, матери которого писала дочь Николая II Татьяна Николаевна Романова, из Тобольска 9 декабря 1917 г. В письме она справлялась о здоровье Филатова, а уже прошло 6 месяцев как они не живут в Царском Селе. Так вот Чеботарев написал книгу «Моя любимая Россия» (издана в США). Интересно было бы узнать, что это за Филатов, о котором писала Татьяна матери Г. П. Чеботарева. Валентина Ивановна Чеботарева (в девичестве Дубятская) была замужем за генерал-майором Чеботаревым Порфирием Григорьевичем. Дочь генерал-майора Чеботарева П. Г. замужем за Edward С. BIIL (с 1941 г.) лектор русской литературы и языка Принстонского университета США (с 1948 г.). Я думаю, что это был Ксенофонт Филатов – приемный отец Филатова Василия Ксенофонтовича, который служил в армии, или его родной брат Андрей, который был отправлен на 6 месяцев с фронта на поправку здоровья в 1915 г., а потом лечился в 3-м лазарете в Царском Селе.
(Оть Вел. Кнж. Татьяны Николаевны В. И. Чеботаревой +).
Письмо на 4 страницахъ, 18 – 14.
Тобольск Бывший Губернаторски д. 9-го Декабря 1917.
«Дорогая моя Валентина Ивановна, получили ли Вы мое письмо отъ 29-го? Будьте добры, передать это письмо нашему Князю (Э. А. Эристову). Вамъ теперь наверно скучно безъ Л. Ф. (Красновой)? Но за то хорошо, что они (Красновы) вместе. Жаль беднаго Филатова, что онъ такъ долго не можеть поправиться. Ведь онъ еще при насъ лежалъ. Неужели все та же рана безпокоитъ или что-нибудь другое? А Баронъ (Д. Ф. Таубе) нашъ какъ и Купычъ?…
…Ну, всего хорошаго милая голубушка Валентина Ивановна. Христос съ Вами. Если кто захочеть намъ писать – пусть пишутъ прямо. Целую Васъ крепко какъ люблю. Алюшу (В. П. Чеботареву) тоже и О. П. (Грекову). Всего хорошаго. Ваша Татьяна».
о том, что он сообщил следователю список людей, которых оставили в разных местах для проживания и помощи царской семье. «…Возвращаясь к моменту отъезда В. Княжен и б. Наследника из Тобольска, должен сказать, что с ними поехали все оставшиеся по отъезде Государя и Государыни лица: генерал И. М. Татищев, графиня Гендрикова, баронесса Буксгевден, Т. Шнейдер, Мистер Гиббс и я; служители: Кокичев, Журовский, Кирпичников /ныне живут в Тобольске/, Сергей Иванов /Тюмень, Водопроводная) д. Гусева/, А. Н. Дмитриев и Тютин /Тобольск/, Терехов /Томск/, Смирнов /Тюмень, водопров.) д. Гусева/, Пюрковский /Томск/, А. А. Теглева и Близ. Ник. Эсберг / Тюмень, Тобольская, д. №4/, М. Г. Тутельберг /Камышлов/; кроме этих служителей были: Нагорнов) Волков, Трупп и мальчик Седнев /судьба коих мне достоверно неизвестна/ и личная прислуга: гр. Гендриковой – Н. Г. Межева и ma belle Шнейдер – горничная Катя и Маша, по фамилии мне неизвестные. С нами же поехал и доктор В. Н. Деревенко, приехавший в Тобольск, приблизительно, в начале сентября 1917 года. Когда на пароходе мы приехали в Тюмень, то в поданном для нас составе поезда оказались вагоны IV класса и один багажный.». Пьер Жильяр описывает отношения внутри семьи, о том, как родители обучали детей в г. Тобольске и о том, что Цесаревич совсем не знает немецкого языка, а его сестры знают его слабо. Здесь следует подчеркнуть, что Пьер Жильяр, если это был он, не мог не знать, что Наследник изучал немецкий язык с самого раннего детства. В ГАРФЕ РФ имеются его рабочие тетради с оценками, которые ему выставлялись на каждом уроке. В табеле об успеваемости Наследника за этот год по немецкому языку выставлены одни пятёрки и четверки Из протокола допроса следователем Сергеевым гувернера Наследника Алексея Николаевича Романова швейцарского подданного Пьера Жильяра .
Это относится к 1913 году. Именно в этот год П. Жильяр и приступил к выполнению своих обязанностей при дворе Императора в качестве гувернёра Наследника Цесаревича Алексея. Получается, что П. Жильяр скрывал правду от следователя или в протокол П. Жильяра была внесена правка. Кем и зачем? Затем он переходит к описанию отношения царской четы к Брестскому миру. Как мы знаем, оно было негативное. О подготовке к спасению семьи он узнавал по слухам. Он подчеркнул, что граф Бенкендорф прорабатывал вопрос о вывозе семьи в Японию, а о том, что якобы большевики вывезли семью в другое место, он ничего не знал. В показаниях П. Жильяра, где он комментирует подготовку к переезду, он говорит о решении Семьи взять драгоценности с собой. А далее: «…Фамильные драгоценности как-то: ожерелья, цепи, броши, серьги, браслеты и т.п., привезенные из Царского села в Тобольск, было решено взять с собой, так как из содержания некоторых писем Государыни можно было сделать заключение, что она этого желает». Это примечание приводит к выводу о том, что П. Жильяр знакомился с письмами Императрицы. Но это могло произойти только после их публикации в прессе. В самом деле, не могла же Императрица свои письма отдавать на прочтение гувернёру сына и только потом посылать их почтой. Или П. Жильяр доставлял их из одного города в другой, или это был не П. Жильяр, или это было в совсем другое время и в другом месте, или сам он не помнил ничего, или писал под диктовку в контрразведке белых. И четвёртое, П. Жильяр отвечая следователю на его очередной вопрос о найденном пальце в лесу, поясняет, что он не в состоянии определить, кому он принадлежит и, что более по делу он ничего сообщить не может. Из вышесказанного следует, что П. Жильяру было, что скрывать от белого следствия. Он ведь ничего не сказал следователю о своих контактах с бывшим премьер-министром России князем Львовым, который, как и он проживал в тоже время в городе Тюмени. Совершенно ясно, что П. Жильяр, должен был войти в контакт с князем Львовым и другими известными ему лицами, иначе теряется смысл его пребывания в России до 1920 года. .
читателю будет интересно узнать, кто же на самом деле владел этим домом и как он назывался в то время. А назывался он также и именем Поппель Евгении Фёдоровны. Первым, согласно протокольным записям в августе 1918 года, этот дом осмотрел судебный следователь по важнейшим делам Екатеринбургского окружного суда М. А. Наметкин. Н. Н. Ипатьев на допросе у Сергеева рассказал, что купил в том году дом у купца М. Г. Шаравьева, освободив его для временного содержания царской семьи и уехал, попросив свою родственницу Евгению Федоровну Попель известить его о возможности возвратиться из с. Курьинского в город Из протокола допроса инженер-капитана Ипатьева Н. Н. .
1918 года, 30 ноября, в городе Екатеринбурге членом Екатеринбургского Окружного Суда И. А. Сергеевым был допрошен Николай Николаевич Ипатьева, 50- лет, капитан инженерных войск в отставке, православный, не судимый, проживавшего в городе Екатеринбурге, по Вознесенскому проспекту, в собственном доме, купленном им в 1918 году у Г. Шаравьева.
По прочтении протокола невольно задаёшься вопросами:
Спрашивается, являлся ли на самом деле гражданин Шаравьев владельцем дома, у которого капитан-инженер Ипатьев покупает дом своей родственницы, которая в свою очередь и является действительным владельцем этого дома? Где проживал этот гражданин? О нём никаких данных нет?