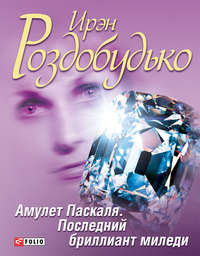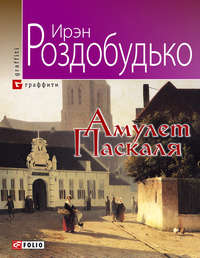Полная версия
Сделай это нежно

Роздобудько
Сделай это нежно
© И. В. Роздобудько, 2013
© Издательство «Фолио», марка серии, 2004
Странные взрослые
Одни сутки из жизни Лии N.
Лия спала плохо. Точнее – плохо засыпала.
Ведь из кухни до нее доносились голоса мамы и бабушки. И то, что она услышала, заставило ее затрепетать всем своим семилетним тельцем, скорее похожим на невесомое тельце птицы.
– Завтра оставим их одних, – говорила бабушка, – это будет хороший воспитательный момент. Я поеду к сестре. Ты можешь навестить родителей.
Слово бабушки всегда было законом.
– А это не слишком долго – на сутки? – услышала Лия неуверенный голос матери. – А вдруг – что-нибудь?..
– Ну что – «что-нибудь»? – Лия даже представила, как бабушка вскинула брови. – Никаких «что-нибудь»! Ответственность за ребенка выше всяких что-нибудь! Вот увидишь.
Потом они стали говорить о том, что́ приготовить на завтрашнее утро – плов или жареную картошку. Но Лия уже знала – самое главное решено и обсуждению не подлежит.
И поэтому ей надо собрать все свое мужество и всю хитрость, чтобы ни единым движением не выдать свое раздражение, свое отчаяние, свое сопротивление, а главное – страх.
Она же – ребенок! А у ребенка, как известно, не может быть никаких подобных чувств. Ребенок – это веселый щенок, прыгающий вверх за конфеткой, это – двадцать (или больше) килограммов радости, это миллион забавных «почему», которые так смешат взрослых! Это – милая картавость, зеленка на сбитых коленях, вечные «купи» и «хочу». Это мгновенные слезы, которые высыхают, как только в руке оказывается мороженое. Это – «ложка – за маму, ложка – за папу!»…
О! На этом фоне Лии трудно объяснить (ведь она еще не достаточно хорошо владеет искусством речи, чтобы уметь выразить мысли), что ей очень много лет и она пытается вести себя так, как ее ровесники, только потому, чтобы ничем не выдать своего истинного возраста. Не напугать тем самым маму, не смутить бабушку, а главное – не подвести отца, который знает то же, что и Лия.
Если бы Лия умела выразить то, о чем думает, если бы была уверена, что ей поверят, она бы вышла на кухню в ночной рубашке и сказала примерно следующее… Вы – глупые, хоть я и люблю вас. Неужели вы думаете, что я могу иметь хоть какое-то влияние на ваш взрослый мир? Вы – большие, сильные и умные, так зачем выставлять меня, как буфер (это слово Лия выучила намного позже), между своим мнимым спокойствием, которое продлится сутки, и моим отчаянием, которое после этих суток поселится во мне навсегда!
Конечно, она этого не могла сказать…
На следующий день рано утром мама и бабушка торжественно сообщили ей и папе, что отправляются в разные концы города – «по неотложным делам».
– Ну, как, герои, останетесь на хозяйстве? – игриво сказала бабушка. – Не подведете?
Она до сих пор считала папу своим маленьким сыночком.
Лия молча кивнула, глядя бабушке прямо в глаза.
Она еще надеялась, что ее взгляд может изменить ход событий и мама с бабушкой поймут, что сутки – это уж слишком…
Но папа весело кивнул в ответ:
– А то! – Обнял Лию за плечи: – Мы вместе – ого-го!
Мама дала последние наставления – где что лежит и что нужно сделать на завтрак: подогреть жареную картошку.
Потом за ними закрылась дверь, и Лия побежала в постель – досматривать последний сон.
Сон был долгим.
Но сквозь него Лия слышала, как дважды тихо приоткрылась входная дверь: папа ушел и вернулся.
Когда Лия вышла на кухню, он стоял у плиты и лил на сковородку с жареной картошкой воду из чайника.
Лия знала, что так не делают, что жареную картошку разогревают без добавления воды, но по тому, что папа не повернулся к ней, сразу поняла: началось!
Если бы он повернулся к ней и улыбнулся: «Ну, что будем делать, хозяюшка?» – она бы с удовольствием забрала из его рук чайник и ответила: «Воду – не надо! На воде картошку варят, а в жареную – ни капли!»
И они бы рассмеялись.
Но Лия прекрасно понимала, что сейчас папе не до шуток, он прекрасно знает о бессмысленности своих действий, а воду льет только потому… потому что, как говорила бабушка, – «не в настроении».
Бабушка всегда находила точные формулировки для папиного состояния: «папа переутомился», «папа перенервничал на работе», «папа заболел».
Когда такое случалось, все ходили по дому на цыпочках и говорили тихими голосами, будто и сами были больны…
Солнечные кругляшки картошки, перекипев в воде, превратились в месиво.
Но Лия мужественно съела все, что папа положил в ее тарелку. Мужественно и быстро, ведь она видела: он не ест потому, что ждет, чтобы она быстрее ушла к себе – играть в свои детские игры.
И тогда Лия услышит (услышит всей кожей!), как тихо скрипнет дверца кухонного шкафчика, как чуть слышно звякнет стекло – дважды или трижды, – а потом вилка неуверенно застучит по тарелке. А если она, эта непослушная вилка, «стратит» – то есть не наколет картофелину на свои редкие зубцы, – полетит на пол или в стену. А папа скажет что-то такое, чего никогда не сказал бы в присутствии Лии. Хотя Лия давно знает значение многих взрослых слов. Только старательно скрывает это.
Прислушиваясь к звукам, Лия делала вид, что с удовольствием рисует. Даже язык намеренно высунула, хотя она никогда не рисовала утром и не было сегодня на то никакого желания. Она рисовала цветы. Каждый цветок – это зашифрованный час! Цветков до следующего утра было двадцать четыре. Целый сад! И Лия решила, что каждый час будет зачеркивать один цветок, пока не выкосит весь этот сад!
– Рисуешь? – заглянул в комнату папа.
Его лицо было веселым.
– Может, пойдем прогуляемся?
Лия тоже посмотрела на него веселым беззаботным взглядом. Она давно выработала его, чтобы казаться маленькой. И кивнула.
Послушно и быстро стала собираться – шорты, футболка, сандалии. Только носков не нашла. И не было на то времени, ведь папа уже стоял на пороге и с недовольным видом крутил нижний замок.
– Чертовщина какая-то, – сказал он.
И Лия, отстранив его руку, повернула верхний.
Дверь открылась.
Они вышли на улицу.
Гулять с папой давно вошло в ее обязанности. Хотя мама с бабушкой думали наоборот!
Они часто отправляли их пройтись, «ведь ребенок хочет на качели». И Лия покорно кивала головой, хотя на качели ей совсем, ну совсем-пресовсем не хотелось! А если хотелось, то она бежала туда сама и смело взлетала до небес, без всякого взрослого контроля над своими действиями.
Мама и бабушка не знали, что маршрут, намеченный ими для нее и папы, никогда не проходил через детские площадки и любую прочую ерунду. И Лия всегда удивлялась, что они этого как бы не замечают!
Папа взял Лию за руку.
Лия знала, что таким образом он будет держаться прямее и увереннее, как любой другой отец, который вывел ребенка на прогулку. Они сели в троллейбус и поехали в центральный гастроном. Так было всегда.
Лия знала, что, проходя мимо вывески, папа улыбнется ей и спросит:
– Хочешь ситро или молочный коктейль?
Тут Лия должна весело улыбнуться в ответ и сказать:
– Коктейль!
И тогда папа пошутит:
– Ну, ты меня совсем разоришь на этих коктейлях! Что ж – воля твоя! Ударим по коктейлям!
И все это – «пароль-отзыв» – будет выглядеть так, будто Лия сама захотела зайти в гастроном.
Так и сейчас.
Папа оставил ее у высокого столика, а сам пошел в очередь.
Вернулся, неся в руках два стакана – с белым и красным.
– Пей свой коктейль, сладкоежка, – сказал он и добавил: – А я – виноградный сок!
Лия молча кивнула и сунула нос в стакан с белой пеной.
Краем глаза она следила, как быстро, со вкусом, папа пьет свой сок.
– Ну и жара сегодня, – сказал он, вытирая рот ладонью. – Хочешь еще?
Лия энергично затрясла головой и взяла папу за руку, мол, пошли.
– А я хочу! Придется тебе подождать своего папу! – сказал он и снова встал в очередь.
На улице Лия сказала:
– Поехали домой! – и крепче сжала его руку.
Вот где начинается настоящая мука – ехать в троллейбусе!
Лии казалось, что все на них смотрят. Особенно после того, как папа, дав кондукторше вдвое больше денег (Лия точно заметила – вдвое!), похлопал ее по щеке и ласково сказал: «Лапа!..»
А кондуктор повела носом в воздухе, фукнула и, отстранив его руку, сказала: «Смотри, ребенка не потеряй, „лапа“», – и, укоризненно покачивая головой, прошла дальше.
Лии стало обидно за папу, за то, что женщина так явно фукнула ему в лицо.
За то, что он сказал это домашнее слово, которое предназначено только ей и маме.
За то, что от него неприятно пахнет, и все это слышат, а еще за себя – прикованной к этой маленькой детской Голгофе. Конечно, и этого понятия Лия тогда еще не знала, но отчетливо чувствовала, что есть такое место, где ты стоишь голый перед огромной толпой возбужденных этим зрелищем людей.
Все это было невыносимо. Ведь тетеньки в троллейбусе начали оглядываться на них и качать головами. Одна даже незаметно погладила ее по голове, и неблагодарная Лия, оскалясь, как дикая кошка, сбросила ее руку, мол, в жалости не нуждаюсь!
В какой-то момент она подумала: а что будет, если выпрыгнуть на следующей остановке? Что будет? Выпрыгнуть и побежать далеко-далеко, на детскую площадку, куда Ленка и Светка вынесли сегодня своих кукол…
Но – нет! Она должна выполнить задание мамы и бабушки, должна стать достойным «воспитательным моментом» в жизни своего одного-единственного папы, которого нельзя бросать во враждебно настроенном троллейбусе. Ведь, полагаясь на нее, он уж задремал. Из-за чего они проехали три лишних остановки, хоть Лия и пыталась растолкать его изо всех сил.
Но как только проехали, папа сразу вскинул голову и сказал:
– Сойдем здесь и пройдемся обратно пешком.
Лии не хотелось идти пешком, ведь сандалии, обутые без носков, уже натерли на пальцах и ступнях водянки.
– Ну не дуйся, лапа, – сказал папа. – Я просто не хочу, чтобы эта глупая тетка Надя нас видела. Она же всегда в это время сидит на лавочке и сплетничает. Не люблю я ее.
Обратный путь показался Лии бесконечным.
Папа больно опирался на плечо, останавливался под деревьями, отплевываясь.
И люди смотрели на них. Весь мир превратился в один большой глаз, который наблюдал за ними.
– Папе плохо, – пояснил папа. – Наверное, у папы грипп.
Лия сочувственно кивнула и повела его дальше. В ее сандалиях уже немного влажно – наверное, лопнули водянки.
Им не повезло: на лавочке сидела тетя Надя еще с тремя соседками.
На удивление, папа прошел мимо достаточно ровно, только слишком крепко сжал руку Лии и тихо выругался, забыв о ней. Но она – ни звука. Даже не ойкнула!
Главное, что через мгновение они скрылись в подъезде и поехали на свой этаж!
На лестнице папа долго искал ключ.
Так долго, что Лия успела замереть от ужаса: если ключ потерялся, что они будут делать в городе целый день и целую ночь, до которой еще так далеко?
Папа долго-долго выворачивал карманы, роняя из них зажигалку и медяки. Наконец ключ нашелся, но не хотел лезть в замочную скважину. Лия видела, что папа сует его не тем концом, но молчала, зная – подсказка только разозлит его.
Наконец дверь открылась.
Отодвинув Лию, папа сделал несколько шагов в спальню, но не удержался и упал на пол. Лия испугалась, ей показалось, что он разбился насмерть. Но через мгновение услышала его мощный храп. Она побежала за подушкой и минут пять провозилась, чтобы уложить на нее его голову. Голова папы болталась, как у мертвого, изо рта текла слюна. Лия укрыла его одеялом и застыла рядом, усевшись по-турецки.
Вспомнила, как когда-то давно он водил ее в садик, а по дороге рассказывал удивительные истории о неведомых странах эльфов и злых волшебников, о том, как мечтал стать известным артистом или изобретателем, как прыгал с гаражей, сделав себе картонные крылья. А однажды, приблизившись к ее уху, сказал таинственным голосом: «Я – Король Изумрудного города, а ты – его принцесса. Только никому не говори – это будет наша тайна». В следующий раз он объявил себя и ее правителями Города Саблезубых Тигров, а со временем – Обладателями Звездной Вселенной!
Сколько таких тайн она носила в себе, как стакан с драгоценным напитком, наполненный до краев. Чтобы не расплескать! Обнимала за шею и шептала: еще, еще, еще. Рассказывай о том, где мы жили, – в каких дворцах, на каких планетах, внутри каких яблок, а волшебные палочки у нас были? А летать мы умели? А язык дождей понимали? Еще, еще…
У них было много общих секретов. Он так и говорил: пусть мама и бабушка не знают, это наши дела! Она, как святыню, берегла под кроватью маленькую желтую копилку, куда они вместе собирали медяки на путешествие в Африку…
И хранила все нынешние секреты, ведь папа уважал только тех, кто умеет держать слово. И она держала. Стерегла его, сидя на холодном полу, и боялась, что мама и бабушка вернутся не вовремя.
…Спустя время Лии надоело сидеть в одной позе.
Дыхание папы стало ровным, опасным. Она повернула его голову набок, чтобы в случае чего он не захлебнулся собственной слюной (ведь однажды такое уже было!). И отправилась зачеркивать ряд нарисованных утром цветов.
А потом подумала, что теперь она может взять велосипед и еще погонять на улице, пока папа не проснется и не захочет ужинать.
Она захлопнула двери и спустилась по лестнице, катя перед собой свой старый «Орленок».
На скамье все так же сидели соседки. Лия гордо провела мимо них велик и, громко свистнув, оседлала его. Покатила вниз к реке.
Движение и ветер постепенно расправляли ее съежившееся сердечко, и первая половина дня уже не казалась ей такой тяжелой и постыдной.
Она крутила педали не останавливаясь, шесть раз объехав маленькую речушку, пока на небе не появились первые звезды, а из воды не дохнуло ночной прохладой. Она бы хотела ездить так вечно, не возвращаясь в мир взрослых, пока сама не вырастет, не станет равнодушной, не получит закалку ко всякого рода проблемам и неясностям. Она могла бы ехать все дальше и дальше, мимо речки, через лес – на тот его край, где ее снимет с велика прекрасный Король Изумрудного города.
Ноги Лии гудели, желудок поджимало от голода. Надо было возвращаться домой.
Она больше не могла крутить педали и повела «Орленок» вверх, чувствуя, как тяжелеют с каждым шагом растертые ноги.
У подъезда уже никто не сидел. Лия взвалила велик на плечо и медленно начала подниматься по лестнице.
Дойдя до двери – раскрасневшаяся, уставшая, с тревогой, которая вновь затрепетала и сжала ее сердце, – она прислушалась.
Тихо.
Позвонила…
Звонила и стучала ногами в дверь долго. Ей показалось – часа два, хотя прошло всего двадцать минут. Но и они показались ей вечностью. Приложила ухо к двери и услышала тот же храп. Папа еще спал. Лия пожалела, что оставила его. Наверное, он еще раз или два выходил в магазин и теперь не проснется до утра. Лия оставила велосипед у двери и вышла на улицу. Посмотрела вверх – все окна в их квартире светились!
Лия села на лавку у подъезда и решила ждать. Если папа проснется, он выключит эту иллюминацию, и тогда она снова поднимется и станет барабанить в дверь. Или папа сам выскочит на улицу искать ее и увидит, как она в темноте сидит на лавке в пустом дворе.
Сколько она просидела, Лия не знала. Она сидела и смотрела на освещенные окна своей квартиры. Еще несколько раз поднималась и стучала-звонила, прислушиваясь к храпу, и снова спускалась вниз на лавку.
Сидела, поджав ноги, растирала окоченевшие конечности и мечтала стать собакой. Если бы она была сейчас собакой, то ее ожидание было бы закономерным, необидным. Собаки могут ночевать и на улице…
– Что ты здесь делаешь так поздно? – услышала она голос.
Это – худшее, что могло произойти, ведь, подняв голову, она увидела соседа, который жил в квартире напротив.
Соседа звали Леня. Он жил совсем один в однокомнатной квартире. Как-то Лия услышала, как мама разговаривает с подругой, и та сказала примерно так, мол… Как там было? Мол, «сделай так, чтобы он тебя немного поревновал – у вас же рядом вон какой разведенный живет. А твой, может, за ум возьмется!» И мама несколько раз останавливалась с дядей Леней на лестнице, пыталась шутить, от чего Лии становилось стыдно, ведь эти шутки казались ей искусственными, плоскими, неестественными. А еще больше было стыдно от того, что этот Леня никак не поддерживал их и как-то сказал: «Вам надо о ребенке думать…»
Это были сложные и непонятные для Лии вещи, но ясно было одно: она, и только она видит всю картину этих взрослых отношений в целом, но пока не может высказаться, ведь не имеет права голоса, когда говорят взрослые. Вот поэтому и хорошо бы стать собакой!
Леня посмотрел вверх и заметил их освещенные окна, потом снова обратился к ней:
– Ты вся дрожишь. Здесь холодно. Пошли ко мне. А там разберемся.
Она встала с ощущением, что с нее свалилось сто килограммов снега, хотя на дворе было лето, и на негнущихся ногах направилась вслед за Леней.
На лестничной площадке он постучал в их дверь. Пожал плечами, вздохнул и пропустил ее в свою квартиру.
Лия вежливо уселась на диван и сложила руки на заледенелых коленях. Леня включил бра и телевизор. Лия подумала, что если бы он включил свет, ей стало бы легче. А почему – не знала…
По телевизору шел ночной повтор футбольного матча.
Леня был неразговорчивым, и вообще Лия почувствовала, что она здесь лишняя, что человек, наверное, хочет спать, есть, а ее, Лии, присутствие только мешает ему заниматься своими обычными делами.
– Согрелась? – спросил Леня и потер ей плечи своими огромными ладонями. – Растереть тебя?
– Спасибо, мне уже совсем не холодно. Спасибо.
Она знала, что если она будет держаться вежливо и по-взрослому, он, может, больше не будет к ней прикасаться.
Леня засопел.
Лия поняла, что если бы она согласилась, чтобы он растер ее, то он не сопел бы так громко и недовольно.
Потом она уже не знала, где лучше сидеть – здесь или в ночном дворе. По крайней мере, во дворе она бы не чувствовала такого неудобства, как здесь, – вдавленная в спинку кровати, в позе, которую боялась изменить даже легким движением, чтобы не привлечь к себе внимания. Там она хотела стать собакой, здесь – тараканом или мышкой, чтобы забиться под кровать.
Леня досмотрел матч.
И пошел на лестничную площадку.
И оттуда – наконец-то! – Лия услышала папин голос.
Правда, сначала забасил Леня, за что-то выговаривая папе, и она зажала уши руками.
Потом Леня вернулся и сказал:
– Иди, он очнулся.
И Лия шмыгнула за дверь.
Папа, опустив глаза, стоял на пороге.
Лия молча завела в квартиру велосипед и, не включая света, направилась в свою комнату.
Как была – в одежде, с нечищеными зубами и грязными коленками, улеглась под одеяло, накрыла голову подушкой и замерла.
Пусть думает, что она спит…
Пусть думает.
Но он так не думал!
Щелкнул выключатель, папины руки начали отрывать от ее лица подушку, и наконец ему это удалось.
– Лапа, – сказал папа, – лапа, прости…
И поцеловал ее мокрую, отнятую от глаз, руку.
Это была худший, самый страшный момент за весь день. Ведь Лия могла выдержать все – гастроном, троллейбус, обратную дорогу с остановками возле деревьев, кровь в сандалиях, сочувственные взгляды соседок, ночное сидение на скамье, холод, голод, жажду, прикосновение потных Лениных ладоней…
Она давно привыкла быть сильной. Но единственное, что могло выбить ее из этого упрямого состояния силы – вот такое «прости», и это нежное – «лапа», и…
И то, что за этими словами ничего, совсем ничего не стояло, ведь точно так же он говорил ей много раз, и в его глазах стояли настоящие-пренастоящие слезы. И тогда Лия – сотый или тысячный раз – чувствовала безумную любовь к папе. Потому что она была старше.
И мудрее.
Чем он.
Чем мама.
И даже – бабушка…
Папа целовал и гладил ее руки, приговаривая: «Мои маленькие замерзшие ручки…»
– Все в порядке, – сказала Лия, отнимая руки, – иди спать. Со мной все в порядке. Нормально…
Елизавета решает умереть
Елизавета решила умереть.
И в этом не было ничего удивительного. Ведь такое решение рано или поздно приходит ко всем.
Особенно, если ты не можешь пережить страшной и несправедливой обиды.
Особенно, если ее нанесли родные тебе люди…
Итак, рано утром Елизавета пошла к реке, хотя должна была идти совсем в другое место.
Идти было трудно – снега в этом году выпало довольно много. Приходилось поднимать ноги, как цапля, и нащупывать тропинку, чтобы ненароком не нырнуть в сугроб.
Способ умереть она выбрала еще дома. Сначала думала, что хорошо бы выпрыгнуть из окна, чтобы ее сразу увидели.
Но потом подумала, что все должны немного помучиться, разыскивая ее. И нашла верное решение: она замерзнет в снегу!
А еще лучше: она насмерть простудится. Ведь простуда – ее «конек»: Елизавета всегда простужалась. И, сколько себя помнит, каждую зиму ходила с компрессами на шее или на ушах. Тело под компрессами сильно чесалось, и Елизавета почесывала его длинной бабушкиной спицей. А на левом глазу у нее всегда красовался огромный ячмень, который прогревали солью или горячим яйцом. Это была сущая пытка.
Так неужели эти муки придется терпеть еще лет шестьдесят? А вдруг – больше?
Подумав так, Елизавета решила как следует промерзнуть в снегу, а потом вернуться домой и победно умереть на глазах у всех обидчиков.
Она дошла до самого берега, где, как ей казалось, снег был самым холодным, сняла шубу и варежки, аккуратно сложила их неподалеку от себя, расчистила место в сугробе и опустилась на снег.
Потом принялась нагребать его на себя, как это делала летом, закапываясь в песок.
Нагребла до самой шеи и стала ждать, когда замерзнет.
Но, на удивление, холодно ей не стало.
Елизавета хорошо утрамбовала снег вокруг себя ладонями – так, что на поверхности осталась одна голова. И стала ждать.
А в ожидании размышляла.
Вот, думала Елизавета, я умру. Буду лежать тихая и смирная, послушная, с закрытыми глазами – белая-белая. Вся – в белом! Ведь соседка как-то говорила, что девушек, которые не вышли замуж, хоронят в красивых свадебных платьях. А вокруг будут стоять мама, бабушка, папа и Саша, а еще – Ромка, Стасик, Олька, Лера, Светлана Михайловна и дядя Паша.
Все ее враги!
Олька и Лера, наверное, будут завидовать – им такое платье и не снилось!
Саша, конечно, будет радоваться: ему достанется все, что останется после Елизаветы, а главное – велосипед, за который они всегда дрались чуть ли не до крови! И мама с папой тоже обрадуются: теперь никто не будет рисовать на обоях, не будет приносить в дом котят и пачкать новую одежду. Бабушка, может, немножко и погрустит, но потом поймет свое счастье: не надо будет делать двойную порцию блинчиков или вязать свитера и носки в двойном количестве.
Светлана Михайловна вообще будет скакать от счастья на одной ножке, это понятно. Ведь она сама как-то сказала, что если бы Елизаветы в ее группе не было, она бы перекрестилась и спала спокойно. Вот теперь будет креститься и спать вволю! Ну и дядя Паша тоже будет спать спокойно – никто теперь не будет прыгать с гаражей, не будет бегать по клумбам, и никого не надо будет снимать с пожарных лестниц!
Вот кто действительно поплачет, так это Ромка и Стасик.
Хотя, если хорошенько разобраться, чего им плакать, если теперь они смогут во всем быть первыми? В плевках в длину и высоту, в охоте на голубей, в свисте через лист лопуха, в слежке за шпионами, в разжигании костра и всяком таком.
Нет, они будут рады!
Поэтому Елизавете терять нечего.
А вот увидеть, как по ней будут скучать, – интересно!
Ведь все же мама с папой и бабушкой, наверное, позже (когда хорошенько нарадуются тому, что избавились от такой непослушной Елизаветы) начнут плакать и жалеть, что ее нет.
Мама скажет: ну зачем мы так издевались над ней, запрещали рисовать на обоях, заставляли есть кашу?
Зачем мы не позволяли ей бродить у реки, скажет папа. Ой, зачем я ругала ее за то, что путает мои нитки, заплачет бабушка.
И даже Саша всхлипнет, мол, пусть бы брала велосипед – сколько угодно!
А Светлана Михайловна будет стоять тихо, и все сразу поймут, что это она была виновата, когда ставила Елизавету в угол на глазах остальных детей и жаловалась на нее родителям.
Олька принесет ей свою дорогую немецкую куклу, волосы которой Елизавета раскрасила лаком для ногтей, скажет: ах, бери, хоть всю раскрась, мне не жалко. А Лера…