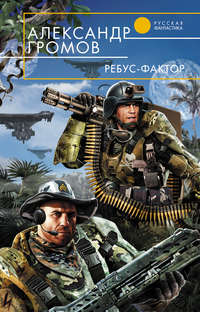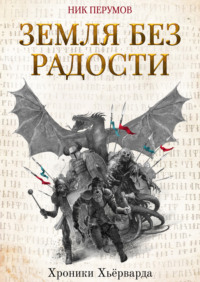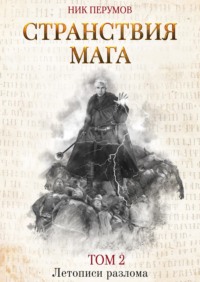Полная версия
Французская жена
– Если хотите, можем вместе по Москве погулять. – Геннадий посмотрел на Марию. В его каштановых глазах светилась доброжелательность. – Я, конечно, мало что тут знаю, но ориентируюсь вообще-то везде хорошо. Что захотим, все найдем.
– Спасибо, – улыбнулась Мария. – Я с удовольствием прогуляюсь с вами по Москве.
Татьяна Дмитриевна взглянула на нее с легким удивлением, но тут в дверях показались Ольга и Герман со спящим Митей на руках, и она ушла провожать их к воротам.
– Вы правда не против со мной Москву посмотреть? – спросил Геннадий.
– Но зачем я стала бы говорить неправду? – удивилась Мария.
– Тогда скажите свой телефон, ладно? Я позвоню, и договоримся. Я прямо завтра позвоню, – с детской какой-то поспешностью добавил он. – Устроюсь только – и сразу.
– Вы еще не знаете, где будете жить? – уточнила Мария.
– Это я разберусь, не беспокойтесь. Говорите, я записываю.
Он достал из кармана телефон, записал номер, который она ему продиктовала. Номер был парижский – сообщать всем, кто мог ей позвонить, что у нее некоторое время будет московская телефонная карта, Мария находила слишком хлопотным.
– До звонка, – сказал Геннадий. – Я тоже пойду. Герман Тимофеевич меня до электрички обещал подбросить.
Он пошел по аллее к воротам. Мария смотрела ему вслед. Он шел чуть вразвалочку, как моряк. Или как охотник? Может, он правда охотник и именно так ходит по тайге? Смотреть, как он идет, было приятно.
У самых ворот Геннадий обернулся. Он не помахал рукой, не произнес ни слова – просто остановился и посмотрел на Марию. Даже издалека видны были его блестящие конские глаза. Впрочем, может быть, ей это просто показалось.
Глава 6
– Теряюсь я с вами, Марья Дмитриевна. Теряюсь и робею.
Гена подал ей руку, и они спустились по лесенке к самой воде Патриарших.
– Но почему? – спросила Мария. – Может быть, вам не надо называть меня по отчеству? Вероятно, это вас и смущает. А мне это, уверяю вас, совсем не нужно. Я к такой торжественности не привыкла.
– Да я-то привык. – Улыбка у него была открытая и такая же обаятельная, как взгляд. – Я же валенок сибирский. У нас не принято взрослого человека без отчества звать, неуважительно это. А теряюсь я с вами не потому.
– Но почему же?
– Человек вы особо тонкий. Поневоле подумаешь: то ли я сказанул, обидел, может?
– Вы ничем меня не обидели, – улыбнулась Мария. – Оставьте эти мысли, Гена. Мне очень легко разговаривать с вами и видеть с вами вместе Москву. Знаете, я приезжаю уже в третий раз, но только теперь мне кажется, что я начинаю немножко привыкать к ней. Папа рассказывал мне о Москве, но увидеть самой, конечно, совсем другое.
– Это да, – согласился Гена. – Я вот, например, от Москвы тоже робею, почти как от вас. Как-то вроде бы суетиться начинаю, сам замечаю даже. Но нравится она мне, Москва! Размах, свобода. Кажется, все у тебя получится. Конечно, иллюзия это.
– Но почему же иллюзия?
– А что я такого уж особенного могу, если вдуматься? Что и все. И у всех, наверное, голова кружится, когда первый раз в Москву попадают. А потом максимум что у большинства выходит – охранниками устроиться.
– Да, в Москве как-то много охранников, – согласилась Мария. – Мне это странно. Где только есть какая-нибудь дверь, там сидит возле нее взрослый мужчина или даже молодой. Но что же он думает о своем будущем?
– О будущем у нас вообще мало кто думает, – усмехнулся Гена. – Не привыкли.
– Почему?
– Такая жизнь была. Да и теперь осталась.
– Извините.
– За что? – удивился он.
– Я не должна оценивать здешнюю жизнь. Ведь я ее совсем не знаю. И вообще, оценивать человеческую жизнь со стороны – это очень холодно и нехорошо. Это можно только сердцем делать, я думаю.
Гена засмеялся.
– Так ведь, Марья Дмитриевна, никакого сердца не хватит, – сказал он. – На всех-то! Говорю же, тонкий вы человек. Не устали?
– От чего? – не поняла Мария. – От того, что тонкий человек?
– Что с утра с самого гуляем. У меня и то ноги уже гудят, представляю, как у вас.
– Нет, ничего, – покачала головой Мария. – Я люблю ходить пешком. Наверное, это у нас семейное. Таня тоже любила, когда была моложе. И Нелли, средняя наша сестра, говорит, что они с мужем уже половину Израиля пешком обошли. Но мне кажется странным гулять одной, и я рада, что вы составили мне компанию.
– Да, хорошая у вас семья, – сказал Гена. – А пирожки у Татьяны Дмитриевны – это что-то! Ешь, и прямо в душу они катятся, ей-богу.
– Пирожки я, к сожалению, не умею, – улыбнулась Мария. – Но это было бы и глупо, печь пирожки для себя одной.
– А вы не замужем?
– Нет. Никогда не была.
– Что так? – удивился Гена. И тут же добавил: – Извините, конечно.
– Вам незачем извиняться. Здесь нет ничего болезненного. Мне не хотелось замуж, и я не выходила. Я всегда воспринимала это спокойно.
Мария чуть не сказала, что просто прислушивалась к своему сердцу и разуму, но все-таки не стала об этом говорить. К чему сообщать такие подробности совершенно постороннему человеку, случайному спутнику по городской прогулке?
«Почему мне вообще пришло в голову говорить с ним о своем одиночестве? – недоуменно подумала она. – Это так странно!»
Мария всегда чувствовала вокруг себя что-то вроде линии, проведенной замкнуто, завершенно. Жизнь ли так распорядилась помимо ее воли, сама ли она так для себя решила, неизвестно, но линия эта была вокруг нее всегда. Вот только никогда Марии не приходило в голову делиться с кем бы то ни было этим своим странным ощущением.
Она подняла голову и посмотрела на Гену недоуменным взглядом.
Его встречный взгляд был полон спокойной доброжелательности, которая так расположила ее к нему с первой же минуты знакомства.
– Может, пообедаем? – предложил он. – Вы не смущайтесь, скажите. А то, знаете… – Он улыбнулся своей прекрасной широкой улыбкой. – Мне ведь самому неловко предлагать. Подумаете: вот обжора, ни прогулки ему не надо, ничего!
Мария засмеялась. Недоумение исчезло, как будто и не было его.
«Какой чудесный человек!» – подумала она.
А вслух сказала весело:
– Гена, я ужасно голодна. Кажется, я съела бы сейчас даже ту ужасную сосиску с кетчупом, которую мы видели, когда шли к Патриаршим.
– Сосиской-то незачем травиться, – сказал он. – А вот за углом я кафе видел – можно туда.
– За углом – это в Ермолаевском переулке? – уточнила Мария.
– Я название не знаю. Вон там.
Он указал рукой.
– Да, это Ермолаевский, – сказала Мария. – Там все и жили до войны – мой папа, его первая жена и Таня. В том доме, где арка с решетчатыми воротами, вы видите?
– А теперь там что? – с интересом спросил Гена.
– Теперь та же квартира, но в ней редко кто-нибудь бывает. Потому что Таня живет в Тавельцеве, Оля с Германом – в его доме, это совсем рядом с Тавельцевом, в Денежкино. А Олина дочь Нина сейчас у меня в Париже.
– Разбросала вас жизнь. – Гена покрутил головой. – Так судьба закрутила – с ходу и не разберешь, что к чему.
– Возможно, со стороны это выглядит сложным, – сказала Мария. – Но когда жизнь происходит, то есть просто течет, тогда все кажется естественным.
– Пойдемте, Марья Дмитриевна. – Гена согнул руку бубликом. – Вы, я смотрю, побледнели даже. Проголодались, так ведь?
– Так! – Мария просунула свою руку в этот бублик и снова засмеялась. Она никогда, даже, наверное, в детстве не смеялась так много и беспечно. – Я могу сейчас съесть… съесть…
– Слона? – подсказал Гена.
– Нет, слона нет, это просто невозможно представить, как я стала бы есть слона. Но огромную тарелку какого-нибудь салата – точно.
В маленьком кафе на углу Ермолаевского переулка слона, конечно, не было. И людей почти не было – стояла тишина.
– Наверное, это дорогое кафе, – заметила Мария.
– Почему вы так решили?
– Потому что в обеденное время здесь мало людей. И совсем нет молодежи. В Париже молодежи нет в тех кафе, где дорого.
– Ну, тут-то не Париж, – усмехнулся Гена. – У нас молодежь гуляет не по-детски. Тем более в Москве. Москва, Марья Дмитриевна, она ведь у всей России под горой – отовсюду в нее деньги катятся.
Они сели за столик у окна. Пруд был виден ясно, воздух дрожал над ним осенним золотом. Наверное, от этого Марии казалось, что душа ее дрожит и трепещет тоже. Да, конечно, от этого.
– Осень в Москве так же хороша, как в Париже, – сказала она, переводя взгляд на Гену. И тут же смутилась: – Я стала говорить банальности.
– Вас можно сутки напролет слушать.
Выбрали куриную лапшу, картошку с грибами; меню в этом кафе оказалось домашнее. Когда Мария сказала об этом, Гена кивнул:
– Да, надо было поинтереснее поискать. Домашнюю-то лапшу вам и сестра готовит, наверное.
Мария об этом не думала, но то, что он, оказывается, не просто зашел в кафе, потому что захотел есть, но думал о том, чтобы доставить ей удовольствие, показалось приятным. И не просто приятным – она снова почувствовала что-то вроде смущения.
Это было странно. Мария давно уже заметила главную разницу между отношением французских и русских женщин к тому, что мужчины оказывают им внимание. Когда Таня гостила у нее в Париже, они даже обсуждали эту разницу.
Если в глазах француженок внимание мужчин выглядело безусловно приятным, но в общем-то естественным, то русских женщин оно буквально потрясало. Создавалось впечатление, будто все они сознают в себе какую-то необъяснимую неполноценность, а потому не ожидают, что могут кому-то понравиться.
Те же из русских женщин, которые подобной неполноценности в себе не сознавали – Мария знала многих в русском Париже и могла об этом судить, – производили неприятное впечатление своей демонстративной самоуверенностью, за которой тоже угадывалось что-то ущербное.
Но в себе Мария этой русской странности не чувствовала никогда. Мужчины обращали на нее внимание часто, и это казалось ей естественным. Когда она оценивала свою внешность словно бы сторонним взглядом, то понимала: красавицей она считаться, разумеется, не может, хотя бы потому, что в ней нет ничего яркого, но утонченность ее черт, скорее всего, привлекательна.
К тому же мама была права, когда говорила, что у Мари врожденное чувство стиля, а потому мужчинам приятно находиться в ее обществе.
В общем, удивляться тому, что мужчина смотрит на нее смущенным и восхищенным взглядом, ей не приходилось ни в молодости, ни в зрелые годы.
И вдруг вот сейчас, сидя у окошка, за которым сияет гладь московского пруда, она то и дело отводит взгляд от карих Гениных глаз и при этом сознает, что ей хочется смотреть в них снова и снова… А от чего такая странность, непонятно.
Они пообедали почти в молчании. Перебрасывались лишь незначительными фразами, какими перебрасываются люди, случайно оказавшиеся за одним столом и познакомившиеся непосредственно за обедом. Но при этом Мария не чувствовала случайности ни в чем, что с нею сейчас происходило, и не понимала, почему не находит слов, чтобы сказать об этом Гене.
В отличие от еды, кофе оказался безвкусным.
– Кажется, в Москве вообще нет хорошего кофе, – сказала Мария. – Я еще в прошлый раз это заметила и поэтому купила его теперь в Париже. И, представьте, забыла в московской квартире! Это было в тот день, когда мой племянник Ваня, сын моей сестры Нелли, привез меня из аэропорта сюда, в Ермолаевский переулок, – пояснила она. – Так что в Тавельцеве парижский кофе до сих пор никто еще не попробовал.
– А что ж потом забрать не заехали? – пожал плечами Гена. – Германа Тимофеевича попросили бы, у него же тут рядом клиника.
– Я просто забыла про этот кофе. Думаю, от волнения. Я всегда волнуюсь, когда встречаюсь с родными.
– Непростая вы женщина, – покачал головой Гена. – Тяжело вам по жизни, наверное.
– Нет, что вы, – улыбнулась Мария. – Моя жизнь нисколько не тяжела. Мне кажется, по сравнению с тем усилием, которое каждую минуту приходится прилагать для вашей жизни здесь, наша жизнь во Франции вообще не слишком трудна. Но, правда, может быть, все дело только в том, что для французской жизни требуется совсем другое усилие, и оно привычное для меня.
– А какое усилие? – с интересом спросил Гена.
Мария с самого начала заметила вот этот постоянный интерес к жизни, который чувствовался и во взгляде его, и в голосе, и во всем облике. И этот интерес тоже был ей приятен в нем. Ей все было приятно в нем, в едва знакомом человеке – как удивительно!
– Я затрудняюсь точно объяснить, – сказала она. – Быть может, это просто терпение. Да, наверное, это так. Мы терпимее относимся к необходимости выживать. Не боимся выживать. Не ждем, что кто-то нам поможет. Надеемся только на себя, на свою работу, на свой банк, в конце концов. Но, мне кажется, сами ситуации, в которых нам приходится проявлять это свое терпение, гораздо более предсказуемы, чем у вас.
– Да уж, что у нас тут жизнь непредсказуемая, это точно, – хмыкнул Гена. – Ну так ведь это ж хорошо. Пока молодой, во всяком случае. Как в поезде едешь – впереди все новое и новое. Интересно!
– Я и не жалуюсь, – снова улыбнулась Мария.
– Когда кофе на дачу отвезете, пригласите меня в гости. – Он улыбнулся в ответ. – Буду потом в Сибири рассказывать, что настоящий парижский кофе пил.
– Но для этого совсем не обязательно ехать в Тавельцево! – воскликнула Мария. – Ведь этот кофе здесь, всего в квартале отсюда. Мы можем просто пойти и выпить его сейчас. В квартире, конечно, есть кофеварка или что-нибудь, чтобы сварить.
Эта простая мысль почему-то так взволновала ее, что она даже стала говорить сбивчивыми, торопливыми и в то же время громоздкими, неловкими фразами.
– Получается, в гости напросился…
– Нисколько не напросились. Мне будет приятно выпить с вами кофе. Пойдемте?
Гена кивнул. Его глаза блеснули при этом, как блестят под дождем каштаны в треснувшей кожуре.
В квартире стояла та тишина, которая всегда устанавливается в необитаемом жилище. Мария знала ее по своему дому в Кань-сюр-Мер. Если она приезжала туда зимой, то в первые минуты, даже в первый час ей казалось, будто дом не только необитаемый, но даже неодушевленный.
Пакет с молотым кофе лежал в плетеной сумке, которую Мария оставила на диване в гостиной. Она собирала эту сумку прямо перед выходом из парижской квартиры – складывала в нее все, о чем вспоминала в последние минуты. И вот пожалуйста, все-таки вышла с этой сумкой неловкость, до сих пор ее содержимое не попало к тем, кому предназначалось.
Ей вдруг показалось, что она думает о каких-то глупых вещах. Вернее, сама она вдруг показалась себе глупой, а еще вернее – как-то мгновенно поглупевшей.
– Я… сварю кофе, – этим вот неожиданным в своей глупости тоном проговорила Мария.
Кофейной машины в кухне не обнаружилось. Когда она насыпала кофе в турку, у нее дрожали руки.
Парижский кофе был слишком крупного помола, чтобы варить его по-турецки.
«Как мы станем его пить? Соринки будут липнуть к губам», – подумала Мария, глядя на собирающуюся на поверхности коричневую пенку, которая в самом деле была усыпана кофейными соринками.
Гена обнял ее за плечи. Его объятье было нежным и тяжелым. И губы… Марии показалось, они оставляют у нее на коже теплые дорожки. Как улитки, которые выползают после дождя на веранду ее приморского дома. Очень нежные улитки…
– Что вы со мной, Марья Дмитриевна, делаете, а? – тихо проговорил Гена.
Они целовались, пока что-то не зашипело у них за спиной и по кухне не разнесся запах горелого кофе. Мария на мгновенье оторвалась от Гениных губ и засмеялась.
– Что вы смеетесь? – спросил он, вглядываясь в ее глаза.
Его глаза были так близко, что в них хотелось окунуться, как в темные, с торфяной водой лесные озера. Когда Мария была маленькая, папа рассказывал ей про такие загадочные озера, которыми полны русские леса.
– Ничего, – сказала она, проводя ладонью по Гениной щеке. – Просто мы целовались и не заметили, как кофе убежал… Классическая любовь!
Глава 7
«Я впервые потеряла голову. И впервые счастлива. Оказывается, это так и должно быть. Как жаль, что я до сих пор об этом не догадывалась!»
Впрочем, как она могла бы догадаться об этом раньше? Для того чтобы это стало очевидным, нужен был он. То, что она испытывала теперь, было не счастьем вообще – все было связано именно с ним и только с ним вошло в ее жизнь.
– Знаешь, ведь я этого, наверное, просто боялась.
– Чего – этого?
Гена спросил не открывая глаз. Марии на секунду стало жаль, что он не открывает глаз, потому что его глаза нравились ей до замирания сердца.
– Вероятно, непредсказуемости, – сказала она. – Да, наверное. Непредсказуемости жизни. Я это понимаю, потому что привыкла осознавать свои чувства.
Это она объяснила со слегка оправдывающейся интонацией, хотя никогда прежде способность осознавать свои чувства не казалась ей предосудительной или хотя бы странной.
– А теперь не боишься?
Гена открыл глаза и искоса посмотрел на нее. Его голова так глубоко была погружена в подушку, что его взгляд был Марии еле виден. Но любовь все равно была в его взгляде явственна, ее ни с чем нельзя было перепутать.
– Теперь я об этом не думаю. Я вообще мало стала думать! – засмеялась она. – Вернее, о малом. А еще вернее – о главном. Ты знаешь, мир как будто бы прояснился вокруг меня. Из него ушло множество ненужных подробностей, он перестал дробиться на мелочи. Он весь стал состоять из очень крупных вещей.
Гена повернулся к Марии и, быстро притянув к себе ее голову, поцеловал в губы. Это не могло быть простой телесной страстью, потому что она, простая и телесная, только что была ими удовлетворена. А значит, это была любовь – та же, такая же, какую чувствовала сейчас и Мария.
– Ну что, встаем? – сказал Гена. – Белый день на дворе.
И, не дожидаясь ее ответа, сел на кровати и сразу же встал, подошел к окну, разбросал в стороны тяжелые шторы. Все это он сделал единым движением, сильным и вольным; Мария залюбовалась им.
Тело у него было тяжеловатое, может быть, даже грузное, но эта грузность нисколько не мешала ему двигаться легко, грациозно. Это в самом деле была грация сибирского медведя, во всяком случае, такое сравнение, пришедшее Марии в голову в первую же минуту, когда она увидела Гену, и теперь казалось ей точным.
Снежинки кружились за окном, приникали к стеклу, отшатывались, взмывали вверх и снова исчезали в сером небе. Мария следила за ними как завороженная, потому что на их живом, подвижном фоне стоял перед нею Гена.
– Мы поедем сегодня в Тавельцево? – спросила она.
– Как хочешь.
– Я не была там неделю. Но не хочу.
– Значит, не поедем.
– Может быть, Таня обижена на меня. За эту неделю были дни, когда я забывала ей даже позвонить.
Мария почувствовала, что у нее порозовели щеки, – она вспомнила, что это были за дни, как они их проводили…
Наверное, Гена тоже это вспомнил – он шагнул к кровати и вдруг быстро нырнул к Марии под одеяло. Она не ожидала этого и тихонько ахнула.
– Я ненадолго, не бойся, – шепнул он ей на ухо. – Поласкаю только.
Его ласки отличались от всех, какие она знала до сих пор. У нее не было мужа, но, конечно, были мужчины, которым она в разные годы отдавала часть своей жизни. Все они были утонченными людьми – других она не могла представить рядом с собой, – и утонченность в постели была ей так же необходима, как вечером в ресторане, куда заходили после премьеры в «Одеоне», пили шампанское, говорили о спектакле… У нее были прекрасные любовники, она не была обойдена мужскими ласками.
Но когда Гена развернул Марию к себе лицом, он сразу же положил ее на спину снова, подтянулся на ней повыше, всю ее накрыл собою… Она не смогла сдержать вскрик – ее тело наполнилось его силой, и наполнилось в одно мгновение, как будто он не накрыл ее собою, а ударил.
Все у нее внутри билось и вспыхивало, взлетало к горлу, туманило голову, да была ли у нее в эти минуты голова, что это вообще такое, зачем?..
Потом она почувствовала, что он опускается пониже, и не просто опускается, а одновременно становится частью ее – всего ее тела.
Да, они соединялись телами, конечно, это было так, конечно, хотя в реальности, наверное, это выглядело обыкновенно – мужчина и женщина сотрясаются в размеренных и одновременно лихорадочных, страстных движениях, и ходит над ними ходуном одеяло. Но не все ли равно, как это выглядит в какой-то там реальности, что это такое, реальность, да нет же ее и не было никогда!..
– Ну, Марья Дмитриевна!
Гена наконец сбросил одеяло, откатился в сторону и, взглянув на нее с другого края кровати, покрутил головой.
– Что?
Ей хотелось смеяться. Ей было так легко, так хорошо – ни на что другое она не была сейчас способна. Она и засмеялась, беспечно, как девчонка.
– Синяков тебе наставил, вот что! – Он засмеялся тоже. Они были счастливы одинаково. – Глянь-ка – и вот, и вот, и вот тут еще, на груди…
Мария скосила взгляд – никаких синяков у нее на груди не было. Она видела только его пальцы, короткие, широкие, сильные. В нем вообще было много силы, которая чудесным образом скрывалась за его обаянием. Еще ей почему-то казалось, что в нем немало наивности. Конечно, она не могла знать это наверняка, но ощущение было именно такое. Как много ей еще предстояло узнать о нем, и как же это было прекрасно!
– Ничего, – сказала она. – Если будут синяки, это ничего. – И добавила без всякой связи с предыдущими словами: – Я никогда не видела таких мужчин, как ты.
– Каких – таких?
– С такими… сочетаниями разных качеств. Даже мой папа, самый необыкновенный мужчина, которого я видела в жизни, был очень… как сказать… Однообразен? Нет, конечно, нет! Един? Да, наверное – един во всех своих проявлениях. А ты то такой, то совсем другой, и все равно это ты.
– Это мне не очень понятно, Марья. – Виноватое выражение мелькнуло в его каштановых глазах. – Потом я тебя понимать научусь. Уже в Париже, наверное. А пока любуюсь только.
Утонченности в нем не было совсем. Но его комплименты – вернее, те слова, которыми он заменял комплименты, – по сути своей были утонченны безусловно.
Им захотелось есть одновременно, и они стали одеваться, болтая.
– Ты отца-то хорошо помнишь? – спросил Гена, подавая Марии ее халат, который она не могла найти и который, оказывается, соскользнул за кровать.
– Конечно. Мне было пятнадцать лет, когда он умер. В его сознании, в его мире прошло все мое детство, началась моя юность. Я очень сильно его помню.
– Он ведь врачом работал?
– Да. Когда он был моложе, то оперировал. Но с возрастом, конечно, перестал.
– Почему – конечно?
– Потому что это было бы безответственно, оперировать, уже не имея необходимой реакции. Он консультировал в клинике. И говорил: это даже хорошо, что стало меньше работы – наконец у него появилось время на жизнь. На маму, на меня.
– У них же с мамой с твоей разница в годах большая была? – спросил Гена, завязывая пояс на своем длинном махровом халате.
– Тридцать лет.
– Ого! Последняя любовь?
– Нет.
– Не последняя? – засмеялся Гена.
– Не любовь. Мне кажется, их связывала не любовь.
– А что же?
Он посмотрел удивленно. Мария пожала плечами.
– Забота. Долг. Это с его стороны. А с маминой – восхищение. Она была из семьи католиков-аристократов, но, мне кажется, даже к Богу мама не относилась с таким благоговением, как к папе.
– Однако! – покрутил головой Гена. – Странный у них был брак. Извини, конечно, дело это не мое.
– Тебе не за что извиняться. В самом деле странный. Мама однажды сказала мне, что всю свою любовь папа отдал своей первой семье, вот этой, которая осталась в России. Но даже то, что досталось нам, это очень много, так она сказала.
Да, именно так. Мария ясно помнила тот день, когда это было сказано.
Глава 8
Мама остановила машину у садовой стены и потянулась. В плечах у нее при этом что-то тоненько хрустнуло, и она засмеялась.
– Становлюсь старой, – сказала мама. – А была уверена, что со мной этого не произойдет никогда.
– Ты не становишься старой, тебе еще только тридцать пять лет, – рассудительным тоном заметила Мари. И тут же с любопытством спросила: – А почему ты была уверена, что не сделаешься старой?
– Потому что твой отец всегда относился ко мне как к ребенку. И до сих пор так относится. Ну, если не совсем как к ребенку, то все-таки как к очень юному существу. Хотя дочке, которую я ему родила, завтра исполняется десять лет.
Дочка, которой завтра исполнялось десять лет, зажмурилась от удовольствия. День рождения у Мари был в мае. В этом году Пасха наступила поздно, поэтому он совпал с пасхальными каникулами, и его решили отпраздновать здесь, в Кань-сюр-Мер.