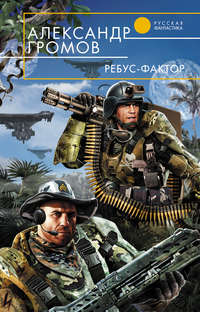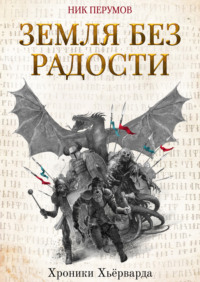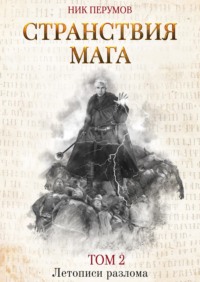Полная версия
Французская жена
Нинка растерянно огляделась. Она не понимала, что сделала, и не понимала, что ей делать теперь. Она украдкой покосилась на Феликса. И увидела, что выражение его лица переменилось – теперь оно было не жесткое, а какое-то тревожное и тоже почти растерянное. Это показалось ей таким удивительным, что она уставилась на него уже не украдкой, а во все глаза.
– Слушай, – сказал Феликс, – ты, я так понял, одна живешь?
– Как ты, интересно, это понял? – хмыкнула Нинка. – Квартира не тесная, почему я должна в ней одна жить?
Как только она почувствовала в нем растерянность, то в себе сразу же почувствовала уверенность. Подумаешь, гипнотизер нашелся! С ней эти штучки не пройдут!
Феликс прищурился, всмотрелся в ее лицо – для этого ему потребовалось ровно три секунды – и усмехнулся. Нинка поняла: ее самоуверенность стала ему понятна так, как если бы она объяснила ее причину словами. То ли его проницательность была чрезмерной, то ли, что более вероятно, у нее все было написано на лице, и читать эту книгу не составляло труда даже при средней проницательности.
Ей почему-то стало стыдно. Хотя – ну чего стыдиться?
– Фактически одна, – отводя взгляд, кивнула Нинка. – Мама теперь за городом живет с новым мужем. Отец… Тоже отдельно. Бабушка давно уже на дачу перебралась. Я одна, – повторила она.
– Тогда я у тебя переночую, – сказал Феликс.
Растерянность, мелькнувшую было в его голосе, как ветром выдуло.
– Еще чего! – возмутилась Нинка. – Мы еще в законный брак не вступили, между прочим. И вообще, я так поняла, у нас с тобой нормальная фиктуха. Типа ради прописки.
– Прописываться я у тебя не собираюсь. Цель свою я тебе изложил.
– Дурацкая какая-то цель, – заметила Нинка. – Забронировал бы отель по Интернету, получил бы визу. Дешевле вышло бы, чем вся эта бодяга.
Феликс ее замечание проигнорировал. Кажется, он успел увериться в незначительности ее умственных способностей. И правильно, между прочим: все ее поступки, свидетелем которых он был, убеждали именно в этом.
– Ты сейчас куда? – спросил он.
– Домой, – вздохнула Нинка. – Ликвидировать последствия похмелья.
– Пиво пить?
– Я еще не алкоголик пока что. Просто поем. Может, хоть мутить перестанет.
– А еда у тебя есть? – поинтересовался он.
– А ты теперь обо мне заботиться будешь? – усмехнулась Нинка. – На правах жениха?
– Почему о тебе? О себе. Надо же мне чем-то питаться. Или ты дома сразу начнешь для меня борщ варить?
– Не начну, – заверила его Нинка. – Ни сразу, ни постепенно. Можешь закупать жратву. Готовую бери, чтоб разогреть только.
Она ожидала, что в соответствии с этим ее указанием он купит хлеб и колбасу, но Феликс остановил свое автомобильное чудище на Тверской у магазина, на котором красовалась вывеска «Домашняя еда». Судя по расположению и сияющим сквозь витринное стекло интерьерам, домашняя еда в этом заведении должна была стоить как в добром ресторане. Нинка даже и не заметила, когда этот магазин открылся, и уж тем более не пришло бы ей в голову что-то здесь покупать. Она чуть было не остановила Феликса, но вовремя опомнилась. Еще не хватало деньги его экономить! Не забыл бы обещанное отдать, а все остальное ее не касается, пусть хоть золотой унитаз приобретает.
От огромной коробки, которую он вынес из магазина, шел соблазнительный запах. Всю дорогу до дому Нинка шмыгала носом, чтобы было не слишком заметно, как она принюхивается.
«Ну а что такого вообще-то? – думала она при этом. Или, может, не думала даже, а просто успокаивала себя. – Кто сказал, что жить надо по линеечке? Да у меня и все равно никогда так не получалось. Возьму и поставлю штамп, ничего особенного. Да плевать мне, как это все со стороны выглядит!»
Правда, при этом Нинка некстати вспомнила, как Феликс уличил ее в сознании собственной исключительности, и рассердилась на себя за все дурацкие мысли, которые лезли в голову.
Но авто уже въезжало в Ермолаевский переулок, уже останавливалось у решетки перед аркой, и рассуждать, как правильно и как неправильно, больше не имело смысла.
Глава 3
– Я ее раз в жизни только видела.
– Давно?
– Года два назад. Она вообще недавно обнаружилась.
– В каком смысле обнаружилась?
– Ну, объявилась. Бабушка даже не знала, что у нее в Париже сестра есть. То есть не сестра, а эта… Как называется, когда сестра по отцу?
– Сестра и называется, – пожал плечами Феликс. – Единокровная.
– Ага. Бабушкин отец в конце войны без вести пропал. Все думали, он погиб, а он, оказывается, в лагере немецком был. Ну и понял, что дома его сразу на Колыму отправят. Это бабушка так думает, что он понял, – уточнила Нинка. – Она говорит, умный он был. В общем, из лагеря его американцы освободили и обратно во Францию отправили.
– Почему обратно?
– Потому что он из Франции в СССР перед самой войной и приехал, типа эмигранты возвращаются на родину, а потом, выходит, обратно, видишь, как бывает. Короче, диковатая какая-то история, я особо не вникаю. Факт, что имеется двоюродная бабка в Париже. Одинокая, обалдела от русской родни, зовет в гости. Почему не воспользоваться, правильно?
Феликс не ответил. Его явно не интересовали Нинкины жизненные обстоятельства. Ей стало грустно. Не из-за его к ней равнодушия, конечно – его-то и не должна она была интересовать, – а из-за того, что его равнодушие было органичной частью того, что Нинка с недавних пор чувствовала со всех сторон. Всем, кого она знала, кого любила, чью любовь чувствовала всегда, – всем было теперь не до нее.
Лампу в кухне не включали, лишь свет уличного фонаря рассеянно падал из окна. В этом неярком свете видно было только, что глаза Феликса сумрачно поблескивают, а что в его глазах, о чем он думает – это было непонятно.
– Ты у нее будешь жить? – спросил он наконец. – У этой своей бабки-тетки?
– Не-а. Может, первое время только. А потом – мерси, лучше квартиру сниму. На полученные от тебя деньги, – на всякий случай напомнила Нинка. – А то знаю я эти французские штучки – там не садись, сюда не ступай. Тем более не одна она живет, конечно.
– Ты же говорила, одна.
– Я говорила, что одинокая. А живет, наверное, с любовником.
– Почему?
– А почему нет? Не очень же еще старая. Ей лет сорок или что-то вроде.
Феликс снова замолчал. Нинкина родственница явно интересовала его еще меньше, чем сама Нинка.
– Слушай, – спросила она, – а зачем ты все-таки это затеял? В смысле, фиктивный брак. Была б я хоть гражданка Евросоюза, тогда понятно. Но я же по студенческой визе еду, у меня временный вид на жительство. Какой тебе от меня толк?
– А ты всегда живешь исключительно толково?
– Не всегда, – вздохнула Нинка. – Даже практически никогда.
Когда она полчаса назад вышла в кухню, он уже сидел вот так, как сейчас, на стуле у подоконника, и глаза его точно так же сумрачно поблескивали в тусклом свете уличного фонаря. Наверное, ему тоже не спалось.
Из-за этой общей бессонницы они и беседовали теперь так доверительно о бестолковости, которая присуща, как выяснилось, им обоим, несмотря на всю их полную и очевидную несхожесть.
– Ты в Париже был когда-нибудь? – спросила Нинка.
– Нет.
– А я только в детстве. А французский знаешь?
– В школе учил.
– А меня мама французскому учила. Ну и повезла в третьем классе на зимние каникулы в Париж. А когда тетка обнаружилась, так запилили меня, чтоб я снова во Францию поехала, типа погостить и культурки понабраться. Но сначала мне неохота было, а потом маме не до меня стало.
Уточнять, что мамины уговоры приобщаться к мировой культуре пришлись как раз на то время, когда в ушах у Нинки только и стояли слова: «С твоей уродской рожей и жирной жопой ты за парня должна зубами держаться, а не выпендриваться!» – уточнять это она не стала.
Может, Кирилл высказался тогда, уходя от нее, и грубо, но ведь честно. Взгляд на свое отражение в зеркале – глазки-изюминки, нос-картошка – и сейчас не добавлял Нинке оптимизма.
Правда, за время своей байкерской жизни с Вольфом она прилично похудела, но не помогло ведь и это, Вольф ее тоже бросил. А два случая подряд – это уже диагноз.
– Вообще-то мне в Америке больше понравилось, – тряхнув головой, чтобы избавиться от дурацких воспоминаний и мыслей, сказала Нинка. – Я с родителями три месяца жила, когда они там в командировке были. Ничего так, весело. Только я тогда еще малолетка была, классе в десятом.
– А сейчас тебе сколько? – спросил Феликс.
– Двадцать.
– Крупно, – усмехнулся он.
– А тебе? – в свою очередь поинтересовалась Нинка.
– Тридцать три.
– Типа возраст Христа?
– Я атеист.
– Ничего себе! Ты еще и коммунист, может?
– Почему коммунист?
– А почему атеист?
– Жизнь научила. Слушай, шла бы ты спать, а?
Феликс поморщился. Видно, ему все-таки надоели наконец ее дурацкие вопросы; не помогла и доверительная атмосфера их общей бессонницы.
Уходить из кухни Нинке не хотелось. Настроение и так было препоганое, а тут еще разные неприятные вехи биографии некстати вспомнились… При мысли о том, что вот сейчас она останется наедине с собой, ей становилось тошно.
– Я есть хочу, – сказала она. – Там пирог с капустой остался еще или ты доел?
– Если ты сразу весь не слопала, то остался.
Нинка открыла коробку, привезенную из «Домашней еды», и вынула оттуда остатки круглого пирога с капустой. Пирог в самом деле имел совсем не общепитовский вкус, но вообще-то она потребовала его сейчас не поэтому, а только чтобы протянуть время. Бабушка была такой виртуозной кулинаркой, и всякие домашние вкусности, включая пироги, были в доме таким обычным делом, что поразить этим Нинку было невозможно.
Пока она через силу жевала пирог, Феликс молчал. Нинка никогда не видела человека, который мог бы молчать так долго не в одиночестве. То есть она видела, конечно, как люди молчат и вдвоем, и втроем, но при этом они читали, или что-нибудь писали, или хоть телевизор смотрели. А он просто молчал, поблескивая темными глазами, и был окружен своим молчанием, как прозрачным коконом, через который пробивались лишь звуки, но никак не чувства. Правда, его молчание не угнетало, но интриговало точно.
– Когда мы в Париж поедем? – спросила Нинка, поняв, что от него слова не дождешься, а значит, сейчас ей придется все-таки уйти из кухни.
Не навязываться же ему, раз он так явно дает понять, что не нуждается в обществе своей будущей супруги.
– Ты – хоть завтра, – сказал он. – Выйдем из загса, сходим к французам, я подам на визу, деньги тебе отдам, и езжай себе прямо в аэропорт. Устраивает такая программа?
– Ты же хотел, чтобы я тебя вывезла, – хмыкнула Нинка.
С ума можно было сойти от загадочной жизни, которая происходила у него внутри, лишь изредка выплескиваясь на поверхность какими-то необъяснимыми протуберанцами!
– Я хотел, чтобы в случае чего у меня была зацепка: жена учится в Париже, желаю жить при ней, не препятствуйте моим тонким чувствам и продлевайте визу до бесконечности.
– В случае чего – до бесконечности? – насторожилась Нинка.
Может, он там героином собрался торговать! С такого станется.
– Не беспокойся, я не наркодилер.
«Мысли, что ли, читает?» – подумала она с опаской.
А вслух сказала:
– Очень надо о тебе беспокоиться! Главное, про деньги не забудь. А то мне больше взять неоткуда, иначе за тебя не пошла бы.
Это был единственный сколько-нибудь разумный резон, которым оправдывалось ее слаборазумное поведение – весь этот так называемый законный брак. То есть, конечно, можно было не поддаваться на Феликсову провокацию, а просто сказать маме, что потеряла деньги, выданные на Францию. Мама ахнула бы, расстроилась, но наверняка нашла бы еще.
Года два назад Нинка так бы и сделала. Но теперь все изменилось: денег у мамы теперь нет и в ближайшем будущем не предвидится. Не только лишних, но практически никаких, потому что она уже месяц в декрете и сколько еще не будет работать, после того как родится ее новый младенец, непонятно. То есть денег-то у мамы, конечно, предостаточно, но они ведь не ее, а ее супруга, тоже нового. При мысли о том, чтобы взять деньги у него, Нинке становилось так противно, что противнее, пожалуй, была бы лишь необходимость взять деньги у отца, который, когда она изредка ему звонила – сам он не позвонил ей со времени своего ухода ни разу, – после двух дежурных вопросов о дочкиных делах начинал рассказывать о своей Анжелике и даже зачем-то передавал ей трубку; видимо, хотел, чтобы они с Нинкой подружились.
– Про деньги не забуду, – сказал Феликс. – А зачем ты их все-таки своему байкеру отдала? Я так и не понял.
– Зачем, зачем… – буркнула Нинка. – Ни за чем! – Но все-таки объяснила нехотя: – Он сказал, что нам надо расстаться. Типа мы исчерпали интерес друг к другу, а жизнь не стоит на месте, и надо идти вперед. Ну, я и выпила с горя. А деньги, кажется, и правда в огонь швырнула. Типа мне ничего не нужно, жизнь кончена, – совсем уж смущенно добавила она. – Это на даче у одних было, там у них буржуйка – вот в нее. Из огня Вольф деньги вытащил, но я их все равно обратно у него не взяла. Рыдала там, страдала, все как положено. Тогда он меня в койку затащил, чтоб успокоилась. Полюбил и уснул. А я слегка протрезвела и одежду свою в буржуйке сожгла.
– Царевна-лягушка, – усмехнулся Феликс.
– Да нет, – шмыгнула носом Нинка. – В Василису Прекрасную, как видишь, не превратилась.
– А какого черта он тебя к Мерзляковым привез?
– К каким Мерзляковым?
– К тем, у которых ты сегодня утром проснулась.
– А!.. Понятия не имею.
– Вообще-то как раз это понятно. У них там столько народу толпится, что хоть слона голого привези, никто и внимания не обратит. Байкер твой тебя, к твоему сведению, в прихожей сгрузил и смылся.
– Да я и так знаю, что он гад, – вздохнула Нинка. – Но он… Ну, мне казалось, он меня любит.
– И что? Каждому, кто любит, надо под ноги стелиться?
– Прям-таки каждому! – фыркнула она. – Очереди из влюбленных я что-то к себе не наблюдала.
– Меньше за этим наблюдай – будут тебе влюбленные.
– Слушай, – поколебавшись, проговорила Нинка, – а мы с тобой… Ну, когда Вольф меня в прихожей сгрузил… Мы с тобой переспали?
Все-таки он действовал на нее подавляюще. Может, потому, что был намного старше? Вот, пожалуйста, она даже не решается в его присутствии называть своими именами совершенно нормальные вещи, хотя он совсем не производит впечатления кисейной барышни.
Кажется, Феликс это понял. Ну да, он же без труда читал ее простенькие мысли.
– Нет, – сказал он. В его голосе впервые не послышалось насмешки. – Мы с тобой не переспали. Я, конечно, не рыцарь без страха и упрека, но все-таки не до такой степени. – И тут же добавил уже обычным своим тоном: – Так что не волнуйся, невинность ты не утратила. Во всяком случае, не со мной.
– Дурак! – только и смогла выпалить Нинка.
Глава 4
«Ну ско-олько можно!.. Уже полчаса чемодан никак не застегнет! Неужели все француженки такие?»
Нинка то пересаживалась с дивана на стул, то выходила в кухню, делая вид, что пьет воду, то подходила к окну – оно, как почти во всех старых парижских домах, было высокое, от пола до потолка – и сквозь растущие на узеньком балкончике цветы смотрела вниз, на заманчиво пестреющую сладостями витрину кондитерской через улицу, то разглядывала старые фотографии в антикварных рамочках, которые стояли в гостиной на чем-то вроде старинного буфета без верха.
И все это время тетушка с рассеянным видом бродила по комнате, то и дело вспоминала про очередные подарки, которые приготовила для Москвы и чуть не забыла в спешке сборов, или сетовала, что не все успела купить и теперь вот едет без такой совершенно необходимой вещи, как специальный полукруглый валик, на который кладут младенца для удобного кормления грудью…
Сначала Нинка пыталась донести до тетушкиного сознания, что сама узнала и случайно запомнила во время телефонных бесед с Москвой: что молока у мамы почти нет, так что кормить младенца грудью она сможет от силы месяц, да, может, уже и не кормит, но потом поняла, что незачем впустую сотрясать воздух.
Жизнь тети Мари проходила в таком собственном мире, что все попытки внедриться в этот мир с посторонней информацией не могли иметь успеха.
«Была бы она хоть аутистка, что ли! – сердито думала Нинка. – Тогда по крайней мере понятно: диагноз, что возьмешь. Так ведь нет, нормальная баба. Но что у нее в голове – хоть тресни, не разберешь!»
Нинка видела немало людей, поступки которых определялись самыми экзотическими побуждениями, да и сама рациональностью не отличалась. Но тетушка в самом деле ставила ее в тупик.
Она была не то чтобы нерациональна или не от мира сего – трудно, кстати, представить, чтобы человек не от мира сего устроил свой дом с таким вкусом, с каким была устроена квартира на улице Монморанси, – но при всем этом Нинка чувствовала, что тетушкино поведение подчиняется такой логике – или даже не логике, а неизвестно, как это называется, – которая обыкновенному человеку совершенно непонятна.
В первую неделю после своего приезда в Париж Нинка впадала из-за этого в некоторую оторопь, но вскоре решила, что не стоит забивать себе голову тем, что не имеет к ее жизни прямого отношения, и перестала интересоваться сложностями тетушкиного внутреннего мира.
Внешний же ее мир, вот эта самая квартира в Марэ, был так хорош и удобен, что Нинка даже жалела, что скоро придется отсюда съезжать – не век же ей жить у родственницы.
Так что она обрадовалась, узнав, что тетушка решила навестить московскую родню, повидать новорожденного родственника Митеньку, а потому просит Нинку пожить еще с месяц здесь, в ее квартире.
– Но, Нина, скажи, ты действительно не едешь сейчас в Москву из-за своей учебы? – уточнила она, перед тем как заказать билет. – Не из-за денег? Мне не хотелось бы, чтобы тебя удерживали деньги. Это действительно нетрудно мне – оплатить твою дорогу, чтобы ты могла поскорее увидеть твоего брата. Я ведь знаю, чего стоит разлука с родными и это… прикосновение сердцем. Может быть, мы с тобой все-таки поедем вместе?
Нинка не ехала в Москву, конечно, совсем не из-за учебы, это соображение никогда не играло в ее жизни никакой роли. Но объяснять тетушке подробности своего душевного состояния, тем более такие подробности, которые Нинка и сама не очень понимала, ей совершенно не хотелось.
Поэтому она только правдоподобно пожала плечами и так же правдоподобно соврала:
– Да нет, как я сейчас поеду? Только-только занятия начались. Я лучше каникул дождусь.
К рождественским каникулам она, конечно, уже будет жить отдельно от тетушки Мари, так что обойдется без ненужных объяснений.
– Такси у подъезда, – доложила Нинка, в очередной раз выглянув в окно. – Давайте чемодан.
Тетушка надела плащ – он у нее был какой-то необыкновенный, казалось, невесомый, как какая-нибудь мантия феи цветов, что ли, – и взяла большую коробку с игрушечной железной дорогой для Данечки.
Данечка был внуком средней из трех сестер Луговских, Нелли. Ему недавно исполнилось два года, это событие торжественно отмечали на даче в Тавельцеве незадолго до Нинкиного так называемого замужества, о котором, кстати, родня не знала до сих пор.
День тогда был такой жаркий, что из-за стола, стоящего под яблоней, то и дело кто-нибудь бежал к речке, благо она протекала здесь же, по краю сада, возвращался мокрый, веселый и набрасывался на еду с новыми силами. И все жалели, что Ваня, Данькин отец, завтра уезжает в очередную экспедицию на Байкал, а какое прекрасное лето стоит, как бы хорошо всем вместе было на даче, и Оля с Германом живут ведь совсем рядом, могли бы часто приезжать, особенно когда Оля выйдет в декрет, и даже Нинка, хотя бы жары ради, почаще выбиралась бы из города, ну что ей в этом дурацком мотоциклетном чаду там сидеть…
Все казалось идиллическим в тавельцевском летнем саду, и все странности, сложности, несообразности, которыми на самом-то деле была наполнена и переполнена жизнь всех, кто сидел за этим праздничным столом – ну, кроме Даньки, может, – все это казалось неважным, даже несуществующим.
А Нинка в тот день изнывала от того, что приходится отдавать дань семейным ценностям, вместо того чтобы лететь на байке сквозь жаркий воздух, звенящий над шоссе, и чувствовать щекой горячую Вольфову спину.
– Когда закончится та еда, которая приготовлена, ты можешь пойти за продуктами на рынок, – сказала тетушка, уже стоя на пороге. – На Марш дез Анфан Руж, ты знаешь, где он находится? Надо войти с улицы Шарло. Там все свежее каждый день.
– Обязательно пойду, – кивнула Нинка.
«Еще не хватало! – подумала она при этом. – На рынок тащиться, готовить потом, да еще каждый день… Что я, ненормальная?»
Нинка просто обалдевала от французской привычки каждый день посещать рынок или десяток лавочек и покупать всего по кусочку, чтобы все было свежее. Она являлась сторонницей американской кухни: купил по дороге домой еду в коробочке из фольги, разогрел в микроволновке, из той же коробочки и съел.
Один лишь взгляд на бесчисленные, непонятного назначения штучки для готовки, которыми изобиловала тетушкина – да, насколько она уже поняла, не только тетушкина, но и любая французская кухня, – приводил Нинку в уныние.
Набор для раклетт – специальные решеточки и сковородочки, предназначенные исключительно для расплавления сыра! Разве нормальному человеку придет в голову этим пользоваться?
Нинка с энтузиазмом схватила чемодан и первой выскочила на лестницу. Лифта в доме не было, и они с тетушкой спускались с третьего этажа гуськом, потому что лестницы в восемнадцатом веке делали узкими. Нинка никогда еще не жила в такой вот сплошной истории, какой был этот дом, но, к собственному удивлению, это ее не угнетало. На улице Монморанси были, кстати, дома и постарее.
Водитель поставил чемодан и коробку в багажник. Тетушка поцеловала Нинку, окутав ее едва уловимым запахом духов. Духи у нее были какие-то странные – тревожные, как Нинке казалось. Вообще, во всем, что составляло тетушкину жизнь, по первому впечатлению очень размеренную, до скуки однообразную, Нинка почему-то чувствовала тревогу. Слишком все это было… тонко; да, именно так.
Но вдаваться в такие малопонятные размышления больше не было необходимости. Такси повернуло за угол улицы Монморанси и скрылось из виду. Еще мгновенье повисел над Нинкой легкий запах духов – и все исчезло. И наступила свобода! От всех посторонних неясностей жизни.
Нинка взялась было за массивную золотистую ручку на такой же массивной зеленой подъездной двери, но вдруг поняла, что сразу возвращаться домой ей не хочется.
Париж тем и хорош, что в нем легко находятся соответствия любому настроению. А уж настроению свободы – точно.
Нинка неторопливо двинулась к площади Вогезов. Она давно уже приметила там кафе, в котором варили отличный кофе. Впрочем, кофе в Париже везде был отличный, так что можно было считать, что кафе понравилось Нинке не поэтому.
Да и не все ли равно, почему оно ей понравилось! Ей было легко и хорошо – впервые в жизни ей было не скучно, а хорошо от того, что она находится в полном одиночестве. Хороший город Париж!
Она сидела за столиком, разглядывала прохожих, пила третью чашку кофе, заедая его тоненькой, как лепесток, шоколадкой, и представляла, какой прекрасный ее ожидает месяц.
Учеба необременительна – французский-то она в детстве знала, и не все еще выветрилось у нее из головы, теперь приходится только припоминать подзабытые слова да запоминать новые, а это не так уж трудно.
Быт не угнетает нисколько – еще бы он угнетал в аристократическом квартале, где все приспособлено для жизни утонченной и приятной.
Приятели кое-какие уже появились, потому что вместе с ней в Сорбонне изучает французский целая уйма разноплеменного народа. Конечно, общение с этими новыми приятелями самое поверхностное, но ей сейчас никакого другого и не надо.
В общем, живи не хочу. Денег, конечно, маловато – супруг мог бы и побольше выдать за счастье заключить с ней законный брак. Где он, интересно? Ни слуху о нем, ни духу. Вроде бы должен быть уже в Париже, но что-то не объявляется.
Впрочем, о супруге своем Нинка размышляла довольно безразлично. Если в первый день их стремительного знакомства Феликс еще будоражил ее воображение и отчасти уязвлял самолюбие полным своим к ней безразличием, то теперь не было и этого ощущения.
Париж отодвинул ее прошлое на какой-то очень дальний план, а как это получилось, Нинка даже не понимала. Если она и о фатальном своем любовном невезении, и даже о родительской новой жизни думает без прежней боли, то что уж ей до какого-то едва знакомого типа с его необъяснимыми авантюрами! По-настоящему замуж она же не собирается – в принципе не собирается, никогда, – так что посторонний штамп в российском паспорте, пусть и поставленный сдуру, нисколько ее не угнетает.