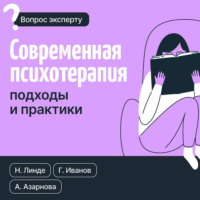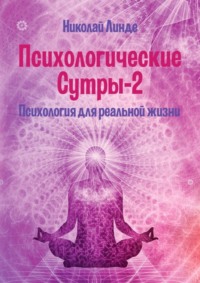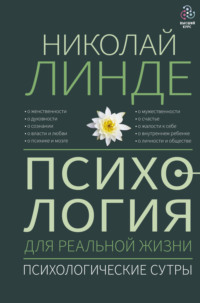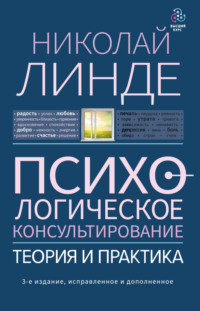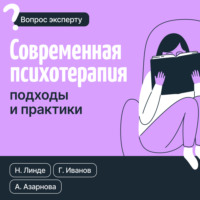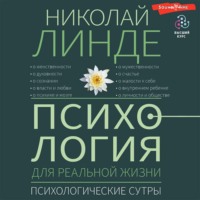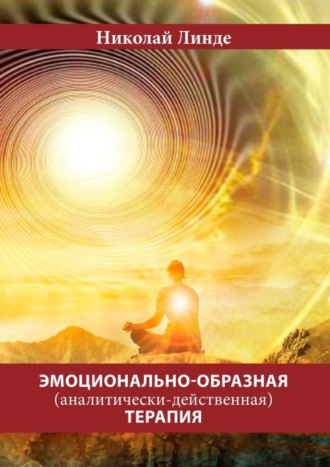
Полная версия
Эмоционально-образная (аналитически-действенная) терапия
10. Когда терапевт понял (или еще не совсем понял) суть основного внутреннего конфликта клиента, он задает вопросы, цель которых – привести клиента к точному пониманию первоисточника своих проблем. Для этого используется метод сократического диалога. Как известно, Сократ умел так задавать вопросы даже безграмотному человеку, что тот вынужденно приходил к правильному выводу, открывал для себя великую истину. Сократ, конечно, заранее знал эту истину, но помогал ее рождению в уме оппонента. По сути дела, эти вопросы предполагают вынужденный, очевидный ответ. Цепочка таких вопросов и ответов приводит к инсайту! Поэтому и говорится, что истина рождается в споре (а правильнее – в диалоге)! Терапевт позволяет себе вести клиента, пользуясь сократическим методом, к самопознанию и самоизменению, если, конечно, последний с этим процессом согласен. Сократический диалог.
11. В тот момент, когда терапевт достигает уверенности в том, что он понял истинную причину, порождающую страдания, а образ этой причины ясно актуализирован здесь и теперь, он может дать свое объяснение (интерпретацию) проблемы. После чего предлагает клиенту применить тот или иной прием воздействия (см. ниже) по отношению к образу причины, смысл которого состоит в адекватном разрешении исходного динамического конфликта. Воздействия и интерпретации.
Здесь очень важен темп работы и текущие переживания, если упустить время, то актуальные чувства уйдут, образ потеряет связь с эмоциями, воздействие на него не будет иметь результата. Поэтому иногда не стоит тратить время на интерпретации. Но согласие клиента на некоторые действия с образом обязательно, и он сам же их и осуществляет в своем внутреннем мире, сообщая о результатах. Эти результаты терапевт оценивает как подтверждающие его гипотезу или опровергающие.
Работа с образом происходит в реальном времени, терапевт отслеживает динамику переживаний клиента, наблюдает за его психосоматическими реакциями в ходе применения воздействий. Если динамика изменений позитивна, то он предлагает повторять воздействие несколько раз, пока не будет достигнуто полное позитивное изменение образа и состояния. Если результат негативен, то это также интерпретируется, воздействия могут быть отменены и совершены воздействия прямо противоположного смысла. Но причины первичного неуспеха анализируются, иногда оказывается, что, несмотря на объяснения и четкую инструкцию, клиент сделал все ровно наоборот. Например, терапевт предложил ему принять Внутреннего Ребенка, а он опять отверг его. Причины таких действий опять изучаются совместно с клиентом.
Хотя при длительной индивидуальной работе, состоящей из серии сеансов, дается множество интерпретаций и разъяснений, применяется множество воздействий, позволяющих снять одну за другой слои психологических защит и заблуждений. Интерпретации часто даются потом, после того как коррекция успешно завершена.
Для коррекции выявленной проблемы могут применяться разнообразные техники, которые будут описаны ниже, им посвящена отдельная глава. Они применяются в соответствии со смыслом проблемы, а не механически. Сами приемы коррекции являются эмоциональными по своей сути воздействиями, а не «техническими» изменениями образов.
12. Часто клиент сопротивляется тому, чтобы осознать что-то или изменить нечто в себе, несмотря на то что на словах стремится к самопознанию и исцелению. Уже говорилось, что в соответствии с принципами, практикуемыми в психоанализе, мы подвергаем исследованию само сопротивление. Обычно мы просим клиента создать образ того, что мешает ему понять самого себя или изменить самого себя. Потом этот образ изучается так же, как и все прочие. Работа с сопротивлением.
Например, женщина, участвовавшая в работе терапевтической группы, на мои вопросы отвечавшая обычно быстро и не задумываясь, вдруг стала «тормозить». Причины этого были совершенно неясны, и я предложил ей представить образ своего «торможения». Почему-то это был образ трехлетней девочки. Также я предложил пересесть на стул, куда был спроецирован образ девочки, и идентифицироваться с ним. Когда она это сделала, то «торможение» ее только усилилось, она уже совершенно не отвечала на мои вопросы: почему? зачем? и т. д. Я догадался и спросил: «А для кого ты тормозишь?» Ответ прозвучал молниеносно: «Для бабушки!» Тут выяснилось, что девочка в три года воспитывалась авторитарной бабушкой и сопротивлялась ей с помощью пассивного упрямства. Получилось, что сопротивление мне как терапевту было переносом ее сопротивления бабушке! В психоанализе считается, что осознания этого факта достаточно для снятия сопротивления, но на самом деле это не так, потому что первичный конфликт все равно остается неразрешенным. Поэтому мы пошли другим путем, мы предложили этой женщине от имени девочки сказать бабушке, что она достаточно умна сама по себе и не нуждается в бабушкиных поучениях и ее давлении. После нескольких повторений девочка (и клиентка в одном лице) почувствовала полное освобождение от бабушкиного влияния и «торможение» прекратилось полностью.
Моя ученица Ирина Таболина предложила свой оригинальный метод работы с сопротивлением. Когда даже идентифицированный с образом клиент не отвечает на вопросы, образы не видит, ничего не чувствует, она предлагает ему встать со стула, зайти за его спинку и сказать о том, кто он такой, кто не дает клиенту говорить. Если и в этом случае клиент молчит, ему предлагают сделать еще один шаг назад и встать за спиной предыдущего персонажа. Его опять спрашивают, кто он и почему не дает клиенту говорить? Так продолжается иногда до семи шагов назад. Но рано или поздно клиент после очередного шага начинает говорить, и выясняется, какие части личности или образы других людей не позволяли ему продвигаться вперед. Сопротивление после этого заканчивается.
Возможны и другие приемы работы с сопротивлением, например, те, которые приняты в психоанализе или других терапевтических модальностях.
Например, можно похвалить клиента за мужество и изворотливость, проявленные при сопротивлении. Можно сказать, что он награждается почетной медалью «Герой сопротивления». Можно заключить с ним дополнительное соглашение: «Я добьюсь успеха в терапии, даже если это понравится моей матери (отцу) и терапевту». После этого сопротивление уменьшается или вовсе исчезает.
2. Создание гипотезы
Выше уже было сказано, что все исследование образов ведется, исходя из гипотезы, которая каким-то образом возникает в уме терапевта. И этому процессу необходимо уделить особое внимание, ибо от него все зависит. Как действительно возникает гипотеза? Это творческий процесс, и до конца он не может быть раскрыт. Но мы можем объяснить, что такое гипотеза, и определить важные предпосылки ее возникновения и процедуры ее проверки.
Гипотеза – это обоснованное предположение консультанта о механизмах или психологической причине, порождающей данную проблему клиента. Гипотеза в ходе работы превращается в уверенное знание.
В литературе практически отсутствуют какие-либо сведения о том, как создается терапевтическая гипотеза. Это связано с тем, как уже сказано, что почти невозможно описать творческий процесс, с помощью которого терапевт приходит к своим догадкам. Кроме того, гипотеза создается на языке той или иной теории, поэтому и гипотезы разные, и процесс их создания различается в разных школах. Однако мы постараемся, насколько возможно, заполнить этот пробел, невзирая на различия школ.
Хорошо сформированная гипотеза содержит в себе ответы на основные вопросы:
– Какое нереализованное (фрустрированное) желание (или влечение) клиента порождает исследуемую проблему?
– Какова природа преграды, не позволяющей ему достичь желаемого?
– Какие условия или события в прошлом клиента способствовали возникновению этого конфликта?
Например, клиентка испытывает страх воды. Воображаемое постепенное погружение в воду выявило, что страх возникает, когда вода касается горла. Девушке кажется, что вода может ее задушить. На вопрос о том, не душил ли кто-то ее ранее, ответила утвердительно: «Напал мужчина в темном парке, пытался задушить. Но мимо проходили люди, поэтому он испугался и убежал». Темных аллей она тоже боится.
Гипотеза очевидна:
а) фрустрирована потребность в безопасности;
б) преградой к ощущению безопасности является прошлый опыт, когда клиентка не могла себя защитить и испытывала беспомощность и страх. Страх актуализируется в ситуациях, ассоциативно вызывающих воспоминания о перенесенной травме (прикосновение воды к горлу или темные аллеи);
в) событие, породившее устойчивое состояние страха, – это нападение маньяка, пытавшегося задушить девушку. Сами воспоминания в сознании не возникают, видимо, из-за вытеснения, эмоции проявляются без осознания их связи с первичной ситуацией.
Окончательная проверка гипотезы произошла в результате применения приема перестройки прошлого опыта. Для этого клиентке было предложено представить себя сильной, непобедимой и сделать с этим мерзавцем все, что ей хочется. Она «мутузила» его, пока не почувствовала полное удовлетворение, а он (в ее воображении) не убежал. Она почувствовала, что больше он ей не страшен, представляемое погружение в воду тоже больше не пугало ее. Она смогла в воображении погрузиться в воду не только до уровня горла, но и с головой, больше не испытывая страха. Что подтверждает правильность гипотезы и исцеляющих воздействий.
Это достаточно простой для анализа случай, поэтому он и приведен для примера. Но уже тут можно заметить, что появляются новые аспекты гипотезы. Например, высказывается идея о том, каким образом прошлый опыт порождает страх и почему клиент вспоминает только эмоции, не вспоминая травматическую ситуацию.
Гипотеза может иметь много дополнительных идей, объясняющих:
1) каким способом внутренний психологический конфликт порождает симптомы;
2) каков смысл каждого симптома с точки зрения его места в структуре целостной проблемы;
3) почему клиент не осознает каких-то психических феноменов;
4) как еще может сказываться внутренняя проблема на жизнедеятельности клиента;
5) какие формы адаптации применяет клиент, чтобы избежать столкновения со своей проблемой;
6) какие выгоды он получает от существования проблемы;
7) каким образом проблема связана с характером клиента или особенностями его родительской семьи и т. д.
Например, если отвечать на 1—4 пункты по предыдущей истории, то можно предположить:
1) что у клиентки нарушены отношения с мужчинами;
2) что она не только не заходит в воду, но развивает псевдотеорию о том, что у нее что-то «происходит с головой»;
3) что характер у нее закрытый, поэтому она никому не рассказывала о нападении;
4) что она проявляет комплекс беспомощности в каких-то других ситуациях и т. д.
Эти предположения можно проверить, задав дополнительные вопросы клиентке, но, может быть, они уже избыточны, поскольку главная причина ясна и терапия совершилась.
Приведенный пример, однако, не раскрывает того, как создавалась гипотеза, можно сказать: она сразу «упала» в руки терапевта уже практически в форме ясного знания. Поэтому нам следует раскрыть не только какова должна быть идеальная форма гипотезы, но и то, каким образом она создается и проверяется.
1. Прежде всего Такой теорией может быть психоанализ, теория А. Адлера [1, 2], транзактный анализ Э. Берна [7, 17, 19, 65], гештальттерапия [11, 49, 50], логотерапия В. Франкла [68] и т. д. Обычно терапевт стихийно является приверженцем одной какой-то концепции и создает гипотезу в рамках понятий, в ней употребляемых. Но может использовать и другую теорию, в наибольшей степени подходящую для объяснения данного случая. Такой эклектический подход в настоящее время кажется наиболее оправданным. основой создания гипотезы является некоторая психотерапевтическая теория.
2. Облегчает поиск адекватной гипотезы знание так называемых частных моделей. Этими моделями являются уже имеющиеся в научном психотерапевтическом обороте готовые теоретические конструкции, объясняющие возникновение тех или иных симптомов. Терапевт как бы примеряет эти уже известные ему шаблоны к объяснению наличных явлений и выбирает наиболее подходящий, уточняя его с помощью контрольных вопросов. Множество подобных моделей подробно изложены в моей книге «Психологическое консультирование. Теория и практика» [37].
3. Терапевту помогает знание различных терапевтических случаев. Новые случаи часто чем-то похожи на те случаи, которые уже встречались в практике терапевта. Или на те, о которых он читал в литературе. Или на те, которые наблюдал в работе других мастеров, например, обучаясь в группе.
4. Терапевту помогает его собственная клиентская практика, когда он был клиентом в процессе обучающей терапии (learning therapy). Многие проблемы он решает по аналогии со своими когда-то решенными проблемами, пользуясь арсеналом средств, использованным обучающим мастером. Гештальттерапевты шутят, что «клиент всегда приносит нам нашу проблему». Поэтому психотерапия – это исцеление самого психотерапевта, а исцеление клиента – побочный результат. Но в этой шутке больше правды, чем юмора. Терапевт всегда моделирует проблему клиента на себе, если он может решить ее для себя, то он решит ее и для клиента.
5. Терапевту помогают широкая эрудиция, знание философии и религии, просто большой жизненный опыт, знакомство с разнообразными жизненными коллизиями и характерами людей.
6. Терапевта ведут интуиция, способность к эмпатии, использование ощущений эмоционального резонанса к текущему состоянию клиента, умение поставить себя на место клиента, внимание к деталям, способность к творчеству, медитации и инсайту.
7. Наконец, терапевт должен обладать качеством проницательности, недюжинным интеллектом. Работа терапевта на этапе создания гипотезы похожа на работу следователя. Так же как среди сыщиков встречаются Шерлоки Холмсы и бездарные Лестрейды, так может быть и среди терапевтов. Следует тренировать свое профессиональное психологическое мышление.
8. Но, пожалуй, самое главное, что помогает терапевту, – это владение некоторой методикой поиска «улик». В психоанализе это метод свободных ассоциаций или метод анализа сновидений, в терапии А. Адлера – анализ ранних воспоминаний, в эмоционально-образной терапии – работа с образами эмоциональных состояний, в когнитивной терапии – регистрация и анализ автоматических мыслей и т. д.
Редко гипотеза рождается в готовом виде. Сначала она имеет не очень определенную форму, дальше она проверяется и уточняется. Для их сбора применяются различные методики, позволяющие извлечь нужную информацию из бессознательного мира клиента и из анамнеза. Но надо помнить, что часть информации можно узнать с помощью простых прямых вопросов, касающихся истории жизни данной личности. Некоторую информацию клиент может сознательно скрывать, некоторую искажать, а некоторую просто не знать о самом себе. Часть информации мы получаем из наблюдения за его невербальным поведением, а часть «вычисляем», исходя из сопоставления фактов, изложенных клиентом. Часть из сведений о семье клиента и ее истории мы получаем от третьих лиц, чаще родственников. Улики собираются, как кусочки мозаики, из самых разных источников.
Уже говорилось, что в ЭОТ главным источником «улик» служат образы, продуцируемые клиентом, когда ему предлагается представить, как выглядят те или иные его чувства или состояния.
Например, девушка жалуется, что у нее болит вся левая половина тела. Ей предлагается создать образ того, что создает эту боль. Удивленно она сообщает, что увидела своего отца, который орет ей в ухо, а она не хочет этого слышать. Причина ее психосоматического симптома становится абсолютно понятной, хотя в дальнейшем можно задавать множество вопросов, уточняющих ее отношения с отцом, которые скорее всего уведут нас в ее далекое детство. Для коррекции ее состояния я предложил ей мысленно сказать образу отца: «Ори, ори громче, я хочу тебя лучше слышать!» С удивлением она подтвердила, что «отец» успокоился, а вся боль, которую она испытывала, прошла. Потому что ее боль порождалась виртуальной борьбой с мнением отца, которого она при этом боялась. Когда борьба закончилась, то и боль исчезла.
Но каким методом ни пользовался бы терапевт, он собирает необходимую и достаточную информацию о проявлениях проблемы сейчас и истории жизни клиента и старается связать ее в единое целое с точки зрения возможных причинных связей. Если в картине, которую он для себя построил, не хватает каких-то звеньев, он задает дополнительные вопросы, позволяющие заполнить эти пробелы.
Все приемы типа свободных ассоциаций или создания образов и т. д. являются лишь способами задать правильный вопрос. Задачей является получение ответов на ключевые пункты гипотезы, перечисленные выше, которые должны быть раскрыты.
Гипотеза с помощью теоретических построений объединяет в единой системе: симптомы – чувства – образы – внутренний конфликт – события прошлого – хроническое негативное состояние.
Рис. 4
Приведу пример, на котором можно четко показать этапы создания гипотезы и ее проверки, кроме того, он иллюстрирует наши принципы работы с проблемами Внутреннего Ребенка (см. ниже).
Пример 9. «Противная крыса»
На семинаре студентка попросила помочь решить свою проблему. Она занималась гештальттерапией, попросила гештальттерапевта ей помочь, но у того не получилось, и она была разочарована. Она согласилась решать свою проблему прямо на глазах всей студенческой группы. Она жаловалась на частое ощущение внутреннего бессилия, апатии, но главным симптомом она считала «страх живота». То есть в ее животе таились какие-то неприятные ощущения, похожие на чувство напряжения, на страх, они особенно усиливались, если кто-то прикасался к ее животу, даже если это был ее друг. Она боролась с этим чувством, для этого даже сделала себе прокол в области пупка для кольца, но ничто ей не помогало. Еще ее мучили мысли о том, сможет ли она родить в будущем детей (пока что она еще не была замужем, ей было 20 лет). Назовем ее тоже Катей.
Я предложил ей представить образ этого «страха живота» на стуле перед собой. Она тут же сказала, что это противная грязная крыса с длинным хвостом. Крыса хотела что-то съесть внутри ее живота, какую-то черную точку. Эта точка и боялась! Итак, симптом (он же – чувство страха) превращен в образ.
– Спроси ее, зачем она это делает?
– Чтобы меня совсем не стало…
– А зачем нужно, чтобы тебя не стало?
– Просто она хочет, чтобы я не существовала…
– Почему?
– Потому что я лишняя, ненужная…
Очевидно, что «крыса» выражала скрытое стремление девушки к смерти (скрытый суицид), чаще всего оно возникает под влиянием родительских слов или действий, которые содержат указание «не живи». Ощущение себя ненужной и есть результат таких указаний. Осталось узнать, как это случилось… Комментарий.
– Скажи, с каких пор и почему ты чувствуешь себя ненужной?
– Всегда. Потому что мои родители не хотели меня рожать, я была незапланированным ребенком, и мама собиралась сделать аборт. Я была последним ребенком, лишним, у них уже были дети, им больше не было нужно. Тем более что я родилась, когда у них было очень трудное время, денег было мало. Потом, правда, меня все полюбили, и сейчас любят, очень любят, и папа и мама. Но все равно я все время стараюсь им как-то угодить, понравиться, чтобы оправдать, что ли, свое существование. (Гипотеза подтверждается.)
– (Обращается к студенческой аудитории.) В теории это называется «миф рождения», я рассказывал вам в лекциях. Ребенок берет на себя вину за свое рождение «не вовремя» или за «неправильное рождение», в результате у него обычно возникает депрессия и скрытое суицидальное намерение. По сути, ты уже сказала о своем желании не существовать…
– Как ни стыдно признать, но это есть. Одновременно я понимаю, что это неправильно. (Гипотеза подтверждается.)
– Понимаешь ли ты, что крыса делает в твоем животе именно то, что не сделала твоя мать? А именно – аборт, выгрызая яйцеклетку, которая и боится?
– Да, понимаю… (Гипотеза подтверждается.)
– Ты бы хотела избавиться от этой аутоагрессии, воплощенной в образе крысы?
– Да, конечно! Но я не знаю как…
– В таком случае я предлагаю тебе сказать этой крысе, что ты больше не будешь ее уничтожать, прогонять, отвергать. Скажи ей, что она хорошая, что ты ее принимаешь такой, какая она есть, и она тебе нужна. Говори: «Ты очень нужная мне крыса».
К этому моменту уже все стало ясно, и гипотеза превратилась в уверенность. Симптом, превратившийся в образ черной точки и крысы, наглядно показал конфликт, причина конфликта была подтверждена воспоминаниями о соответствующих событиях в детстве клиентки, породивших хроническое чувство ненужности, которое толкало клиентку к скрытому суицидальному намерению, которое порождало депрессивность и «страх живота». Предложенное воздействие должно устранить хроническое чувство ненужности и далее все остальные его последствия. Крыса – это образ отверженного ребенка, который осуществляет символический аборт ради любимых родителей. Вся эта схема соответствует теории Мэри и Роберта Гулдингов [17], учеников Э. Берна, о возникновении депрессии и скрытого суицидального намерения. Комментарий.
– Вслух или про себя?
– Лучше про себя… Но рассказывай мне, что происходит с крысой по мере того, как ты ей это сообщаешь.
– (Какое-то время сосредоточенно работает.) Крыса уменьшается.
– А тебе становится лучше или хуже? В животе?..
– Лучше…
– Тогда продолжай говорить ей то же самое…
– (Работает какое-то время.) Вместо крысы теперь возник щенок.
– Он тебе нравится?
– Очень симпатичный.
– О! Как у тебя засветились глаза! Как ты себя чувствуешь?
– (Смущенно, но счастливо улыбаясь.) Очень хорошо. Почему-то мне даже жарко стало, как будто в меня вошло какое-то тепло.
Возвращается теплое отношение к себе, которое сказывается даже на физиологическом уровне. Комментарий.
– Тебе нравится этот щенок? Ты согласна принять его навсегда, как часть своей личности?
– Да, конечно!..
– Какие ощущения в области живота?
– Отлично! Напряжения нет. Приятные чувства.
– Представь, что кто-то прикасается к твоему животу, например, молодой человек…
Это проверка реальности изменений с помощью воображаемой критической ситуации. Гипотеза подтвердилась окончательно. Комментарий.
– (Смущенно.) Все отлично, ничего отрицательного не возникает.
– Ты согласна, чтобы эти изменения остались с тобой навсегда?
– Разумеется, полностью согласна.
Искреннего согласия клиента достаточно для закрепления результатов. Теперь объяснения возможны, они не вызовут сопротивления. Комментарий.
– Теперь я тебе объясню, что произошло, если ты не против… В результате ощущения себя лишней и ненужной произошло отвержение Внутреннего Ребенка. Ребенок автоматически стал выполнять бессознательное желание самоуничтожения, аборта. Поэтому Ребенок превратился в отвратительную агрессивную крысу, нападавшую на твой живот, а живот инстинктивно напрягался. Поэтому у тебя возникали сомнения в том, что ты сможешь родить детей. Теперь, когда ты приняла своего Ребенка, то он стал твоим другом, аутоагрессия прекратилась, напряжение в животе исчезло. Вот, собственно, и все…
Если у тебя есть сомнения в результате или вопросы, то я готов продолжить…
– Нет, все понятно. Мне очень хорошо, я знаю, что так же будет и дальше… Я обращалась к другому терапевту и была полностью разочарована. Большое спасибо, я даже не верила, что это возможно.
– Что же, отлично, на этом сеанс закончен.
Примерно через две недели я спросил ее, как она себя чувствует, и получил подтверждение, что все по-прежнему хорошо.
Весь сеанс занял 15—20 минут, была решена краеугольная для всей дальнейшей жизни Кати проблема. Через год Катя родила своего ребенка, приходила на занятия в институт с коляской. Комментарий.

3. Проверка гипотезы
Проверка гипотезы превращает ее в уверенность. После того как гипотеза приобретает законченную форму, ее можно (но не всегда следует это делать) изложить клиенту. Подтверждение гипотезы клиентом является сильным аргументом в ее пользу. Однако находить подтверждение своей гипотезы терапевт может и другими способами. Это особенно важно в тех случаях, когда ваша гипотеза может оттолкнуть клиента или вызвать его ожесточенное сопротивление, поэтому ее не стоит ему сообщать.