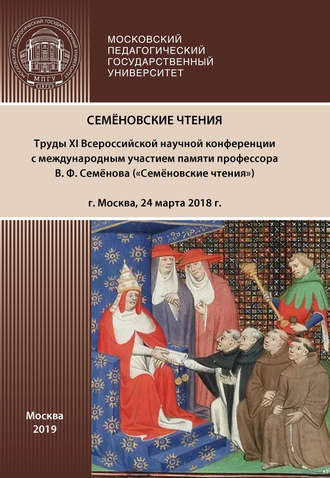 полная версия
полная версияСемёновские чтения
Непростые отношения складывались и с Восточной Римской империей. Так, вытеснение войсками Флавия Стилихона объединенной армии вестготов на север неожиданно сталкивается с иными интересами Константинополя, где Аркадий решает заключить мир. Так что в какой-то мере смерть Флавия Стилихона стала «спусковым крючком» для последовавших событий.
В 453 г. умер Атилла, с которым все предыдущие годы вынуждены были считаться в своей политике Восточная и Западная Римская империя. Однако после его смерти разгорелась междоусобная война, ослабившая гуннов и тем самым способствовавшая их изгнанию. Но на освободившиеся территории нашлись новые претенденты: «Гепиды, силой забравшие себе места поселения гуннов, овладели… пределами всей Дакии…. Готы…. получили Паннонию» [7, c. 265–266]. Действительно, константинопольский император Маркиан разрешил поселиться остготам в Паннонии, но они, захватив Мёзию, целеустремленно продвигались к Италии. Только откровенный подкуп Глицерия позволил избежать объединения двух значительных групп остготов [7, c. 283–284].
В 455 г. погиб последний из династии Феодосия Великого – Валентиниан III. Беда Достопочтенный указывает, что с гибелью Аэция и убийством Валентиниана Римская империя прекратила свое существование [3, Ι. 21]. Византийские источники сообщают, что после того, как Валентиниан с помощью Ираклия зарубил Аэция, он спросил у одного человека: «Не правда ли, смерть Аэция прекрасно исполнена?».
Тот ответил: «Прекрасно или нет, я не знаю. Но я знаю, что вы левой рукой отрубили себе правую» [15, fr. 200–201; 12, IV. 28]. Павел Диакон прямо говорит: «Так погиб Аэций, воинственнейший муж и некогда ужас могущественного короля Аттилы, а вместе с ним пала и Западная империя, и благо государства, и их уже более не удалось восстановить» [10, XIV.15].
Последовавшее затем нашествие вандалов во главе с Гейзерихом стало для многих концом Западной Римской империи. Иероним Стридонский восклицал в одном из писем: «Кто бы мог поверить, что Рим, воздвигнутый победами, каковые были одержаны над всем миром, рухнет, став могилой народов, матерью которых он был, что все земли…. однажды увидят детей повелительницы вселенной, обращенными в рабство…» [6, CXXVII]. Исидор Севильский, упомянув об этом событии, больше не касается истории Рима, как если бы его вообще не было [8, с. 77]. Четырнадцатидневный грабеж Рима оставил мрачные воспоминания у современников.
С другой стороны, именно Аэций создал Бургундское королевство в восточной Галлии [5, с. 568], хотя это и была вынужденная мера. В середине V в. пришедшие на эту территорию гунны посчитали вестготов соперниками, что ярко отразилось во втором нашествии 451 г., когда Аэций пожертвовал территорией до р. По, только чтобы не допустить Атиллу на Апеннинский п-ов.
Экономика Рима уже давно полностью зависела от ввоза из провинций. С их потерей приходилось с трудом рассчитывать на собственные незначительные ресурсы, но самым страшным оказалась потеря доступа к зерну, поступавшему из Северной Африки и издавна пополнявшим запасы Италии. В 468 г. при поддержке Восточной Римской империи в Африку был отправлен флот, хотя А. Голдусорти сомневается в его значительности [5, с. 572], скорее всего, это были транспортные суда. Гейзерих сумел потопить флот и разгромить войска. Вандалы оказались явно не под силу даже совместным войскам двух империй, а гегемония вандалов на море оставалась непоколебимой. Лев I подписал сепаратное соглашение с вандалами. Таким образом, Италия оказалась практически изолированной в экономическом и стратегическом плане.
Внешнеполитическая ситуация менялась стремительно, с каждой потерей римской территории. К середине V в. Западной Римской империи в ее границах вообще не существовало, точнее, она фактически состояла только из одной Италии. Британия была потеряна, ее раздирали внутренние междоусобные войны саксонских королей [5, c. 560]. Римские императоры были слишком заняты более насущными проблемами, чем обращать внимание на далекий остров. Ведь военных и экономических сил не хватало на защиту и обеспечение подвластных территорий. Еще с предыдущего столетия императоры стали заключать союзы. Однако с катастрофами, равными поражению римской армии при Адрианополе и на Каталаунских полях, императоры могли лишь давать условное согласие. Население провинций, помнению Д. М. Петрушевского, видело в расселявшихся варварах своего рода избавителей, а не врагов [11, c. 218]. Однако можно не согласиться с исследователем, так как именно варвары забирали лучшие земли, подчас сгоняя с него население – силой, либо жители сами предпочитали уходить. В V в. процесс приобретает больший размах. Что касается Италии, то она стала вожделенной для варварских племен, стремящихся больше награбить, ведь в близлежащие провинции находились в запустении. Убийства и опустошения, происшедшие в 410 г., 455 и 472 гг. – это грабеж Рима. В то время как 476 г. – это взятие Равенны, где короновался и был низложен последний римский император Август Ромул.
Размывалось не только представление о внешнем и внутреннем враге, размывалось само понятие внешняя угроза. Она все больше становилась внутренней. Империя, расшатавшая основы общественного благосостояния и превратившая своих подданных в своих врагов, была вынуждена искать опоры против варваров в самих же варварах [11, c. 216]. При этом политика западноримских императоров не успевала за стремительными изменениями ситуации.
За последние двадцать один год своего существования в Западной Римской империи сменилось девять правителей. Территория государства за это время сократилась до размеров Италии, а противоречия лишь сконцентрировались на ее территории. Даже восстания против германцев подчас заканчивались переходом восставших в их армию, как это было в случае с Гейзерихом. Лишь кое-где на момент формального крушения империи еще держалась у власти старая патрицианская аристократия: бывший император Юлий Непот в Далмации, Сиагрий в Галлии, Аврелий Амброзий в Британии. Юлий Непот останется императором для своих сторонников вплоть до его смерти в 480 г., Сиагрий вскоре будет разгромлен франками Хлодвига. А остгот Теодорих, который объединит под своей властью Италию в 493 г., будет вести себя как равный партнер константинопольского императора и наследник Западной Римской империи. Лишь когда в 520 е гг. Юстиниану понадобится повод для покорения Апеннин, его секретарь обратит внимание на 476 г. – краеугольным камнем византийской пропаганды станет то, что Римская держава на Западе рухнула и надо ее восстановить.
Историк Малх Филадельфиец удостоверяет, что сенат Рима продолжал собираться и при Теодорихе. Ученый муж даже писал в Константинополь, что «нет больше нужды в разделении империи, довольно будет одного императора для обеих ее частей» [9, fr. 12].
Но самая основная проблема политики Западной Римской империи, переставшей быть только внешней, или только внутренней – это не допустить усиления племен, расселенных на территории Западной Римской империи.
Несмотря на победоносную оборону Италии, император ничего не мог сделать, чтобы предотвратить захват вестготами галльских городов Арелата и Массилии в 473 г. Только при последнем императоре Юлии Непоте ситуация, казалось, изменилась. Ему удалось вернуть некоторые земли, но успех не продолжился долго. Италия была разорена. По свидетельству Павла Диакона, многие города были либо стерты с лица земли, либо подвергнуты значительному разрушению и разграблению: «в Неаполе и тех [городах], которые они не смогли взять из-за их прочности, они оставили разграбленными сельские угодья и пленили всех, кто избежал меча» [10, XIV, 16–18].
Сужению кольца германских владений вокруг Италии ярко свидетельствует уменьшение количества монетных дворов. Если Либий Север чеканил свои монеты в Риме, Равенны и Арелате, то уже в его правление последний монетный двор, видимо, был утерян. Основными монетными дворами стали Равенна и Медиолан, хотя монетный двор оставался и в Риме. Только Юлий Непот чеканил монеты на территории и Италии, и Галлии.
Причины обострения отношений с германцами кроется в демографическом факторе. Как подметил Д. М. Петрушевский, переход германцев к оседлому образу жизни вызвала значительный прирост населения [11, с. 213]. Уже расселившиеся германцы испытывали значительное давление более отдаленных племен, внутри которых также происходили различные процессы, подталкивающие их к переселению. Близлежащие земли уже давно были ограблены, и именно отсутствие добычи от грабежа, продовольствия и одежды становились причинами новых походов [8, с. 283].
Одоакр был направлен императором Флавием Зеноном, а после низложения Ромула Августула вынужден был смириться с правлением возвращенного из Далмации Юлия Непота. Таким образом, уже после 476 г. император Юлий Непот вновь управлял Италией и Галлией, находясь в Далмации. Одоакр получил титул патриция и долгожданную должность наместника Италии. Малх Филадельфиец в своем труде пишет, что Зенон одобрял кандидатуру Одоакра, поскольку тот планировал править, сохраняя римские порядки, и поддерживал возвращение Юлия Непота [9, fr.12].
Не сошел с политической арены и еще один низложенный император, ставший епископом – Глицерий. Именно его вмешательство привело к убийству Юлия Непота – единственного императора, который, вероятно, был способен вернуть утерянные территории. Одоакр, слабо опасаясь недовольства Зенона, захватил Далмацию. Таким образом, в 480 г. восточноримский император Зенон не стал назначать императора в Западную империю, а решил править единолично, тем более что Одоакр ранее выслал императорские инсигнии в Константинополь, надеясь на важный пост. Опасаясь авторитетного противника, Зенон успешно стравил своего бывшего телохранителя и Теодориха, короля остготов, что позволило ему избавиться от первого, но потерять Италию.
В V в. уже варвары решали, кто будет править. Так Аларих, захватив Рим, решил посадить на трон Аттала, а Гейзерих – Олибрия [12, II. 27]. В то же время Рицимер сам являлся кукловодом, расставляя марионеток и управляя властью. Когда же Антемий предал его, Рицимер поддержал выдвиженца Гейзериха Олибрия. Не считаясь с Западной Римской империей, варварские короли прислушивались к восточноримским императорам. Подкуп готов, отправление Одоакра, практически откровенная коронация Теодориха. Так, где был реальный враг Западной Римской империи?
Гейзерих уже управлял как настоящий властитель, вынудив римлян не только признать Вандальское королевство, но и дать обещание оставить его в покое. Властитель Средиземноморья разделил отнятые земли между своими подданными. Худшие земли он оставил прежним владельцам, установив небывало высокие налоги [12, III. 11– 14]. Кроме того, Гейзерих стал чеканить собственную монету.
Необходимо учитывать, что хоть Рим и находился в эпицентре внешнеполитических событий, он не являлся в полной мере столицей. В стратегическом плане удобнее была Равенна. Именно ее в IV в. в качестве форт-поста использовали римские императоры. Первым в качестве места своего постоянного пребывания, это бывшее этрусское поселение, избрал император Гонорий в 402 г., в это же время в городе вырастают многочисленные величественные христианские храмы. Именно в Равенне короновался и был низложен Одоакром Ромул Августул, однако к тому времени варварские короли вновь стремились в Рим. Так было с Гейзерихом, так было и с Одоакром. Павел Диакон утверждает: «Одоакр, вступив в Город, получил власть над всей Италией» [10, XV. 8]. По свидетельству византийских историков, Одоакр фактически упразднил должность императора Римской Западной империи, т. к. вместо свергнутого императора Одоакр был избран королем [14, X. 45; 15, fr.214]. Малх Филадельфиец уточняет, что Ромул Августул предлагал Зенону взять бразды правления в единой Империи, а Одоакр действовал от имени римского сената и обеспечивал охрану государства, но Зенон отказался [9, fr. 12]. Таким образом, Рим оставался символом когда-то могущественного государства, и именно как символ приобщения к его величию он и являлся для варварских королей.
Политика Западной Римской империи в последние годы своего существования перестала быть стабильной и не имела далеко идущих целей. Пытаясь сохранить хоть какой-то мир с расселившимися германцами, императоры готовы были пойти на любые уступки, даже ущемляя права оставшегося населения. Одной из причин этого было не только экономическое состояние, но и отсутствие реальных сил. Их окружение и армия состояли целиком и полностью из представителей германских племен.
События 410, 455 и 472 гг. так тесно переплелись в позднейших представлениях, что 476 г. стал отражением в историографии всех происходивших событий, хотя сами современники не заметили этого, ведь Одоакр не изменил институты управления, не стал снимать с постов действующую администрацию, наоборот, сам принял титул патриция [9, fr. 12].
Падение Западной Римской империи свидетельствовало о том, что Рим больше не имел финансовой власти и не мог эффективно контролировать рассеянные западные области, хотя их жители продолжали рассматривать и называть себя римлянами. То, что произошло в 476 г. можно назвать переворотом, который, однако, не являлся главным ключевым моментом: к крушению власти в Западной Римской империи привели многие события и причины. Ф. Энгельс писал, что для той огромной массы населения, для которой Римское государство было защитой, оно же со временем стало злейшим врагом [13, с. 170]. И все же Павел Диакон уверен: «Так, Римская империя в Риме, та достойная уважения всего круга земного и священная громада, которая была основана Октавианом Августом, пала вместе с этим Августулом в 1209 г. от основания Города…». А так как власть Рима прекратилась, летоисчисление следовало с этого момента вести от Рождества Христова [10, XVI].
Таким образом, фактическое падение Западной Римской империи произошло намного раньше 476 г., но именно юридический факт поставил окончательную точку в ее существовании. Однако Западная Римская империя не исчезла, а с упразднением должности западноримского императора официально объединилась с Восточной Римской империей, император которой был объявлен императором единой Римской империи. Внешнеполитический фактор сыграл в этом событии свою значительную и решающую роль, поскольку усилению его проявления способствовали внутренние проблемы Империи.
Список использованных источников и литературы1. Аврелий Августин. О граде Божием. [Электронный ресурс] URL: https://azbyka.ru/otechnik/Avrelij_Avgustin/o-grade-bozhem/ (дата обращения 11.02.2018).
2. Аммиан Марцеллин. Римская история. СПб., 1994.
3. Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов / пер. с лат., статья, прим. В.В. Эрлихмана. СПб., 2001.
4. Буданова В.П. Варварский мир эпохи Великого переселения народов. М., 2000.
5. Голдсуорти А. Медленная смерть Римской империи / пер. с англ. А.В. Короленкова, Е.А. Семеновой. М., 2014.
6. Иероним Стридонский. Творения блаженного Иеронима Стридонского. (Библиотека творений св. отцов и учителей церкви западной). Киев, 1879–1903; Ч. 1. Кн. 3. Письма. 2-е изд. 1893. Письма к Принципии. CXXVII.
7. Иордан. О происхождении и деяниях гетов. [Электронный ресурс] URL: http://www.krotov.info/acts/06/iordan/iordan04.html (дата обращения 17.01.2018).
8. Исидор Севильский. История вандалов. [Электронный ресурс] URL: http://www.vostlit.info/Texts/rus/Isidor_S/vand.phtml?id=582 (дата обращения 19.01.2018).
9. Малх Филадельфиец. Византийская история в семи книгах. Отрывки. [Электронный ресурс] URL: http://www.krotov.info/acts/05/marsel/ist_viz_04.htm (дата обращения 26.01.2018).
10. Павел Диакон. Римская история. [Электронный ресурс] URL: http://www.vostlit.info/haupt-Dateien/index-Dateien/P.phtml?id=2056 (дата обращения 22.01.2018).
11. Петрушевский Д. М. Очерки из истории средневекового общества и государства. СПб., 2003.
12. Прокопий Кесарийский. Война с вандалами. [Электронный ресурс] URL: http://www.vostlit.info/Texts/rus/Prokop/framevand11.htm (дата обращения 01.02.2018).
13. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. М., 1972.
14. Anonymi Valesiani. Excepta. Chronicon Theodoroci. [Электронный ресурс] URL: http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Excerpta_Valesiana/2*.html (дата обращения 02.02.2018).
15. Joannis Antiocheni Fragmenta. [Электронный ресурс] URL: https://archive.org/stream/fragmentahistori04mueluoft#page/536/mode/2up (дата обращения 15.02.2018).
К проблеме Римско-Византийского наследия в решении миграционных кризисов в аспекте культурного плюрализма
Саттаров Р.Т.ст. преподаватель, магистр этнологии Академический лицей при Международном университете Вестминстер в ТашкентеАннотация: Автором рассматривается проблема развития миграции и культурных идей через призму западно-христианской концепции в истории Римской и Византийской Империй в период их столкновений с миграционными кризисами, и политическими событиями нашего времени.
Ключевые слова : Римская империя, Византия, мигранты, религия, культурный плюрализм, духовность, церковь.
Annotation : The author studies the problem of the migration development and cultural ideas through the prism of the Western Christian concept in the history of the Roman and Byzantine empires during their clashes with migration crises and present day‘s political events.
Keywords : Roman Empire, Byzantium, migrants, religion, cultural pluralism, spirituality, church.
Traditional spiritual practice and rites of passage in religion are important aspects of social interaction. Universality of religion is in its flexibility, survival and ability to adapt to changing conditions. Such phenomenon – in the new historical conditions we may name a transfer of regional and ethnic traditions in different cultural, ethnic and social soil with their inevitable transformation. In the paper I would like to present an idea of dialogues among different cultures, religions and people in light of Geertz's "thick description" [4] interpretation of social life within community.
Let us look at the chosen historical cases. First example is the expansion of the Roman Empire, and inclusion in its boundaries new ethnic groups and cultures in the light of a tolerant policy of the Roman Empire in religious sphere. Many religions and cults continued their development or have been transformed in the process of the synthesis of their original culture (e.g., Egyptian, Gallic, Syrian) with other beliefs or they absorbed elements of state religion for instance, the cult of Mithra among the legionaries, the cult of Isis, the cult in the very beginning referred to legionaries and veteran sections of society, later to egalitarian circles of the roman society. It was like subculture in polytheistic soil of roman religious worldview. It became a new link in the complex social structure of the Roman society. In 3-rd century cult of Mithras was very popular and in Roman context was identified as a sun god. There is a votive with inscription "For the well being of the emperor, in honour of the divine household, to the Sun, unconquerable Mithras, Hilarus, freedman of the emperor … restored the temple which had fallen down from old age…" [6, p. 34]. In 4-th century Mithras cult became a kind of special "theology" of Tetrarchic rule and inscriptions of Mithras‘ votives tell us about determination of pagan citizens to stand for the potential unity of the old religion now that the emperor was a Christian. It is interesting to note spiritual succession in location of Mithraeum beneath the Church of San Clemente in Rome [3, p. 62] despite theory describing Mithraeum as "the antithesis of the classic temple…and space for solemn public ritual". In this way symbiosis in Roman world was quite ubiquitous.
Regarding social and cultural policy of Rome towards the barbaric peoples who on the rights of federates settled on the internal border lands of the empire. Further on terms of protection the imperial border they eventually became citizens of the empire. At the same time their original faiths and beliefs were often transformed under the influence of surrounding aboriginal population who has lived on these lands and under strong influence of the state religion of the empire, providing conditions for emerging various synthetic supernatural practices and cults on the result of such interaction. It should be noted that many people were included in the Roman Empire as migrants in a result of ethnic and political conflicts beyond or inside its borders.
In addition, let us consider another example of adaptive transformation. During the conquest by Seljuk Turks of the Christian territories of the Byzantine Empire in Asia Minor, we can also observe the unique facts of the spiritual and cultural symbiosis. For instance, in Cappadocia, in the valley of Ihlara near the suburbs of Ak-Saray town, archeologists had discovered a complex of caves which were painted with images of saints and scenes from the Christian history [12]. Anthropologists believe that this complex had function of church, place of religious assembly. It should be noted that the dating of this object refers to 1290 A.D., the time, when Islam already dominated the region. There by, we can talk about the tolerance of the Muslim elites and new dominant part of society to religious and ethnic groups who now find themselves in a subordinate position. This situation gives us an example of transfer and probably symbiosis of the Christian Greek traditions into complex of the cultural and social structure of the Muslim society. The transformation process can be seen in the elements and traits of figures on the paintings in the caves that are unique. On the fresco we see some important historical members of society, Greek military general and principal, among Christian saints and other figures depicted in the Muslim clothes that illustrates us he took a Turkic way of life under the new political and cultural order.
These cases illustrate us the possible historical processes of interaction between cultures. It can be suggested that transformation is possible, mostly it can be changed or replaced external layer, and moreover some new exotic elements may be integrated into the body of spiritual entity in the boundaries of both the Christian and Muslim ecumenical tradition, to ensure its viability.
Thereby, in ongoing situation with contemporary refugee crisis in Europe in particular and the world generally, it is necessary to identify interaction and social crossings of boundaries between cultures to 1) investigate the existence of spiritual circles [5] in communities; 2) determine the impacts and social effect of spiritual circles on local communities;
Spiritual circles – present a spiritual space of particular community consisted of common history, traditions constant and shared values. Mechanism of circles works as follows – that one who shares it is friend, who doesn‘t – alien. However, when circles are interacting then synthesis is created which gives life to new forms of human culture and cooperation. Let us compare present day cultural conflicts through concept of spiritual circles.
Beyond the present-day migration caused threats there is a broad array of serious problems either developing or being aggravated by the massive and sudden influx of "refugees." And ironically, perhaps, after first supporting the destruction of multiple nations and sparking the refugee crisis Middle East and Europe has been pushed to the brink of collapse [7]. However, there was an example of spiritual symbiosis. In Lebanon, it was a bit of a shock at first for the Christians living in the little Dbayeh camp, to wake up and find themselves neighbors with Syrian refugees, especially Muslims ones. In the early days there were some minor disagreements. But once the shock wore off, there was really nothing to do but welcome them in [10].
At present day in Christian philosophy there are two approaches to migration problem and community: communitarianism and cosmopolitanism. The communitarian favors a more restrictive approach; the cosmopolitan a more open one [2].
Discussing about communitarian approach, one can say that not always integration and enculturation can save community and be a solution. For instance, Mandeanism, a Gnostic-related monotheistic belief that follows the teachings of John the Baptist, has called Iraq home for almost 2,000 years. But today it faces possible extinction as a result of the fracturing of its homeland. Mandeanism accepts no converts and members who marry outside the religion are no longer considered Mandean; if the refugee crisis disperses believers around the world, it could mean the end of the religion [16]. In this case we see that communal interaction and life is good but possesses inherited a native language, culture, a homeland is especially important to each human.









