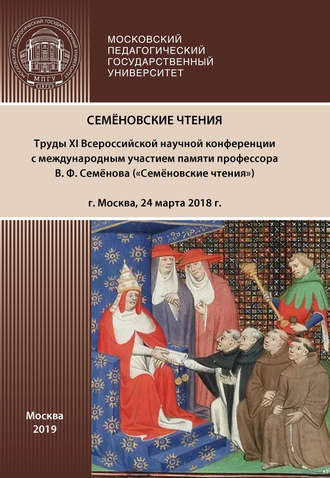 полная версия
полная версияСемёновские чтения
Key words: Thracians, Hellenes, «prestige» economy, mentality, vicinity.
Древние общества эллинов и фракийцев начали соприкасаться как минимум с эпохи поздней бронзы (микенского периода для греков). И если земледельце-скотоводы греки создали античную цивилизацию (от Гесиода до Аристотеля пришло осознание этого достижения, ставшее для своего времени образцом и примером для подражания), то их северные соседи скотоводо-земледельцы фракийцы сформировали в силу ряда причин менее совершенную организацию [11]. Однако эти народы соседили и плотно соприкасались – так, о проникновении греков во фракийскую среду ещё в архаическую эпоху свидетельствуют материалы из некрополя в Требениште [1; 2; 4]. Вообще только со времени рождения и развития античных эллинских полисов жизнь соседей стала всё более различаться. На смену обычаю в античных государствах пришло письменное право, деньги постепенно заместили престижно значимые ценности, оформились товарное производство и рыночные отношения (причем не только в ремеслах и промыслах, но и на земле) – всё это отразилось на уровне мировоззрения (ментальности). Территориальные принципы организации древнегреческого общества всё более замещали архаические родовые, каковые продолжали сплачивать фракийцев вплоть до полной аннексии их территорий войсками Римской империи к 46 г. н.э. [6, с. 64–73; 8, с. 170–194]. Ситуация всё более походила на окружение процветавшей античной цивилизации сравнительно немногочисленными племенами варварской «первобытной периферии», причем фракийцы в силу плотного соседства выступали наиболее ранними её реагентами и подверглись максимальной эллинизации [15]. Но даже при этом их культура сохраняла самобытный облик и об ассимиляции говорить не приходиться, пока фракийцы не оказались вместе с греками в намеренно организованной этнокультурной амальгаме Римской империи и в итоге вполне разделили её судьбу, оставаясь все менее заметным субстратом под волнами Великого переселения народов.
В соответствии с особенностями и уровнем экономического развития оформились и особенности политические, отличавшие даже соседние народы древности вплоть до уровня ментальности. Для сравнения ментальных расхождений древних греков и фракийцев наиболее показательна история провального похода пехотного корпуса гоплитов вглубь Фракии от стен Византия, окруженного тогда, кстати, селами этнических фракийцев – Ксенофонт подробно описал его в своей седьмой книге «Анабасиса».
Так, любое затруднительное решение у суеверных античных эллинов предварялось жертвоприношением. Традиционное для язычников do, ut des у Ксенофонта, в частности, решалось истолкованием знамения – поиск религиозной санкции [13]. Любопытно, что представлявший парадинаста Севта переговорщик Медосад убеждал обнищавших к концу похода греков максимально щедро одарить пригласившего их на пир Севта, что должно было ритуально обеспечить успех их сближения и гарантировать значительно большие блага войску наемников. Для примера на пиру люди из числа фракийского окружения парадинаста ритуально подносят ему белого (религиозно значимо!) коня, раба, наряды для жены – один из сумевших сохранить некоторые походные трофеи дарданец (возможно и существенно, что варварского происхождения!) Тимасион преподнес знатному Одрису серебряную чашу и ковёр. Один из афинян вдруг вспомнил древний обычай, согласно которому царь получает подарки из почтения к нему, после чего ими делится (перераспределяет) с неимущими такового. Вместо обычных для эллинов или Ахеменидов налогов или податей в Одрисской Фракии поначалу практиковалось полюдье [11, с. 214], только существенно позднее, по примеру персидских сатрапий и Афинских морских союзов, дополнявшееся такими же податями параллельно с взиманием «подарков». Ксенофонт остроумно (как он сам решил!) предложил Севту в подарок себя и весь наемный корпус – эту лесть Севт принял с ритуальным излиянием (на себя) недопитого из рога (ритона?) вина и продолжил пир, знаменовавший принятие соглашения (устного договора). Фукидид, сам полуфракиец, судя по имени отца – Олора, перед описанием грандиозного месячного похода одрисского царя Ситалка в 427 г. до н.э. в Македонию, заметил очень важную деталь менталитета фракийской элиты (Thuc. II, 97, 4): «В противоположность обычаям персидского царства, у них (как и вообще во Фракии) считалось благопристойным лучше брать, чем давать, и более постыдным отказать другому в просьбе, чем самому получить отказ. Однако одрисы благодаря своему могуществу пользовались этим обычаем гораздо чаще других фракийцев: без подарков от них ничего было нельзя добиться. Таким образом, царство Одрисов достигло великого могущества». Кстати, спровоцировавшие поход Ситалка афиняне вместо реальной помощи флотом ограничились подарками через послов (Thuc. II, 101, 1). При преемнике Ситалка – Севте одрисы собирали подати с фракийских племен и зависимых эллинских полисов – до 400 талантов золото и серебром, но ещё столько же приносили «подарки» (не только металлами, но и тканями и утварью) – царю, парадинастам и знати (Thuc. II, 97, 3). Ахемениды же, располагая огромными податями, отличались сами щедростью подарков (Xen. Cyr. VIII, 2, 7).
В самом начале IV в. до н.э. прибывший с малоазийского берега Ксенофонт привел 6 тысяч греческих гоплитов (кроме них для разведки и преследования действовал эскадрон всадников из 40 бойцов во главе с упомянутым Тимасионом), приняв приглашение одрисского парадинаста Севта, сына Месада. Нарушилась традиция организованного в Одрисской державе полюдья: Месад как Одрис контролировал меландитов, финов и транипсов, затем контроль был утрачен, и потребовалась демонстрация военной силы для признания подчинения (Xen. Anab. VII, 2, 32). Двухтысячного одрисского отряда оказалось мало, а грекам помимо элементарного пропитания требовалось платить. Типовые расценки услуг наемников обыкновенно соответствовали 1 дарику (=1 кизикину=30 «тяжелых» драхм – расчеты по Д. Раймонд [3]) в месяц рядовому гоплиту (Xen. Anab. I, 3, 21 – здесь упомянут посул платить наемникам даже по 1, 5 дарика, но это было сверх обычного; VII, 6, 1). Севт и обещал воинам Ксенофонта плату 1 кизикин в месяц (Xen. Anab. VII, 2, 36).Таким образом, пришлому войску были обещаны 30 талантов в месяц и им даже будто собирались заплатить за 20 дней службы (Xen. Anab. VII. 5, 4), то есть порядка 20 талантов. После прошествия срока Севт предложил грекам 1 талант, 600 быков, 4 тыс. овец и 120 рабов (Xen. Anab. VII, 7, 53), что явилось полным провалом соглашения. Весьма непросто, оказалось, просто прокормить наемников: Ксенофонт (Anab. VII, 1, 36–41) подробно описывает безуспешную попытку авантюриста Койратада поставить необходимое продовольствие, дабы стать во главе корпуса ещё до реализации затеи послужить Севту. Что это за действие – объяснимо из истории, например, Афин – там долгое время стратеги избирались из числа только состоятельных граждан, дабы в случае необходимости могли за счет собственных средств содержать войска из сограждан.
Чтобы нейтрализовать претензии греков, Севт постарался собрать превосходившее их по численности фракийское войско (Xen. Anab. VII, 5, 15). В случае объединения сил восставших было прежде финов и собравшихся одрисов эллинский гоплитский корпус попадал в неудобное положение, оказываясь в окружении отрядов конницы, и гораздо более подвижной, чем сами, пехоты – пельтастов.
Кстати, Севт дважды предлагал Ксенофонту сократить численность наемного эллинского отряда до 1 тысячи человек (Xen. Anab. VII, 6, 43 и 7, 50–51), но тот помнил о поражении большого отряда гоплитов своей армии от вифинских пельтастов и конницы (малоазийских фракийцев), оценил возможности аналогичных им войск балканских фракийцев и не желал рисковать. Свой выбор он отчасти мотивировал результатом жертвоприношения, но важнее было настоятельное приглашение спартанского гармоста в Гераклее Понтийской – Фиброна принять участие в походе против персидских сатрапов Тиссаферна и Фарнабаза.
Итак, 5 талантов в месяц и всего 60 в год для содержания наемного контингента второе лицо в Одрисском царстве могло, будто бы позволить себе для поддержания ранее установленного порядка. Однако в самом конце «Анабасиса» содержится приписываемая теперь более позднему, но компетентному комментатору приписка-заключение по поводу маршрута и протяженности описанного похода наемников. Из него следует, что весь путь следования греческого наемного корпуса был совершен по землям персидского царя, в том числе и в Европе против фракийцев, подчиненных в итоге Севту (Ἄρχοντες δέ όίδε τῆς βασιλέως χώρας ὄσην επήλθομεν. …Βιθυνῶν Φαρνάβαζος, τῶν έν Εύρωπη Θρᾳκῶν Σεύθηϛ). Подчинение персам едва ли обязывало только участвовать в их походах в качестве «союзников», но и предполагало уплату податей или предоставление «подарков». В последние годы возобладало заключение, что юг Фракии вошёл в европейскую сатрапию персов Скудра (от времени скифского похода Дария), но насколько долго, до освобождения вскоре после гибели Мардония в 479 г. до н.э. или существенно дольше – вопрос выглядит спорным. Запрос в Болгарию по поводу мнения местных фракологов о странном комментарии к «Анабасису» получил категоричный ответ – incerta (во всем отрицательно-неопределенном многообразии смысла этого латинского слова).
В понимании греков фракийцы и иллирийцы были беднейшими жителями Балкан – перед сражением при Иссе Александр III Македонский дважды намеренно увещевал союзников из их числа, обещая после победы сокровища персов (Curt. III, 10, 6; 10, 10). Ещё Геродот (V, 6) заметил неприятные для полисных греков особенности психологии фракийцев: «Человек, проводящий время в праздности, пользуется у них большим почетом. Напротив, к земледельцу они относятся с величайшим презрением. Наиболее почетной они считают жизнь воина и разбойника». Для сравнения используем наблюдения Н.Н. Крадина [10] о хунну: седентаризация и занятие земледелием для истинного скотовода были результатами разорения. Что касается степных скифов, то результаты исследований тысяч курганов позволяют утверждать, что бедноты у них было не более 6–8% от массы общинников. Добавлю, что высокоэффективного земледелия у фракийцев не сложилось вплоть до римской эпохи [12].
Со времени Пелопоннесской войны очень заметным явлением стало фракийское наемничество (Thuc. VII, 27–30). Поначалу славились пельтасты, со времени похода Александра на Восток обрели популярность фракийские всадники. Не сомневаюсь, что Спартак был долгое время наемным кавалерийским командиром у римлян и сумел мастерски использовать недостатки почти полностью пехотной римской армии [14]. Для фракийской знати наемничество-союзничество стало частью образа жизни вплоть до самых верхов их общества – до самой царской верхушки. Поздние одрисские цари приняли деятельное участие в ходе гражданских войн римлян на Балканах [7, с. 186–187]. Как в свое время справедливо заметил Демосфен в Первой речи против Филиппа, сравнительно скромное денежное содержание войска (на продовольствие) дополнялось достойной добычей в случае победы. Конечно, у правителей на первой позиции должен был быть расчет политический, а не материальный. Но у фракийских царей вхождение в орбиту политики Рима выглядело весьма примечательно. При этом заметно, что со времени правления Котиса I (383/2–359 гг. до н.э.) политического единства даже одрисской Фракии уже не наблюдалось (кроме объединенных Одрисами племен неизменно независимыми держались бессы, трибаллы и некоторые другие). Астейско-одрисский Котис (100–87 гг. до н.э.) поддержал римлян как союзник (Diod. XXXVII, 5a) против Митридата VI Евпатора – тогда как целый ряд фракийских племен поддержал великого царя Понта, и даже в Ольвии отметился фракийский племенной отряд дизиров (IOSPE I² №223). Уже его внук, тоже Котис, в 48 г. до н.э. отправил сына Садалу с отрядом в помощь Гнею Помпею (Caes. Bell.civ. III, 4), герою войны с Митридатом. Сапейско-одрисский Раскупорис тоже, получается, отправлял тогда войска Помпею. Цезарь простил фракийцев. А в 42 г. до н.э. перед битвой при Филиппах сын и наследник Раскупориса Котис отправил своих сыновей обеим противоборствовавшим римским группировкам – Раскоса к Октавиану и Антонию, а Раскупориса – к республиканцам Кассию и Бруту, причем с каждым было по 3 тыс. конницы. Отличились оба сына – но особо удачливый Раскос, тем более поддержавший победителей, выхлопотал брату прощение – интересно, что сапейско-одрисским царем стал вскоре все же Раскупорис. В дальнейшем вплоть до превращения Фракии в римскую провинцию около 46 г. н. э. римляне видели одрисскую Фракию политически раздвоенной. И всё это время во Фракии особой политической силой являлись бессы, объединенные возле легендарного оракула Диониса в Родопах. Во времена Геродота (Her. VII, 111) это был поначалу жреческий род племени сатров, обслуживавший прорицалище, позднее бессы заменили этноним сатров, ещё позднее это уже оформился союз племен, даже с характерной керамикой. В 331 г. до н.э. македонский стратег Фракии Мемнон инспирировал свое отделение от Александра (Diod. XVII, 6–7; 62–63; Arr.Anab. I, 25, 2; Curt. IX, 3, 21) – «взбунтовал варваров» (бессов – как считают болгарские специалисты). Антипатру удается умирить восставших. В 15 (или 13) г. до н.э. бессы поднимают многих фракийцев на борьбу с одрисско-сапейскими царями, «клиентами» или «союзниками» Рима – в 11 г. до н.э. даже убивают царя Раскупориса. В 26 г. н. э. римский сенат присудил право на триумф Поппею Сабину за подавление «горных фракийцев» – по Корнелию Тациту (Ann. IV, 46) те не желали служить в римской армии разъединенными и вдали от родины – они предпочитали собираться во вспомогательные отряды, и под началом своих собственных командиров воевать разве что с соседними народами. Скоро в римской армии замечаются Фракийские когорты, во II–IV вв. римские легионарии оставляют вотивные посвящения и надгробия с характерными фракийскими именами и изображением Фракийского всадника Хероса не только в Нижнем Подунавье в Мёзии в лагерях легионов и вблизи них, но и в местах пребывания вексилляций этих легионов. А после преторианской реформы Септимия Севера даже в лагерях преторианцев в Италии близ Рима. Поначалу привыкшие воевать фракийцы оседали близ легионных лагерей, вливаясь в castrenses – отслужив 20-летний срок, получали honesta missio – личное римское гражданство с признанием законным браком прежнего конкубината, денежную сумму и земельный участок (сыновьям потом приходилось начинать всё как бы сначала – т.е. отслужить). По мере варваризации легионов ветераны становились после службы декурионами – получали помимо денег участки земли до 200-400 га, возглавляли городские советы в провинциях. При длительном запрете всадникам и сенаторам более чем на 5 лет покидать Рим и Италию декурионы оформили собой элиту римского провинциального общества. Кстати, как то убедительно показали раскопки в центре Фракии у с. Чаталка [17] или на западе у с. Невестино [9, с. 235], фракийские вожди ещё до аннексии Римом Фракии выбрали проримскую ориентацию и стали позднее провинциальными магнатами. Долгое время (до конца IV в.) потомки знатных и успешных фракийцев отметились в эпиграфике своими колоритными именами или патронимиками [5]. При этом natus Thrax всё чаще замещается Bessus и обозначение «фракиец» со временем превратилось в этникон – историко-географическое понятие. В этнокультурной амальгаме римских городов, построенных на былых фракийских землях чаще всего при Траяне и Адриане по эллинистической модели, происходила практически полная ассимиляция представителей аборигенного населения.
Рядовые же фракийские былые общинники несколько столетий были заметны как субстрат, практикуя характерную профессию – добычу золота (под властью Рима удалось добыть до 350 т. – в доримские времена показатели примерно 500 т. [16, с. 31]). В поздней Римской империи бессы-рудокопы оказались заметны как особая профессионально-социальная категория.
Наконец, особым вопросом является христианизация реликтового фракийского населения. Якобы имевшая место попытка перевести Священное Писание на язык бессов и два бесских монастыря на Синае в числе первых там – факты не бесспорные, но любопытные [18]. На месте былых фракийских святилищ возводились раннехристианские базилики. А в начале VIII в. над былым фракийским нимфеумом в честь одного из первых протоболгарских ханов на скале был выбит легендарный Мадарский всадник. Как минимум с V в. до н.э. (по материалам торевтики) и до конца IV в н. э. (с позднеэллинистической эпохи до позднеримской это отмечается, прежде всего, в мелкой пластике) этнокультурным символом балканских и малоазийских (вифинов) фракийцев явился Фракийский Всадник (Херос, позднее подвергался теокразии). Не очень понятным образом к XI в. он стал иконографическим прообразом св. Георгия, на балканских землях напоследок напоминая о фракийцах – предках нынешнего населения как минимум с эпох поздней бронзы – раннего железного века.
Таким образом, сравнительно бедные скотоводо-земледельцы из Фракии, создавшие разве что «престижную» (или «царскую») экономику, заметно уступавшую показателями античной рыночной, реализовывали свою этнокультурную самобытность доступными им способами. Разбойники превратились в наемников, в эллинистических армиях проявляясь как политевма («фракийцы»= пельтасты), а в римской сначала как отряды наемной кавалерии под началом собственных вождей (фракийские numeri римляне потом уже не создавали), потом во вспомогательных когортах со смешанным составом, ещё позднее, как перегрины, записывались в легионы на полную выслугу лет (а с рубежа II–III вв. даже в преторианские когорты). Территории Фракии многие века славились своей рудной добычей. Поэтому в столь деликатном и кропотливом деле, как добыча золота, фракийские горцы оказались намного практичнее римских рабов и колонов – а потому в итоге оказались прикреплены к этому роду деятельности римским правительством. Скромные в быту фракийцы, похоже, без особых эксцессов восприняли христианство. Фракийская же аристократия с давних пор подражала нравам греков и позднее легко переняли принесенные римлянами традиции «эллинистицизма», долго сохраняя разве что колоритные имена и патронимики.
Список использованных источников и литературы1. Antika. Umetnost na tlu Jugoslavije //Mano-Zisi Ðorđe. Beograd-Zagreb, 1982.
2. Katalog nalaza iz nekropole cod Trebeniśta. Narodni muzej Beograd. Antika I. Beograd, 1956.
3. Raymond D. Macedonian regal coinage to 413 B.C. New-York, 1953.
4. Василев В.П. Бронзови съдове от некропола при ТребенищеИзследвания върху античното металообработване (Разкопки и проучвания. Кн. XIX). София, 1988.
5. Велков В. Към въпроса за езика и бита на траките през IV в. от н. е. // Изследвания в чест на акад. Д. Дечев. София, 1958. С. 731–742.
6. Винокуров Н.И., Крыкин С.М. Рим, Боспор и Фракия в сер. I в. н. э. // Вестник МГПУ. 2016, №2 (22). С. 64–73.
7. Винокуров Н.И., Крыкин С.М. Римская политика в Северном и Северо-Западном Причерноморье в середине I в. н.э. // Проблемы истории, филологии, культуры. М., 2017. №4 (58). С. 170–194.
8. Винокуров Н.И., Крыкин С.М. Римская политика в Северном и Северо-Западном Причерноморье в середине I в. н. э. // Проблемы истории, филологии, культуры. М., 2017. №4 (58). С. 170–194.
9. Геров Б. Проучвания върху западнотракийските земи през римско време. Ч. I // Годишник на Софийския университет. Философски факултет (ГСУФФ). Т. LIV. Кн. 3, 1959/60. София, 1961.
10. Крадин Н.Н. Империя Хунну. М., 2002.
11. Крыкин С.М. Древняя фракийская цивилизация // Епохи. Т. XXIV. Велико Търново, 2016, №2. С. 203–219.
12. Крыкин С.М. Зерновая «диета» варварских соседей античных эллинов // Вестник МГПУ. 2013. №1 (11). С. 74–87.
13. Крыкин С.М. Проблема обладания религиозной санкцией или о словах в христианском контексте // Наука, культура, образование. Комратский ГУ. Мат. науч.-практ. конф. Комрат, 2010. С. 135–139.
14. Крыкин С.М. Спартак: версии о его происхождении (научный подход вразрез с литературно-легендарным) // Проблемы истории, филологии, культуры. М., 2007. Вып. XVII. С. 66-80.
15. Крыкин С.М. Эллинизация: механизм этнокультурного явления // Открытия минувшего. М., 2005. Вып. 2. С. 15–28.
16. Марфунин А.С. История золота. М., 1987.
17. Николов Д. Тракийската вила при Чаталка, Старозагорско // Разкопки и проучвания. Кн. XI. София, 1984. С. 5–73.
18. Тодоров Т. Библия Бесика (социолингвистична студия за тракийския език в късната античност) // Thracia VI. София, 1984. С. 259–275.
Характерные черты внешней политики Западной Римской империи накануне ее падения
Куликова Ю.В.кандидат исторических наук, доцентАннотация : Внешняя политика Западной Римской империи в третьей четверти V в. имела свои ключевые направления, которые могли напрямую обусловить ее падение. Проблема заключалась в том, что одновременно с размыванием понятий внешний и внутренний враг, исчезали границы между понятиями внешней и внутренней политики. Германские племена расселились на обширных землях, окружавших Италию, получая жалование, одежду и продовольствие. Однако процессы, происходившие внутри племен, заставляли многих германцев создавать новые союзы и искать новых земель.
Ключевые слова : Римская империя, готы, вандалы, гунны, варварские племена.
Annotation: The foreign policy of the Western Roman Empire in the third quarter of the V A.D. had its key directions, which could directly determine its fall. The problem was that, simultaneously with the blurring of the concepts of the external and internal enemy, the boundaries between the concepts of foreign and domestic policy disappeared. German tribes settled on vast lands, surrounding Italy, receiving salaries, clothing and food. However, the processes within the tribes forced many Germans to create new alliances and seek new lands.
Key words : Roman Empire, Goths, Vandals, Huns, barbarian tribes.
В последние годы накануне падения Западной Римской империи приходилось решать множество задач, как внешнеполитических, так и внутриполитических. Рассматривая восприятие позднеантичных авторов и Отцов Церкви на события того периода, необходимо выяснить, насколько внешнеполитическая ситуация стала решающим фактором в этом значимом для мировой истории событии, и действительно ли падение Западной Римской империи является лишь историографическим фактом?
Основными направлениями внешней политики было стремление вернуть весьма значимые для экономики Италии Галлию и Северную Африку под контроль императорской власти, а также решение проблем с германскими племенами. Важно отметить, что если переход к оборонительной политике после войн Марка Аврелия направляло Рим на укрепление рубежей и изменение провинциальной политики, то теперь эта оборонительная стратегия означала непосредственную защиту Апеннинского п-ва. Самое странное в этой ситуации было то, что армии, дислоцирующиеся в той же самой Галлии, зачастую и являлись опасностью, от которой приходилось защищать Италию.
Уже в IV в. «проблема варваров» была настолько острой, что при определении своего возможного соправителя и преемника у императора Грациана не оказалось выбора: все военачальники имели варварское происхождение, кроме Феодосия, в правление которого в 395 г. империя была разделена на Западную и Восточную. Именно с этого момента Западная Римская империя пытается вести самостоятельную политику, однако император в Константинополе считает себя «старшим», без стеснения навязывая свою внешнеполитическую линию. При этом и собственные дворцовые интриги уничтожали шансы Западной Римской империи на выживание. Убийство Стилихона и Аэция были грубейшими ошибками политики западноримских императоров, опасавшихся больше за свой трон, чем за судьбу империи.
Д.М. Петрушевский справедливо подмечает [11, с. 216], что именно поход Алариха на Рим в 410 г. имел те самые разрушительные последствия, поскольку открыл свободный путь варварским племенам на Рим. Недаром Аврелий Августин в описании этого события сравнивает его разрушительность с последствиями гражданских войн эпохи Республики [1, III. 29].
На территориях Западной Римской империи происходит активизация процесса вытеснения одних ранее расселившихся племен другими. Именно его описывал в своем труде Аммиан Марцеллин, сообщая, что германцы расселяются по всему Рейну, занимая земли Галлии, Иллирии и вплоть до самых границ Италии [2, XVI. 11; XVII. 13]. К сер. V в. почти все территории Западной Римской империи были заняты германскими племенами и образованными ими «варварскими королевствами». Важно то, что начало их законодательного оформления было заложено политико-юридическими санкциями римской власти, передавшими германским вождям права на управление этими территориями [4, c. 74]. В 418 г. создается первое королевство на территории Римской империи – Тулузское. Иордан отмечает, что король Эйрих, видя постоянную смену императоров и слабость империи, занял как независимый государь Галлию и Испанию [7, c. 263]. В Африке было образовано первое независимое варварское королевство, ряд королевств существовал и в других землях, лишь номинально числившимися провинциями империи. Это и была новая имперская армия на основании закона о hospitalitas [5, с. 220]. Однако земли, занятые варварами, не способны были пополнить пустующую казну, наоборот, Римская империя ежегодно выплачивала по договорам определенные суммы, чтобы не допустить восстания федератов. Время 2-й половины V в. современники называли жестоким владычеством варваров, как писал спустя два столетия историк Павел Диакон: «всюду действовали разрушительные силы…» [10, XIV. 15–16].









