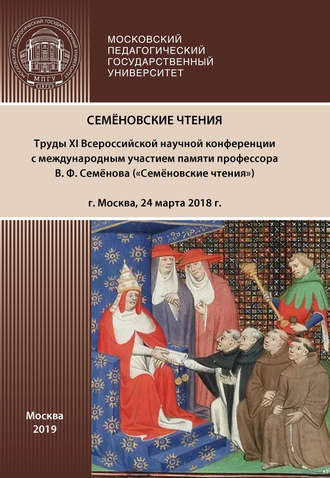 полная версия
полная версияСемёновские чтения
Nevertheless, for instance the European office of the Jesuit Refugee Service notes that "the building of fences along borders is an inappropriate and ineffective attempt to control the movement of people" [13]. This makes us concern about the shift in European communitarian philosophy in bringing various people together, such as creating favorable conditions for interaction of spiritual circles in communities.
On the other hand, cosmopolitanism approach is considered as cornerstone of European-Christian worldview on social entity. As an example, in his encyclical "Pacem inTerris" (1963), Pope John XXIII stipulates, "Every human being has the right to the freedom of movement and of residence within the confines of his own State. When there are just reasons in favor of it, he must be permitted to immigrate to other countries and take up residence there" [9]. Moreover, in an address in 1985, Pope John Paul II declared, "Every human being has the right to freedom of movement and of residence within the confines of his own country. When there are just reasons in favor of it, he must be permitted to migrate to other countries and to take up residence there. The fact that he is a citizen of a particular state does not deprive him of membership to the human family, nor of citizenship in the universal society, the common world-wide fellowship of men". For instance a good example of it was presented by Pope Francis, who has denounced inaction. While he does not pretend to have a political solution, he called on churches, monasteries, and dioceses throughout Europe to step forward and adopt one refugee family each [11].
In academic literature problems of interaction in spiritual sphere in community was viewed by M. Balser, М.Гопал, L. Kendall, L. Kuczynski, E.E Griffits and P. Ruiz, J. Hangartner, C. Humphrey, J. Woodman, G. Lindquist, and K. Mildner`ova. These studies indicate that even when the modern way of life is introduced into traditional cultures, spiritual conservative elements of tradition culture are tending to adapt to new conditions. Moreover, it is interesting to notice, that we can observe process of synthesis within Islam culture as well [8]. The particular field research reveals spiritual pluralism created through synthesis of Muslim tradition with non-Muslim elements in the Central Asian region. Another source provides information about spiritual healing coming through the symbols of the surrounding culture [5]. Generally, in cases of stress (social, economic, demographic) people again begin to use remedies from their cultural past [15], while it should be taken into consideration that this process involves some degree of contextualization.
Thus to conclude it, we can define that described events from Roman – Byzantine history may be viewed as manifestation of spiritual circles that is syncretic phenomenon, serving as a social bunch. Their interaction did a significant influence on the processes of globalization. In Catholic Christian philosophy of communitarianism, the problem of any of the community members is seen as a problem of the whole family, community; and through cosmopolitanism approach this search for a help becomes their universal task. By doing it with means of cultural authentically symbols [14, 17], it helps to overcome the social pressure, life problems, and conflicts, along with severe life experiences.
List of sources and used literature1. Albanese C.L. America: Religions and Religion, 2013.
2. Amstutz Mark R.. Two theories of immigration // First things December 2015. P. 37-42.
3. Bowder Diana. Who was who in the Roman World. Edinburgh, 1980.
4. Geertz Clifford. The Interpretation of Cultures. New York, 1973.
5. Kleinman A. Rethinking psychiatry: from cultural category to personal experience. New York, 1991.
6. Lee A.D. Pagans and Christians in Late Antiquity. New-York, 2006.
7. Newman Alex. Refugee Crisis Has Europe on the Brink // The New American. April 4, 2016. P. 17-22.
8. Pawel Jessa. Aq-jol soul healers: religious pluralism and a contemporary Muslim movement in Kazakhstan / Central Asian Survey. September, 2006. No. 25(3), P. 359–371.
9. Pope John XXIII. Pacem in Terris // Encyclical of Pope John XXIII on Establishing Universal Peace in Truth, Justice, Charity and Liberty, 1963.– April, 11 [Электронный ресурс] / Pope John XXIII. Pacem in Terris URL: http://w2.vatican.va/content/john-xxiii/en/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_11041963_pacem.html (дата обращения: 29.12.2017).
10. Reem Haddad. How can you say no // New Internationalist. January-February 2016. P.22-23.
11. Reno R.R. While we‘re at it // First Things. November 2015 . P.68.
12. Rodley, Lyn (2010). Cave Monasteries of Byzantine Cappadocia. Cambridge University Press.
13. Stewart David. Refugee crisis: Sentiments harden // America. 214.11 (Mar. 28, 2016). [Электронный ресурс] URL: http://americamagazine.org/ (дата обращения 29.12.2017).
14. Turner Victor. The Forest of Symbols: Aspects of Ndembu Ritual. New York, 1970.
15. Whyte S.R. & S. van der Geest. The Context of Medicines in Developing Countries. Studies in Pharmaceutical Anthropology. Dordrecht, 1988.
16. Wilhelm, Ian. Physician Strives to Save Religion of Iraqi Minority // Chronicle of Philanthropy, 1040676X, 6/14/2007, Vol. 19, Issue 17.
17. Басилов В.Н. Избранники духов. М., 1984.
Дипломатия и дипломатический ритуал в эпоху Средневековья
Организация посольских приемов при каролингском дворе
Сидоров А.И.доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центр истории исторического знания, Институт всеобщей истории РАНАннотация: В статье рассмотрены ключевые элементы повседневной дипломатической практики, принятой во Франкском королевстве в VIII–IX вв. Поставлена проблема византийского влияния на организацию посольских приемов, как в отношении формального дипломатического протокола, так и в отношении модели поведения представителей принимающей стороны.
Ключевые слова : Каролингская империя, Каролинги, каролингская дипломатия, дипломатический протокол.
Annotation : The article considers the key elements of the daily diplomatic practice adopted in the Frankish Kingdom in the VIII–IX centuries. The problem of Byzantine influence on the organization of Embassy receptions both in respect of the formal diplomatic Protocol and the model of behavior of representatives of the host country is raised.
Key words : Carolingian empire, Carolingians, Carolingian diplomacy, diplomatic protocol
Мы довольно плохо представляем себе дипломатическую практику в раннесредневековых королевствах Западной Европы. Источники на сей счет, весьма немногословны. Истории, анналы, хроники и жизнеописания постоянно сообщают об обмене посольствами, об отправке или прибытии дипломатических миссий. Но о том, как именно это происходило (как принимали посольства разного уровня, кто в этом участвовал, имел возможность или должен был участвовать, кто и где стоял и какие слова произносил, кто и во что был одет и т.д.), известно ничтожно мало.
Основная причина, по всей видимости, заключалась в том, что в варварских королевствах, включая Франкское государство, дипломатический протокол не был детально формализован и документально регламентирован. Во всяком случае, от каролингского периода не сохранилось ни одного документа, в котором это было бы четко прописано. Основное значение имела дипломатическая практика, но источники позволяют восстановить ее лишь в самом общем виде. Очевидно, все вовлеченные в процесс лица знали, как следует поступать в тех или иных случаях. При этом фиксировать на бумаге последовательность действий не было необходимости.
Важными составляющими дипломатической практики были собственно переговоры, а также обмен дарами и совместные пиры – об этом как о чем-то само собой разумеющемся сообщают многие каролингские авторы. Перед нами, в общем, устойчивая традиция, которая с небольшими вариациями встречается у разных народов – от византийцев до норманнов.
В каролингских текстах мне не удалось найти ни одного упоминания о том, что переговоры международного уровня осуществлялись при участии переводчиков, даже когда речь шла о посольствах из Византии, Скандинавии, арабского халифата, аварских или славянских земель [например, см.: 8, cap. 9, 32; 3, cap. 23, 31, 34, 35, 37, 39, 46 и др.]. Однако потребность в таковых наверняка существовала. В «Анналах королевства франков» встречается упоминание о мирном договоре между Франкским королевством и Византией, который был составлен на двух языках и периодически обновлялся [2, an. 812, 814 и др.].
Возможно, причину следует искать в том, что общепринятым языком высокой дипломатии в Западной Европе на излете Раннего Средневековья была латынь, и среди тех, кто был задействован в работе дипломатических миссий, обязательно находились люди, способные изъясняться на латыни. Косвенно на это указывает тот факт, что в состав статусных франкских посольств (отправлявшихся, например, в Рим или Константинополь), как правило, входил епископ или аббат, т.е. тот, кто почти наверняка очень хорошо владел языком. Не случайно в разные годы к исполнению серьезных дипломатических поручений привлекались такие выдающиеся каролингские эрудиты и блестящие латинисты, как Теодульф Орлеанский, Хильдвин Сен-Денийский, Эйнхард, Валафрид Страбон, Адалард Корбийский или Рабан Мавр, оставившие богатое литературное наследие. В качестве послов Карла в Константинополь фигурируют епископ Амаларий Трирский и аббат Петр из Нонантулы. В свою очередь, Людовик отправил в Византию Норберта, епископа Редджио и Рихоина, графа Пуату [3, cap. 23], а в другой раз Халитхария, епископа Камбре и Ансфрида, аббата Нонантулы [3, cap. 42]. По сообщению Астронома, в сарацинском посольстве, однажды прибывшем ко двору императора Людовика, наряду с арабами присутствовал и христианин. О его обязанностях ничего не говорится. Но учитывая его вероисповедание, можно предполагать, что этот человек выступал в роли переводчика [3, cap. 46].
Послов наделяли четкими инструкциями, которых им следовало придерживаться [5, I, 6; II, 2, 10; III, 3 и др.]. Поручения частью фиксировались письменно [3, cap. 56; 8, cap. 53], частью давались в устной форме, особенно если речь шла о чем-то секретном. Посланники Людовика Немецкого, допущенные к его плененному отцу, императору Людовику Благочестивому, из-за присутствия соглядатаев Лотаря вынуждены были сообщить о тайной части своей миссии при помощи знаков [8, cap. 47]. Кроме того, с послов, по-видимому, брали клятву, что они будут действовать именно так, как им указали, и не позволят себе ненужных импровизаций [5, I, 7]. Нитхард, написавший около 842 года «Историю в четырех книгах», неприятно удивлен тем, что послы Карла Лысого и Людовика Немецкого к императору Лотарю нарушили инструкции и «непонятно, каким заблуждением охваченные» пообещали Лотарю больше, чем имели право [5, IV, 3].
Если речь шла о важных посольствах, то сама процедура приема могла растягиваться на несколько дней, причем собственно переговоры чередовались с пирами [5, II, 8] и вручением подарков [3, cap. 23, 41; 8, cap. 9]. Первыми дары преподносили, как правило, гости, и в этом была своя логика. В традиционных обществах любой дар (по А.Я. Гуревичу) требовал соизмеримого отдарка. Каролингские хроники подчеркивают, что франкские короли обычно дарили много больше, чем получали. Император Людовик в 816 году подарил папе Стефану втрое больше того, что преподнес понтифик. По словам Тегана, император поступал так всегда, ибо «привык больше дарить, чем получать» [8, cap. 19]. Причем это правило действовало даже в том случае, если с визитом во дворец приезжал наследник престола [Например, см.: 8, cap. 6]. Помимо прочего, это позволяло принимающей стороне подобрать адекватный отдарок и не попасть в неудобное положение, будучи заподозренным в жадности.
К сожалению, в источниках редко упоминаются конкретные подарки, которыми обменивались стороны, разве что речь идет о чем-то исключительном. Более того, во франкских хрониках фигурируют лишь дары от иностранных делегаций. Так из Византии привезли орган, из Рима и Иерусалима вместе со знаменами городов доставили ключи от гробницы св. Петра и от Гроба Господня соответственно, от арабов поступали пленники-мавры, мулы, доспехи, слон, шатер, палатки, драгоценные сирийские ткани, благовония, мази, бальзам, медные подсвечники и механические часы [2, an. 757, 796, 798, 800, 802, 807].
Послы не могли уехать в любой момент по собственному желанию, даже если поручение уже было исполнено. Разрешение на отъезд давалось лично государем. Иногда посольства задерживали на неопределенный срок, который порой мог растянуться на несколько месяцев [3, cap. 27, 39; 2, an. 817]. Из соображений безопасности короли франков иногда выделяли вооруженную охрану для сопровождения иностранных миссий [2, an. 804; 8, cap. 17]. Учитывая большое количество подарков, которые они везли домой, это было не бесполезно. Ведь посольским делегациям на суше угрожали разбойники, а на море пираты [5, II, 8; 2, an. 809].
Известно, что аудиенция у короля происходила в тронной зале. Некоторое представление о том, как это могло бы быть, дают каролингские миниатюры (например, те, что помещены в Библии Вивиана, Библии Сан Паоло фуори ле Мура, Утрехтской псалтыри, Золотой псалтыри и других иллюминированных рукописях). На них мы видим короля, восседающего на троне, и он – единственный, кто сидит. Все остальные участники приема, как с той, так и с другой стороны, стоят. Это подчеркивало соответствующую иерархичность всей церемонии и демонстрировало, что любой гость, даже очень высокопоставленный, не ровня такому хозяину. Разумеется, это не означает, что именно так все и было на самом деле. Вполне возможно, что высокопоставленных гостей могли усаживать неподалеку от трона. Но в данном случае мы говорим о некой общепринятой норме, которую фиксировали источники.
Первые два десятилетия IX века (после имперской коронации Карла Великого в 800 году) стали временем наиболее активных дипломатических контактов между Франкской державой и Византией. По сообщению «Анналов королевства франков», в этот короткий период времени страны обменивались посольствами едва ли не по несколько раз в год. В 802 году речь даже шла о заключении династического брака между Карлом Великим и императрицей Ириной. А в 812 году император Михаил I Рангаве (811–813 гг.) признал императорский титул Карла. Не удивительно, что именно в это время франки довольно много заимствовали из Византии. Среди прочего, кажется, попытались перенести на франкскую почву и некоторые элементы дипломатического протокола. Правда, об этом можно судить лишь по косвенным данным.
В «Деяниях Карла Великого» (ок. 885 г.) Ноткера сохранился любопытный рассказ об обмене посольствами между Аахеном и Константинополем [6, II, 5–6]. Сначала в Константинополь отправились франки. По словам санктгалленского монаха, над послами там изрядно поиздевались. Их поселили у некоего епископа. Тот все время постился и соответственно морил голодом послов так, что гости едва не умерли. Для франков, напротив, нормой было заботиться о чужестранцах. Через довольно большой промежуток времени франкских послов, наконец, допустили к императору, а затем пригласили на пир с его участием. В основе этого действа также лежал строгий протокол, но чужестранцев об этом не предупредили. Попросту говоря, их намеренно подставили, чтобы подчеркнуть их необразованность и безкультурность, а заодно обвинить в неуважении к хозяину. В итоге протокол был нарушен. Ноткер подчеркивает, что повод был абсолютно мелочный – по правилам нельзя было переворачивать поданное на пиру блюдо, его следовало, есть сверху, франки же, его перевернули. Так в образной форме автор сформулировал крайнюю зарегламентированность публичной жизни двора. Франкам грозила смертная казнь и только благодаря собственной находчивости и смекалке они выжили и даже благополучно вернулись домой.
В Аахене были крайне возмущены таким обращением и в отместку устроили ответному византийскому посольству своеобразный антиприем, т.е. подчеркнуто нарушили все принятые при дворе правила.
Первое, что приказал сделать Карл по совету приближенных, узнав о прибытии византийской миссии в королевство, так это изрядно помотать послов по дорогам. Отмечу, что это общепринятая византийская практика, нацеленная на то, чтобы создать у послов представление о грандиозных размерах империи и трудности долгого пути в столицу. Ноткер дает иную интерпретацию. По его мнению, это было сделано ровно для того, чтобы чужестранцы потратили все деньги и явились во дворец в изношенной одежде. Таким образом, они не могли бы похвастать перед франкским государем и его придворными своим роскошным платьем.
Одежда – важный элемент статуса, деформация этого элемента автоматически означает понижение статуса. По словам Астронома, аббат Адребальд отправил к императору Людовику своего человека с важным письмом, и чтобы тот благополучно миновал франкские кордоны в Альпах, заставил его облачится в нищенские лохмотья [3, cap. 56]. Аналогичным образом поступали и куда более влиятельные персоны. По рассказу Рихера, Гуго Капет, спасаясь от преследователей, переоделся погонщиком мулов и так смог пройти все неприятельские кордоны. Никому и в голову не пришло, что столь знатный человек может быть одет как бродяга [7, III, 88]. Мы знаем, что короли франков в особо торжественных случаях облачались в дорогие одежды. Например, Карл Великий на торжествах выступал в вытканной золотом одежде, украшенной драгоценными камнями обуви, застегнутом на золотую пряжку плаще и в короне из золота и самоцветов [4, cap. 23]. Равным образом Людовик Благочестивый носил отделанную золотом ткань, золотую тунику, золотой пояс и сверкающий золотом меч, золотые поножи и выделанный золотом плащ; на голове он носил золотую корону, а в руке держал золотой жезл [8, cap. 19]. Но в обычной жизни их костюм мало чем отличался от одежды остальных придворных. Да и в целом придворная жизнь в Аахене была куда скромнее константинопольской.
Затем незадачливых легатов подвергли систематическим унижениям, что опять же очень характерно для византийской практики. Их долго водили по дворцу, не сообщая, кто перед ними. Те принимали за императора каждого знатного, который выделялся одеждой и сидел на возвышающемся месте, и простирались перед ним на полу. Сначала им «повстречался» коннетабль, затем пфальцграф, стольник, камерарий.
Лишь после этого в окне появился «Карл, славнейший из королей, сияющий подобно восходящему солнцу, украшенный золотом и драгоценными камнями». Вокруг него «подобно небесному воинству» стояли сыновья и дочери, а также епископы, аббаты и герцоги.
Излишне говорить, что византийские послы были полностью раздавлены таким величием и будто мертвые повалились на землю. Усиливая напряжение рассказа, и подчеркивая целостность создаваемого образа, Ноткер акцентировал пространственную дистанцию между Карлом в окружении блестящей свиты и легатами из Константинополя. Карл не появился непосредственно перед ними в том же помещении, а показался в окне верхнего этажа, демонстрируя свою недосягаемость для простых смертных.
Дистанция – важный элемент протокола, явно позаимствованный извне. Если верить каролингским авторам, короли франков, в общем, были доступны для общения. Более того, эта доступность воспринималась как вещь абсолютно нормальная и даже необходимая. Эйнхард сообщает, что Карл Великий во время утреннего одевания принимал посетителей, что великий император франков купался в аахенских банях с десятками придворных и даже охраной [4, cap. 22, 24]. А император Людовик, по словам Тегана, принимал своего сына Лотаря в палатке, которая специально стояла на виду у всего войска [8, cap. 55].
В сущности, Ноткер описал византийский ритуал – такой, каким мы знаем его по более позднему описанию Лиутпранда Кремонского. Санктгалленский монах не видел его сам, но, вероятно, узнал о нем из рассказов своего приемного отца Адальберта, ветерана войн Карла против саксов, славян и аваров, а также его сына, монаха той же обители Веринберта, главных своих информаторов об эпохе Карла Великого. Характерно, что Ноткер интерпретировал эту историю в строго негативном ключе, воспринимая такое поведение как чуждое, неправильное и в общем недопустимое. Судя по тому, что мы не находим в текстах IX века других описаний подобного рода, во Франкии при Каролингах византийский дипломатический протокол не прижился. Отметим также, что описание Ноткера вовсе не означает, что франкских послов всегда плохо принимали в Константинополе. Напротив, многие рассказывали о проявленном к ним уважении [Ср.: 3, cap. 42].
Внешние заимствования были разнонаправленными, несистемными и в значительной мере зависели от политических процессов, которые протекали внутри Франкской державы. При Людовике Благочестивом (814–840 гг.) меняются политические идеалы, и образцом для подражания вместо Давида и Константина в окружении государя выбирают Соломона и Феодосия. Эта смена отразилась, в том числе, и на дипломатической практике.
Убедительный тому пример – визит в Реймс в 816 году новоиспеченного папы Стефана. Он был избран без согласия императора Людовика Благочестивого в связи со скоропостижной кончиной папы Льва и потому поспешно отправился за Альпы, чтобы заявить о своей верности Людовику. Это было вполне объяснимо, учитывая подчиненное положение римских понтификов по отношению к франкским государям. Но в Реймсе его ждал совершенно неожиданный прием.
Сохранилось два описания встречи Людовика и Стефана, оба поздние – одно принадлежит перу Тегана (ок. 838 г.) [8, cap. 16–17], второе – Астронома (ок. 842 г.) [3, cap. 26]. Они не идентичны, однако сходятся в главном. Людовик не стал дожидаться папу во дворце, но, отправив вперед себя весьма представительную делегацию, лично вышел к нему на встречу. Более того, примерно километр прошел пешком, как пишет Астроном, помог папе слезть с лошади, да и потом все время его поддерживал. Теган сообщает еще более удивительную вещь – Людовик будто бы трижды распростерся на земле у ног понтифика и только потом его поприветствовал.
Вероятно, перед нами отголосок характерного византийского ритуала приветствия императора его придворными – падание ниц. Практиковалось ли это в Аахене, мы не знаем, почти наверняка – нет, учитывая, сколь неоднозначно воспринимали франки любые византийские веяния. Но в качестве разовой акции таковое вполне могло иметь место, учитывая склонность Людовика к разного рода ритуальным экспериментам (здесь стоит вспомнить, например, о публичном покаянии государя в Аттиньи в 822 году). Все поведение императора франков было призвано показать – повелитель могущественной империи ставит себя ниже папы, он демонстрирует смирение, подобно тому, как в конце IV века вел себя Феодосий по отношению к Амвросию Медиоланскому, на тот момент признанному лидеру западной церкви. Но в этом его уничижении символическим образом должно было проявиться его подлинное величие [ср. 3, cap. 28]. В целом по проблеме [подробнее см.: 1].
В этом Людовик был ни на кого не похож – ни на предков, ни на современников, ни на ближайших потомков. Этим и запомнился. Остается только добавить, что в перспективе «подражание Феодосию» для Людовика закончилось печально – империя погрязла в междоусобицах, а императора, обвиненного в систематическом нарушении клятв и непозволительной для правителя слабости, в какой-то момент даже свергли с трона. Следует отметить, что подобным образом Людовик вел себя не каждый раз при встрече с папой. Например, папу Григория IV в 833 году на Поле лжи император принимал подчеркнуто прохладно [3, cap. 48], ибо тот оказался в стане его врагов. Впрочем, дарами они обменялись [8, cap. 42].
Список использованных источников и литературы1. Бойцов М.А. Величие и смирение. Очерки политического символизма в средневековой Европе. М., 2009.
2. Annales regni Francorum // ed. F. Kurze (MGH. SS. rerum Germanicarum in usum scholarum. T. 6) Hannover, 1895.
3. Astronomus. Das Leben Kaiser Ludwigs. In: Thegan. Die Taten Kaiser Ludwigs. Astronomus. Das Leben Kaiser Ludwigs / Hg. und übers. von E. Tremp (MGH. SS. rerum Germanicarum in usum scholarum. T. 64). Hannover, 1995.
4. Einhard. Vita Karoli Magni / Hg. O. Holder-Egger (MGH. SS. rerum Germanicarum in usum scholarum. T. 25) Hannover; Leipzig. 1911.
5. Nithard. Historiarum libri IIII / ed. E. Müller (MGH. SS. rerum Germanicarum in usum scholarum. T. 44). Hannover, 1907.
6. Notker Balbulus. Gesta Karoli Magni imperatoris / Ed. H. F. Haefele (MGH. SS. rerum Germanicarum. Nova Series. T. 12). München, 1959.









