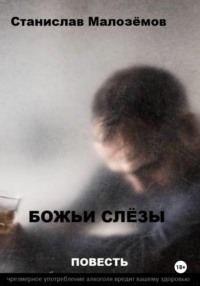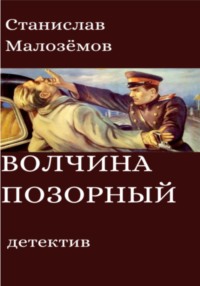полная версия
полная версияПолная версия
Вести с полей
А с Нинкой совсем отношения споганились. Я молчал всё время. Душа тяжелая была, аж говорить не мог. Стали мы с ней ругаться по разным случаям. И постоянно грызлись. Я ей говорил, что зря мы такой грех на себя взяли. А она мне – не мы, мол, а ты. Ну, то есть я. И говорила, чтобы пить завязывал, а то проболтаюсь по пьянке. И, говорила, учти, что про то, кто зарезал Петьку, только она знает. И если я не буду жить так как она велит, то продаст Нинка меня вам и не всхлипнет! Во как! И всё чаще стала мне это повторять. Мол, знай – кого тебе бояться надо, убивец! Я долго терпел. Месяца три почти. А она всё шибче гайки заворачивала. Иди, говорила, к Данилкину и скажи то- то. Или там ещё чего – нибудь придумывала. То говорила, чтобы я на собрании выступил и сказал, что знаю кто Стаценко убил. И назвал двух блатных с выселок.Кренделя и Колуна. Пусть милиция приезжает. А она Колуну за это время в дом Петькину бумагу рабочую подкинет. И портсигар. Она его как-то стырила когда все собрались в комнате, где я его зарезал. Я отказывался и ни разу нигде вообще ничего про это дело не вспоминал. Ну, про Стаценко вообще, короче. И она мне тогда сказала, что я начал под богом ходить. Ходи, мол, и смерти жди. Коли меня, мол, не слушаешься.
Я так ещё денек походил, а потом неделю всё прощения у неё просил и задобривал по всякому. Ну, вроде как и слушаться буду, и семейную жизнь мечтаю наладить как было, и вообще – дурак я, что не понял вовремя, что она для меня самая главная и дорогая. Золотая даже. А как-то подвернулся случай когда у неё настроение хорошее было и втюхал ей своё предложение шубу себе купить .Денег дал много. Она сказала, что через день и поедет. Тут я быстренько раззвонил где мог, что посылаю жену в город, чтобы выбрала себе подарок дорогой, шубу лисью или норковую. Что десять лет законного брака у нас грядёт в январе. Восемнадцатого. Ну вот. Четырнадцатого она и уехала. Насовсем. Остальное вы знаете.
– Коротко вот это всё напиши. Генерал не любит длинных заявлений читать.– Малович подтолкнул листок поближе к Костомарову и ручку дал свою. – Думаю, что такую повинную примет генерал и одобрит. Давай. Строчи. Только не увлекайся и ошибок поменьше клепай. Его это раздражает.
А мы пока пойдём на улицу. Покурим. Подышим. Полчаса тебе на литературный труд.
Вышли Тихонов с Маловичем во двор. Малович поднял ладонь. Тихонов звонко шлёпнул по ней своей пятернёй.
– Не пойму одного, Володя.– Малович покрутил корпусом в разные стороны. Кости размял.– Что ж не живётся- то людям просто и честно. По совести.
Кругом одна подлость, зависть и мерзость.
– Не там работаем.– Ухмыльнулся Тихонов. -Надо было в библиотеку устраиваться. Или в церковно- приходскую школу поступить. Потом дьяконом работать и видеть всегда лики святых. Они безгрешны, честны и чисты. Да и прихожане в массе своей люди честные, не злобные.
– Да поздно уже.– Малович выдохнул, расслабился.– Мне майора через месяц обещали. Тебе – четвертую звездочку повесят. К подлости и мерзости привыкнуть не может никто. Кроме нас, милиционеров. Или мусоров, как говорят в народе. Я вот привык. Нравится мне хоть на время мерзость и пакость всякую подальше от людей нормальных убирать. За решетку, бляха.
Через час машина милицейская уже летела по растаявшей трассе в следственный изолятор УВД. Малович песню насвистывал. Тихонов под ногтями чистил перочинным ножиком. Один Костомаров ничего не делал. Сидел, зажав коленям запястья в наручниках, стеклянными глазами пялился на припухшие, наручниками передавленные кулаки свои и думал о весне.
Не просто о том, что вот она – весна. Думалось ему, что весной и в лагере будет травка. Может и цветы будут. И летом не страшно жить, наверное, в лагере. А зимой, глядишь, и вытащит его Данилкин или Чалый сперва на поселение, а потом и на полноценную волю.
Которой теперь – то уж он будет и гордиться, да беречь её.
И больше чем самим собой дорожить
Глава пятнадцатая
***
Все имена и фамилии действующих лиц, названия населенных пунктов Кроме города Кустаная изменены автором по этическим соображениям.
***
Всем хорош весенний месяц март. Международный женский день – его главное украшение. Ну и тепло, ежедневно подпрыгивающее на градус, а то и на три сразу, тоже осветляло бытие крестьянское. За заборами дворов, да по-над дорогами травка вылезала нежная. Изумрудная, тёмно-зелёная и серая. Степь легче находила в недрах именно такую траву. Серую. И вот сколько жили на целине люди, так почти никому и в голову не приходило узнать названия тёмно-фиолетовой низкой травы, серой, коричневатой и высокой бледно-желтой. Росли эти травки и на просторах степных, и в палисадниках сами по себе, без обид на то, что имя их неизвестно и пользы нет никакой. В совхозе по-первой было много экспериментаторов, которые в городе покупали семена цветов самых неприхотливых и высаживали их под окнами. Через пяток лет их стало меньше вдвое, а к шестьдесят девятому человек сто настырно закапывали в палисадниках космею, бархатцы и циннию. Семян покупали побольше, а всходила и приживалась малость малая. Но всё равно красиво было. И те, кто сажать цветы бросил, обалдевши от кропотливости ухода, ходили часто к упорным соседям, которые выдержали испытание взращивания культурной флоры в серо-желтом грунте, больше похожем на старый слежавшийся цемент, чем на почву. Они заходили в соседские палисадники, садились на корточки и отщипывали кончики веток бархатцев. Они растирали их пальцами и подолгу держали возле носа, ностальгируя, падая от запаха в пропасть, на дне которой лежала далёкая прежняя жизнь в России, на Украине, в Белоруссии и Сибири. Бархатцы росли на их родине непременно. Без них не существовало цветников ни в одном краю Советского Союза. Цветы космеи и циннии ароматы испускали призрачные и потому ими просто эстетически восхищались, не вышибая из цветов запаха.
Вообще прекрасно было весной ранней. Птиц появлялось множество. И от того нескучным было пространство над совхозом. Нагретый ветерок носил над домами и дорогами радостное чириканье, писк, карканье и даже мелодии приятные, которые умели сочинять неизвестно зачем прилетающие из лесов уральских и местных старых деревень соловьи. Морды дворовых и беспризорных собак были весёлыми, хвосты торчали вертикально вверх, что обозначало их хорошее состояние и весенний настрой. Коты орали истошно любовные арии, подолгу сидя в ожидании ответных действий от кошек. Ну, о весенних людях можно было бы вообще не рассказывать. Одной детали, по-моему, хватает, чтобы зафиксировать их заждавшуюся страсть по весне. Все в первые очень тёплые солнечные дни хоть не надолго, но нацепляли на себя всё самое пестрое и яркое. Они прогуливались в такой чуждой для степной жизни одёжке до рабочих мест, пересекаясь на дорожках и довольно разглядывая друг друга. Улыбались, желали здоровья да хорошего дня. А на МТС, на токах и зерноскладах, в столовой или в больнице переодевались в привычную, удобную, но неказистую и примелькавшуюся за годы униформу.
Весна, конечно, всегда – пробуждение. Но не только природы. А ещё и очередного многолетнего подскока до больших высот трудового энтузиазма.
Который так же неизбежно упирался в повторяющиеся, как понедельники и пятницы, проблемки, проблемы и почти неразрешимые трудности.
***
В половине десятого утра пятнадцатого марта, когда основной народ стучал молотками, визжал пилами и искрил электросваркой. Когда поварихи увлечённо резали мясо для горохового супа и варили рис, а учительницы разных классов и предметов с удовольствием лепили в журналы двойки для стимуляции тяги учеников к знаниям. Вот в это занятое всякими делами и делишками время одиноко и угрюмо сидел на столе в своём кабинете директор Данилкин. Слева от него лежала плоская хрустальная пепельница, утыканная окурками, руками он подбрасывал высоко и удачно ловил спичечный коробок, а справа молча стояли два телефона. Черный, высокий, пятьдесят первого года выпуска, трубка которого весила как небольшая гантель. И второй, красный, приземистый и обтекаемый. Под диском был каким-то методом отпечатан герб СССР. Это был прямой телефон для общения только с обкомом КПСС. Данилкин в половине девятого уже дозвонился до своего сельхозуправления и до обкома. Доложил в седьмой уже раз, что разнарядку получил и готов приступить к посевной в указанный разнарядкой срок – пятого апреля. Но при этом Данилкин робко каждое утро спрашивал, получил или не получил обком партии посланное три недели назад дирекцией совхоза письмо-запрос с перечнем недостающих деталей для разной техники, а также острой нужды в тридцати тоннах солярки, двадцати тоннах бензина, двенадцати – аммофоса и столько же нитрофоски. Это же уведомление-прошение он отправил и в Управление сельского хозяйства. Звонил в две этих высоких инстанции каждое утро всю последнюю неделю и справлялся о получении письма, и о долгожданном решении в пользу сельского хозяйства.
Неделю ему колупали мозги, давая ответы так, что чиновнику низшего, чем обкомовский, ранга мысль уловить и уразуметь было не то, чтобы совсем невозможно, но трудно. Данилкину отвечали, что вопросы решаются и будут решены. Но параллельно же резко и в меру грубо интересовались – куда он дел всё, что ему дали в прошлом году. Данилкин, директор, неофициально оповещал начальство, что соляру с бензином работяги не пьют, а расходуют на работу всяких моторов, которым заглатывать топлива приходится, ну, очень много. Сперва надо влагу закрыть, потом пахать, боронить и сеять.
А земля тут тяжёлая. Много энергии забирает для вспашки и обработки. Удобрения тоже никто не ест, а, наоборот, сыплют в землю как написано на мешках. Объяснял аккуратно, что в отвратительных условиях погодных техника, хоть и железная, ломается местами и требует запчастей. А сам совхоз запчасти делать не может, так как соответствующие станки и оборудование совхозу по статусу не положены.
В этих беседах, похожих на игру в шашки, где бьют то чёрные белых, то белые чёрных, всегда выигрывала производственная потребность. Но после очередной победы над вышестоящим органом у Данилкина ещё долго тряслись губы, кружилась голова и он, забывшись, иногда даже при жене Соне говорил с проскальзыванием трёхэтажного мата. Это каждый год беспокоило Софью Максимовну, которая боялась, что Гриша однажды свихнётся и попадет в дурдом, откуда его выпишут полным дураком после серии специфических уколов.
Красный телефон, от которого Данилкин ждал больше, чем от чёрного, зазвенел своим нежным колокольчиком всё равно неожиданно, не смотря на напряженное ожидание.
– Ильич! – сказал зам.завотделом сельского хозяйства. – Танцуй! Тебе утвердили двадцать тонн соляры, десять – бензина, удобрений полностью заявленный объём, а запчастей для борон и сеялок нет вообще, для тракторов и машин – есть, но не все. Подвезут тебе всё послезавтра. Готовься к приёму.
– О! Бляха- муха! – закричал Данилкин. – Стёпа, прямо обнимаю тебя как бабу достойную! И ящик коньяка с меня.
– Два ящика, – поправил Степан Владимирович. – Еле выбил потому что. Аж в весе потерял граммов триста. А бабу свою обними покрепче. Можешь маленько прижать и от меня лично.
Похохотали они довольно над удачными своими шутками, порадовались матерком за почти идеально сделанное дело и трубки повесили.
– Юра! – крикнул директор в коридор дежурному по конторе, который сидел на траектории подхода к кабинету Данилкина.
Юра с газетой «Труд» в левой руке и бутылкой лимонада в правой, мгновенно образовался на пороге.
– Чалого приведи ко мне, – Данилкин взял бутылку. Глотнул. Хороший лимонад был. Холодный. Резкий. – Будем с ним дальше кумекать. Из блохи кроить голенище.
***
Чалый Серёга сел на стул возле окна и взял со стола Данилкина бумагу. Копию той самой заявки – запроса на всё, что надо.
– Сколько и чего срезали? – Спросил он, улыбаясь. Потому как ни одного года не было ещё, чтобы дали, сколько просишь. Поэтому просили всегда больше, чем надо. И получали всегда меньше. Но почти столько, сколько требовалось. Остальное, не очень уж и много, надо было где-то самим искать.
– Да как обычно, – Данилкин бумагу забрал и стал ставить где-то галочки, где-то крестики. – С запчастями дерьмово. Он мне сказал, что какие-то есть, а каких-то нет. По практике знаю, что нет как раз тех, которые вылетают у всех чаще. Что у нас пострадало на той посевной шибче всего?
– Сеялки. Их в прошлогодней размазне, в колдобинах промытых и на поворотах опрокидывало часто. Колёса гнулись и трескались. Дозаторы в лепёшку мяло. Подвесная на тракторах со шнифтов слетала и корёжилась. Ну, шланги воздушные рвало, это само-собой. Бороны тоже помяло многие. Зубья ладно – сами в кузне сделаем. А вот рамы кривые от перевёртышей
попробуем, конечно, тоже обровнять. Но с этим делом возни много. Попытаемся успеть. Да только стойки на плугах, отвалы и лемеха особенно – лучше бы поменять на девяти агрегатах. Но, чую, лемехов как раз не дадут, да и отвалов тоже. Стойки поправим. Нагреем лампами паяльными, да отстучим. А вот лемеха точить замаешься, ясное дело. Ну, не катастрофа. Сделаем.
– Соляру, бензин кто поедет искать? – озабоченно промычал Данилкин. – Жадных мы уже выучили. К ним ездить нет резона. Дутов даст тонн пять того и другого. Кравчук пусть к ним едет. Они ж друзья с Алиповым. Уговорят Федю. Ну, ещё по десятку тонн в Кустанае прямо на нефтебазе втихаря можно поклянчить. Мимо кассы, конечно. К Любавину Генке надо подкатиться. Ящика три водки, деньги наличными. Он на своих машинах вывезет, а за городом перельёте в наши. Ну, как в прошлом году. Наличные на двадцать тонн солярки и бензина в кассе возьми. Пусть запишет деньги на премиальные третьей и четвёртой строй бригадам за прошлый год. Сам в город и поедешь. Другому Генка и не нальёт.
– А Дутову? – Серёга посмотрел на часы. – Тоже наличными?
– Не возьмёт, – засмеялся Данилкин, директор. – Пусть Кравчук с Алиповым выпросят у него, а я перечислю. Он, что хорошо, по госцене отдаёт.
Лет семь же у него нехватку берём. Молодец, Дутов. Не ханыжит.
– Ну, с этим понятно вроде. Вывернемся, – Чалый Серёга поднялся и ходить стал по кабинету и выражение лица его несло печать почти полной безысходности. – Но есть у нас провалы и поглубже, опасные есть дырья в делах наших.
– Агронома имеешь в виду? – начал бродить по комнате и директор. Правда, печали на лице его не видно было. – А мы его у того же Дутова в аренду возьмем. Я его сам попрошу. У него их, блин, пять штук. Одного-то отпустит на посевную. А к лету я и сам привезу. Область большая. Обком мне найдёт. Мы ж по уважительной причине, по экстренной попросим. Убили, скажем, нашего. Да они знают. Помогут. Может, даже хорошего подыщут.
– Нет, Ильич, – Чалый Серёга остановился и упёрся тяжелым взглядом в Данилкина. – Ты без экономиста и счетовода как собираешься крутиться? Расход семян кто будет считать? Тебе же надо как будто и площади новые освоить, и семян побольше посеять. А где они у нас? Тех, что есть и на старые наши поля не хватит. Покупать семена не на что. Так?
– Ну, да. Нет деньжат больше. На зарплату только осталось. И то до июля. А там, пока урожай не продадим – ждать работягам придется как всегда. До ноября.
– Костомаров в изоляторе, жена его в могиле. Сам будешь дописывать цифирь? Что и семян ушло подчистую. По 230 килограммов на гектар. Это при девяноста процентах пригодности и всхожести. А у нас гектаров-то, ого-го сколько! Так потом и урожай надо взять не по пять-восемь центнеров, а минимум по семнадцать, а то и двадцать. Иначе наверху не поймут нас. Мы всегда так сеем и столько сдаём. Снизим тоннаж сдачи – будут вопросы серьёзные. Сам приучил обком и управу сельхозную к нашим трудовым подвигам и победам в соцсоревновании. Нет обратной дороги, Ильич. Нет её.
– Вот и садись, бляха, экономистом. Соображаешь получше того же Костомарова, – Данилкин махнул рукой на стол костомаровский.– Да и мне спокойнее будет.
– Не… – Чалый отвернулся и стал глядеть в окно. – Я уже три раза зону топтал. Больше не хочу.
– Я, что ли, тебя сдам? – искренне возмутился Данилкин, платок носовой достал, лоб вытер. – Я Костомарова, придурка, не продал, а уж тебя…Ты чего, Серёга?!
– Не… – повторил Чалый. – Костомаров тихий был, незаметный. У него и врагов-то не было, потому как его толком и не видел никто. Серая мышь, короче. А меня найдется кому продать в ОБХСС и без тебя. Искать надо. Такого же неказистого, серого, тихого молчуна. Человека-невидимку практически. Причём на поиски нам неделя. Максимум. С ним же надо посидеть, водочки попить, разъяснить методику священнодействия. Вот, мля, задача-то.
– Может «звезду» нашу попросим, Айжаночку Каримбаеву?! – хлопнул в ладоши директор Данилкин. – Баба она своя. Нормальная. В авторитете у всех в области. Она одна единственная больше двух тысяч гектаров за пахоту поднимает. Ни один мужик-тракторист и рядом не стоит. Её все областные начальники мечтают на руках носить. Она какую славу целине делает! Вот её мы и попросим. Просто повезло, что она сбежала с Дарьяновского элеватора к нам в совхоз. А мы, получается, вроде как отцы её названные. Должна она нам помочь. Не откажется. Ей в райцентре того экономиста отдадут, в какого она пальцем ткнет. Сам с ней сегодня потолкую. Домой к ней пойду.
– Вот это похоже на деловой вариант. Зарплату экономисту надо сделать выше Костомаровской. Причём, чтобы он сразу об этом узнал. А жить будет в его же доме. Я так думаю, что не вернётся Костомаров с зоны. А, может, и до зоны не дотянет.
– Нам не надо, чтобы он даже до суда дотянул, – тихо пробормотал Данилкин, директор. – Как там Малович стараться будет – не знаю. Но на суде как угодно может повернуться. И может он «вышака» схлопотать за двойное убийство. Вот тогда он к прежним показаниям и меня добавит как организатора и убийства обоих, и вредительства стране путём приписок огромных. Он сам мне так сказал.
– Не дёргайся ты, Григорий, – Чалый Сергей взял его мягко за плечи и на стул усадил. – Не будет суда над Костомаровым. Понял?
– Дай тебе Бог здоровья и всех благ, Сергей Александрович, – глядя Чалому в глаза, жалобно произнёс Данилкин. – Одна у нас жизнь. Надо дожить её на воле. При уважении, да при деньгах. Не возражаешь?
– Какой дурак от хорошей жизни вольной да обеспеченной откажется?! Я на дурака похож? – Серёга улыбнулся да руку Данилкину протянул.
И крепко пожали они руки друг другу. Закрепили уверенность в союзе верном, который, правда, и так существовал. До этого многообещающего рукопожатия.
***
Разъехались гонцы во все концы за десять дней до посевной. Такая на целине традиция явилась и закрепилась прямо с пятьдесят седьмого. Зиму отдыхать, а за полмесяца до посевной вкалывать без сна, отдыха, выходных и отвлечений на личную жизнь и прочие радости. Пытались сверху подавить в корне традицию, но умылись безнадёжной слезой и утихли после позорного провала.
Недели за три до посевной народ трудовой упирался рогами в беззаветный труд. Буквально все, даже те, кто конкретно не пахал и не сеял, со зверскими лицами тонули в раскаленном течении быстрого времени. Кто носился почти бесплодно за запчастями по богатым совхозам да в Кустанай, а счастливцы Чалый и Валечка Савостьянов солярку с бензином за один день закачали в цистерны с помощью Дутова и своего директора Данилкина. Причём не по пять тонн, на что надеялись, а сразу по двадцать – того и другого. Дутов и так был отличным мужиком, а теперь стал просто любимцем всех корчагинских работяг. Ну, слили драгоценное горючее в хранилища, после чего на нефтебазе все выдохнули и начали расслабляться. К вечеру того счастливого дня почти полностью расслабились и почти ползком убыли в семьи. Горючее есть, а это главное. Запчастей-то каждую весну и осень не хватало. Но их почти без напряга научились делать в своих цехах на МТС. Потому как собрать по знакомым хозяйствам или выбить всё нужное через своё головное управление было куда тяжелее. У соседей ломалось всё то же, что и у корчагинцев, а в областном управлении требовалось пару дней потратить на забеги по кабинетам ответственных лиц и всюду писать, писать и писать. Причём почти одно и то же. Потом всё написанное следовало подтвердить росписями мелких, средних и крупных руководителей, которым почему-то очень нравилось отсутствовать на месте в связи с почти беспрерывными собраниями, совещаниями, заседаниями и вызовами на ковры разной мягкости.
Но и когда все автографы и печати удавалось собрать, это ещё не называлось успехом. Потому как кипу бумаг требовалось завизировать у самого главного. Главнее которого тоже, конечно, люди есть, но сидят они в других местах. Так вот управленческий самый главный был в рамках конторы своей и Змеем Горынычем, и Золотой рыбкой одновременно. Он мог всё, что ты набегал за два дня похерить одним словом – «отказать», а мог, если его сегодня не трепали самого в обкоме, черкнуть волшебное слово -«рассмотреть».
Завскладом хорошую, добрую бумагу изучал так, будто это был увлекательный роман про любовь, ревность, предательство и печальный конец всей драмы. Осилив последнюю страницу завскладом говорил роковые слова: «Чтоб они сдохли все наверху! Им бы фантастику писать, сказки волшебные, а не сельским хозяйством заправлять!» Он так говорил, чтобы жаждущий запчастей проникся его величием и понял, что вот только теперь он попал к настоящему властелину втулок, форсунок, шлангов для гидравлики, шнеков, шестерёнок и болтов на двадцать два для крепления сцепок межу трактором и сеялкой. Он на данный момент был тебе роднее родителей и выше Политбюро ЦК КПСС. Потому как ЦК не мог выдать сто штук болтов и одиннадцать шестерёнок, а он мог. Если его по-человечески попросить. Те, которые попутно заносили на склад и ставили в уголок ящик коньяка, или тушенки, или дубовую бочку атлантической селёдки пряного посола, уезжали не с пустыми руками. Рассказывали механизаторы, что были и такие случаи, когда завскладом находил и выдавал всё, что влезло в список. Но никто живьём счастливцев не видел, фамилий их не знал и представить не мог, что надо занести в уголок, чтобы обменять его на полное механизаторское счастье.
Чалый был и тут исключением удачным. Утром двадцать четвертого марта приехал в управление, они с Колей Антимоновым, начальником отдела снабжения, полдня просидели в кафе «Нива» рядом с конторой, потом сытый и в меру пьяный Коля сам пошел к главному с приветом от Чалого: портфелем, вместившим три пузыря армянского коньяка и шесть баночек консервированных крабов «Хатка». Подарок дал ему Данилкин, а где сам взял, даже предположить Чалый не сумел. С единственной росписью начальства «выдать по списку» Коля Антимонов с Серёгой поехали на склад и уже через час Чалый рулил на совхозном ГаЗ-51 домой, увозя в кузове целую половину от всего, что надо было для ремонта. И этот факт оценивался лично Чалым Серёгой как событие, которое требовалось отметить силами всех ремонтников и механизаторов. Что они и сделали, начав в семь вечера. Протянули ликование, конечно, до полуночи и, напоминая нечёткие, расплывчатые и качающиеся тени, медленно растаяли во тьме, интуитивно не промахиваясь мимо своих домов.
Кравчук смотался в «Альбатрос» к Алипову Игорю, который вчера вернулся из города от жены и занялся посевной. Наталья на поправку пошла, но главврач областной больницы лично её осмотрел и сказал, что спешить не надо. Отравление серьёзное. Пусть месяц-другой полежит и примет ещё много необходимых и полезных капельниц.
– Правильный доктор, – заключил Алипов. – Другой бы выпихнул поскорее. Место освободить. А и здорово! Пусть полежит. А я за это время с любимой своей Валюхой трудные разговоры проведу. Наказал я её, сучок. Почем зря.
Как фраер дешевый. Куда ей теперь? Жену бросить в такой ситуации не смогу. Скотство последнее. Я и так нагадил полную душу ей. Смотри, Толян, а ведь сколько прожил с ней, да и не замечал ни хрена, как она меня любит. Так травануться, забыв про всё, про детей даже, можно только когда любовь к мужу на высочайшем уровне!
Толяна коробило, конечно, что у женщины собственные дети от измены мужа ушли за кадр, как говорил один его знакомый фотограф. Но он для видимости и ради совместного дела через силу соглашался. Хотя и Валюху Мостовую жалел по-человечески, и Наталью Алипову тоже. Одинаково жаль было обеих. Но рассказывать Игорю Сергеевичу этого не стал он. Промолчал. Советы и суждения собственные раздавать глупо было, не вовремя и бессмысленно. Всё решится так, как должно по судьбе решиться. Не иначе. Думал он именно так.