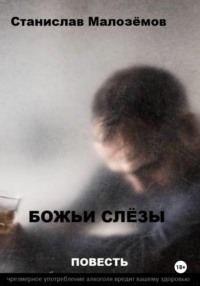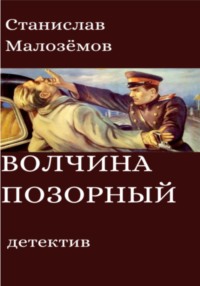полная версия
полная версияПолная версия
Вести с полей
Колыванов положил трубку. Данилкин долго ещё слушал короткие гудки. Хоть и был в общем-то готов к этому сообщению, но всё равно оторопел. Жизнь начала меняться уже не в воображении, а в совершенно реальной действительности. Ещё год назад сила радости подбросила бы Григория Ильича до потолка. Но вот сейчас не наблюдал он в себе ни чувства победы над призрачной и почти фантастической целью, ни радости вообще. И пока с ходу не мог разобраться – почему.
А дома Соня уже стол накрыла. Коньячок, наливка, салаты всякие, печенье домашнее, конфеты и торт. Сама испекла. Сервировка предполагала приход шестерых гостей с женами.
– Всё? Уладилось? Переводят тебя? – Софья Максимовна обняла мужа прямо на пороге. – Ну, слава Богу! Дотерпели! Заживём теперь! Власть – она крепче, надежнее любых денег. Поздравляю, Гриша, дорогой!
– А что – так много гостей ожидается? – Кивнул Данилкин на богатый стол.
– Ну как же? – всплеснула руками жена. – Чалый с женой, Самохин со своей, парторг, председатель профсоюза, Еркен – экономист и Валя Савостьянов. Все с супругами. Я уже обзвонила их. В три часа дня соберутся.
Посидел Данилкин возле стола, машинально съел коляску сервелата, выпил полстакана коньяка, но появившееся сразу после звонка Колыванова чувство растерянности не исчезло. Скорее всего – даже не растерянность это была, а оторопь. Оцепенение. Будто объявили ему с небес силы неведомые, что завтра же его забирают на страшный суд, после которого ему уже жить не разрешат. Слишком много несмываемых даже кровью грехов за душой у Данилкина.
– Слушай, Соня, ты пока позвони всем, кого позвала, и перенеси встречу на семь часов вечера. – Григорий Ильич взял кепку, туфли новые, коричневые, надел.– А я пока съезжу к Дутову. Поговорить надо.
– Смотри, Гришаня! – резко сказала Софья Максимовна. – Нутром чую, что хочешь отказаться от должности. Так ты не дурей до такой степени. Никто ж не поймёт, не оценит. Ты сколько лет здесь жилы рвал, чтобы заворгом стать? Минимум десять. А то и все одиннадцать. Ты и себе и мне жизнь поломаешь. Я сколько лет сплю и вижу, что живем мы в городе. Ты при должности, а я полноценной жизнью заживу. Светские приёмы обкомовские, театр, церковь нормальная, аллеи парка, библиотеки, люди, в конце – концов другие. Не Игорьки Артемьевы.
– Мелешь чушь всякую. Светские приёмы…– Данилкин нацепил кепку и вышел.
Пока шел к конторе, где машина стояла, думал. В этом году после уборки, после настоящего большого урожая он понял, что место его по судьбе – здесь, на земле. Что тепло душе его и разуму среди пашни, колосьев, комбайнов, зерноскладов и отчаянных людей, работяг, готовых здоровье и жизнь положить на кон ради хлеба богатого. Он чувствовал печенью, что ближе этих простых механизаторов, продавщиц, поварих, учительниц и врача Ипатова нет никого и не будет. Ну, Соня, само собой. Но она-то всегда и останется под боком. А вот этих, давно уже родных ребят с полей, МТМ, тракторов, комбайнов и сеялок не будет. Исчезнут навсегда люди, с которыми он продирался сквозь испытания, бился с матушкой природой, с которыми горевал и радовался.
Тяжко было на сердце у Данилкина, директора. Вот, вроде, мечта сбылась, а почему-то отторгала её, недавно ещё заветную, вся сущность Григория Ильича. И было всё это не понятно, странно, пугающе.
Он отпустил своего шофера домой и поехал в «Альбатрос». Только Дутов один мог сейчас разумно и точно обосновать дальнейшую жизнь директора Данилкина. Только он мог безошибочно посоветовать и направить дальнейшую жизнь Григория Ильича от развилки двух дорог в правильную сторону.
Нет, конечно, наследил он за всё время грязью основательно. И государство дурил безбожно, когда убедился после первых же приписок, что никто его сроду проверять не станет. И народ беглый, бездомный, урок бывших и бичей как скотину расселил подальше от комсомольцев-добровольцев. Гетто натуральное для них придумал. Там даже магазин отдельный построили, чтобы «чернь» по селу не шлындила лишний раз. Поступок, конечно, позорный. Да вот ещё грех этот тяжкий от организации убийства трёх человек давил душу как многопудовая гиря. Хотя, если разобраться, то и хорошего он сделал много. Даже пересчитывать нет смысла. Но всё гадкое и греховное, прилепившееся к совести Данилкина, перевешивало его добрые дела. Вот разве только первый большой урожай, когда отпала надобность юлить и врать, а появилась возможность жить честно, интересно и полезно. Именно он подтолкнул Данилкина к чёткой и резкой мысли: только тут, на земле, честно растя большой хлеб и слившись с людьми деревенским и природой, он сможет пусть не сразу, но грехи свои искупить. Но только не в обкомовском большом кресле.
Приехал он к Федору Ивановичу, вышли они прямо в лесочек за баней, сели на скамейку и Данилкин за полтора часа перессказал Дутову всю свою жизнь на целине. Ничего не скрыл.
– Я про обком ещё месяц назад узнал, – сказал Дутов, почёсывая затылок. Документы, на тебя подготовленные, в канцелярии видел. Меня вот самого звали три раза в ЦК инструктором. В Москву. Не поехал я. Но обошлось без обид. Больно у меня хорошие кореша там. Поняли меня.
– Так может, и я тоже аккуратно откажусь? – печально вздохнул Данилкин, директор. – Скажу, что на достоин пока. Не созрел. Что совхозом руководить я ещё ухитряюсь, а вот областью управлять – не потяну. Не чувствую уверенности и боюсь подвести высокое руководство.
– Нет, Гриша. Попал ты в капкан. Тут у тебя нет людей обкомовских, которые
возьмутся разруливать твой отказ. – Дутов поднялся и стал ходить вдоль скамейки. – Досье на тебя в обкоме крепкое. Солидное. Передовик, орденоносец, совхоз десятилетие в пятерке лучших по области. Да ты готовый руководитель областного масштаба. И Гусев, заворг, уже в Алма- Ате. Повысили. Он теперь в ЦК зам.зав. Отдела пропаганды. Шишка большая он теперь. Место пустое. Никого, кроме тебя туда и не собирались сажать.
– Ты, может, сам словечко третьему секретарю скажешь? Вы же друзья. Мол, прибаливает Данилкин. Пьёт много. Какой и него заворготделом? – опустил голову Григорий Ильич. – Ну, вся душа ноет. Противится. Не хочу я больше во власть. Здесь вон дела пошли. Да и людей своих давно полюбил. Привык к селу, к ветрам, дождям и зимам тяжким. К земле привык, к колосьям…Эх!
– Моё слово такое, – сел рядом Дутов. – Откажешься – тебе на своём директорском месте работать не дадут как раньше. Обкому отказать – это оскорбление для тамошней верхушки. Какой-то Данилкин не ценит их царского внимания, большой подачки щедрой. И пойдут к тебе, Гриша, комиссии, которых ты раньше не видел. И какое-нибудь дельце на тебя заведут. В результате – из директоров попрут, но никуда не пристроят. И пойдёшь в кустанайскую школу географию в седьмом классе преподавать. Тетрадки проверять начнёшь. Пистоны ловить от завуча. Тебе оно надо?
– Ну, прямо так? – удивился Данилкин.
– А ты как думал? – Дутов обнял Данилкина за плечо.– Езжай. Заворг – это наш человек. За нашими сельскими руководящими кадрами тоже следит. То есть, ты теперь нас, директоров, и будешь пасти как овец. Так ты же свой! Наш человек! Значит и нам тут легче жить будет. Нет, Гриша, у тебя других рельс. Только в обкомовский кабинет без перевода стрелок. Прямиком. Так что, удач тебе! Нас не забывай!
Они попрощались и Данилкин вернулся домой раньше семи. Гостей ещё не было.
Ну? – сложила ладошки на груди Соня. Жадное ожидание в глазах её окутало Данилкина, охолонуло и успокоило.
– Едем, – сказал он и завалил полный стакан армянского. Поэтому, когда все приглашенные собрались, он был беззаботен, приветлив и весел. Сидели до ночи. Много говорили о разном. Вспоминали, смеялись и печалились. Жалели, что расстаются.
А пятнадцатого в назначенное время уже сидел Данилкин напротив первого секретаря обкома в его огромном кабинете с двумя столами. Один был для самого секретаря и тесных бесед. Другой – длинный, для совещаний. Беседу Андрей Михайлович вёл дружескую, много спрашивал, много сам рассказывал с улыбкой о делах обкомовских и конкретно о новой работе Данилкина. Вышел он от секретаря в хорошем настроении. Помощник главного человека в области отвел Григория Ильича в его кабинет, сказал, что когда Данилкин будет уходить, дверь на ключ закрывать не надо. Посидел Григорий Ильич в кресле, осмотрелся. Красивый был кабинет, весь в коврах и кожаных диванах с креслами. Люстра свисала из центра потолка хрустальная. Сделанная из маленьких переливающихся сосулек.
– Ну, ладно, – громко сказал Данилкин. – Раз так, то пусть так и будет.
И уехал в пока ещё свой «Корчагинский». На работу надо было выходить через пять дней. А до этого успеть съездить в город, получить трехкомнатную обкомовскую квартиру в АХЧ. Квартира – недалеко от обкома. В двухатажном доме из белого кирпича с узорами вокруг окон и входных дверей. Потом за три дня рабочие из обкома на специальных крытых машинах перевезли в Кустанай всё из сельского дома. А вместе с последним грузовиком в новое жильё уехали под вечер и Данилкин с Софьей Максимовной на совхозной «волге»
И всё. Хозяйство осталось без директора. Вместо него сельхозуправление попросило дней десять посидеть в кабинете Григория Ильича Володю Самохина, агронома.
Все ждали – кого пришлют вместо Григория Ильича. Опасались и надеялись, что жить с ним, новым, будет так же легко, как с Данилкиным. Ну, через десять дней ровно директора и прислали. Карнаухова Виктора Павловича, бывшего второго секретаря райкома Заборского района. И стартовала новая совхозная жизнь с первого приказа директорского – Все машины, трактора и комбайны со дворов перегнать на МТМ, руководящему составу каждое утро в девять ноль – ноль собираться на «оперативку», флаги,транспаранты и доску почета убрать, потому, что надо давать результаты высокие, но хвастаться этим – лишнее дело.
Ещё дней через пять, когда стали плакаться над «корчагинским» рыхлые дождики в мелкую капельку, и когда родимая глинистая жижа на дорогах и во дворах заставила народ переобуться в сапоги и плащи брезентовые нацепить, поехал Серёга Чалый на МЗ-50 к Дутову.
– Чего, Серёга? Осиротели? – Фёдор Иванович налил ему стопку какого-то, пахнущего как кофе ликера. – Не беда. Чего новый директор загнёт не туда, да с перебором, ты мне скажи. Поправим. В наших пока силах, слава КПСС.
– Данилкин мне свой телефон домашний дал. Из кабинета Карнаухова пока не сподручно звонить.– Чалый засмущался.– Можно от тебя звякнуть?
– Ладно, давай ещё врежем по одной, да звони. Съездить к нему хочешь?
– Ну. Но и не я один. Парни тоже хотят. Самые ему близкие. Валечка, Кравчук, Олежка Николаев, Кирюха, Лёха Иванов да Игорёк Артемьев.
Посидеть хотим в кафушке. В «Колосе». Под обычный закусь столовский и двенадцатый портвейн.
Он набрал номер и быстро дозвонился. Дутов не стал слушать. Вышел.
– Тебе когда на работу выходить, Ильич? – Чалый откашлялся. – А то мы с пацанами хотели подъехать и гульнуть последнюю отвальную в «Колосе». Как ты?
– Послезавтра приезжайте к обеду, к часу, прямо в кафе. – Обрадовался Данилкин.
– Если чего помочь надо, так скажи. Нас аж семь лбов будет. Может принести чего или в хате доделать. Мы только рады, – сказал Чалый для приличия.
– Тут всё без вас вылизали. Всё есть. Я же заворготделом. Четвертый человек в обкоме после трёх секретарей. Давайте! Жду! – Данилкин повесил трубку. Дутов с Чалым хватанули ещё по стаканчику ликёра, попрощались и Серёга поехал домой по расквашенной октябрьской глинистой дороге, периодически разворачиваясь поперек дороги и съезжая в кювет.
***
Через день Чалый сел за руль «ГАЗ- 51» с фанерной будочкой над кузовом, натолкал под крышу почти трезвых шестерых мужиков, любимцев Данилкина, а через два часа они уже заказывали у толстой официантки в пятнистом белом переднике всё, что можно было съесть и выпить в восемь тренированных глоток. Ровно в час пришел Данилкин. Обнял каждого, прижал к себе крепко. И стали они пить да закусывать, поздравляя Григория Ильича с большим повышением. Старое вспоминали. Хорошее и не очень. Ну и, конечно, поднимали тосты за то, что и любовь обоюдная не иссякнет со временем, и что дружба крепнуть будет, несмотря на расстояние и высокий чин близкого человека. Долго сидели. Никто на них внимания не обращал. Людей в кафе к вечеру набилось – свободных мест не хватало. «Колос» был идеальным местом для спонтанных вечеринок и встреч с друзьями. Пиво, вино, водка, рыба копченая и автомат, в который было заложено десятка два пластинок. Автомат сам переставлял иглу на следующий винил и радовал гостей хорошими советскими песнями. В общем, хорошо сидели. Всем было тепло и уютно от старой общности и все старались не думать, что вряд ли такие встречи будут когда-нибудь.
Играла музыка, шумели о своём студенты пединститута и кооперативного техникума, которые давно оккупировали кафе под вечернее пристанище, где и потанцевать, и дешевого портвейна попить вдосталь, да дёшево поесть и приятно было. Весело и свободно.
От соседнего столика отвалились четверо длинных, хорошо поддатых и вобужденных портвешком студентов. Они забрали со спинок стульев свои спортивные сумки, с которыми вместо портфелей ходили даже школьники. Мода такая была. Трое из парней уже пошли к дверям, а один что-то собирал со стола. Бумаги какие-то, блокноты.
– Эй, Димыч, ты свою тетрадь забыл. И портфель под стулом, – крикнул он.
Димыч в шуме общем не услышал, видимо.И тогда парнишка взял со стола недоеденную корочку хлеба и метнул её прямо в затылок Димычу.
– Порфель, говорю, забери! – крикнул парнишка.– И тетрадь.
– Тебя как зовут, орел? – Поднялся огромный Серёга и взял студента за руку так, что лицо паренька слегка перекосилось от резкой боли.
– Валера, – ответил он, когда Чалый ослабил хватку.
– Ты, Валера, сейчас иди туда, куда хлеб кинул. Обратно принеси. На стол положи. Уборщицы потом огрызки соберут и на свиноферму в Затоболовку отправят. Хлеб, он для еды. Нам, потом животным остатки. Но для еды. Это не булыжник. Кидать его не надо. Хлеб – очень дорогая штука, которую страна продаёт вам за копейки. Вон туда глянь. На стену. Видишь плакат?
– Ну, вижу. И что? – удивился Валера, глядя на плакат, которого просто никогда не замечал. Он пошел, принес корочку и аккуратно уложил её в центр стола.
– Теперь вслух читай и запоминай – что читаешь, – Серёга протянул руку к плакату.
– «Хлеба к обеду в меру бери, хлеб – драгоценность, им не сори», – медленно, по слогам зачитал Валера.
– Ты согласен, что хлеб – драгоценность? – Чалый глядел на парня так, что он сник и съёжился.
-А вы кто? В пекарне работаете? На хлебозаводе? – тихо спросил студент.
– Я его папа и мама, хлебушка. Я его вот с этими парнями рожаю в муках на целине. Колосья хлебные, пшеничные видел хоть раз?
– Не привелось пока, – Валера смотрел на плакат.– Как я его раньше не видел?
-Ладно, иди.– Чалый легко подтолкнул его к выходу. Сел. Задумался.
– А ведь точно ты сказал, – удивился Валечка Савостьянов. – Каждый из нас и все вместе мы – папы и мамы урожая.
– И, блин, дети его, как ни странно,– добавил Данилкин.
И сидели они в кафе за дорогими сердцу разговорами до самого закрытия.
И никто, конечно, знать не знал, как сложится дальше их личная и общая целинная судьба. А Данилкину про это уже и думать не стоило.
Эпилог.
***
Всё, что написано – было в действительности. Я только названия сёл поменял и фамилии людей.
Сейчас другая целина. Цивилизованная, облагороженная, напичканная новейшей техникой и хорошо обученными спецами. И жить им на целине легче. Трудно, но легче, чем тем, кто был первым. Кто начинал усмирять своенравную степную землю.
В живых из всех людей, которые были героями моей повести – нет уже никого.
Только память о них осталась добрая. И целинные, до сих пор непокорные просторы.