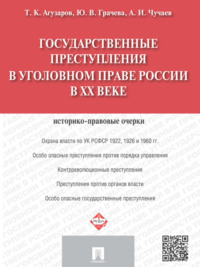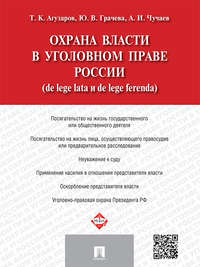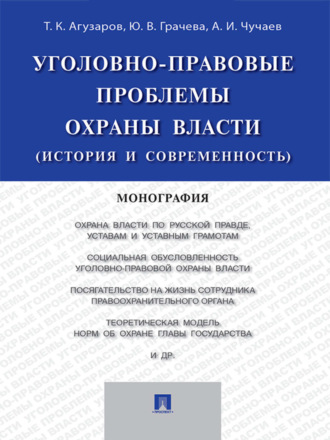
Полная версия
Уголовно-правовые проблемы охраны власти (история и современность). Монография
В ст. 6. Пространной Правды предусмотрена ответственность за убийство «в сваде»[128] или «в пиру»[129]. Содержание этой нормы в литературе относится к числу дискуссионных. С одной стороны, авторы признают, что данная статья отграничивает указанные в ней виды убийства от лишения жизни в разбое. С другой стороны, считают, что дифференциация ответственности осуществлена не по субъективным признакам (злой воле), а по объективным обстоятельствам – его совершения в общественном месте, в присутствии других лиц[130]. «…Правда вводит свой принцип степени ответственности, основанный не на понимании умышленного и неумышленного убийства, а на том, было ли это убийство совершено открыто, в честной ли схватке (праву чести уделено много внимания в Правде), во время ли ссоры на пиру, когда требования к поведению его участников были несколько снижены, или тайно, при совершении злого дела»[131].
Иного взгляда на сущность нормы, содержащейся в ст. 6 Пространной Правды придерживаются некоторые современные авторы. Например, С. А. Цветков считает, что убийство в ссоре или на пиру выделено в отдельный состав не из-за открытого характера его совершения, а по иным причинам, в частности по мотиву преступления[132], который мог быть только личным[133]. С таким пониманием рассматриваемой нормы в целом можно согласиться. В средневековье пиры были одной из форм общественной жизни. В X–XII вв. на княжеские пиры с участием бояр и гридей специально приглашались представители и других социальных слоев города, между ними «допускались словесные турниры… не принятые в обычной жизни»[134].
И. А. Исаев полагает, что в рассматриваемом случае подразумевается неумышленное, открыто совершенное убийство (а «на пиру» – значит еще и в состоянии опьянения)[135]. Думается, что для такого вывода нет никаких оснований, особенно относительно неосторожного характера лишения жизни. К этому времени формы вины вообще не выделялись.
Таким образом, объектом преступления согласно ст. 6 Пространной Правды является личность, а не власть. Но в таком случае возникает вопрос о месте данной нормы в системе норм указанного правового памятника, коль скоро предыдущая статья, третья, и последующая, седьмая, предусматривают ответственность за посягательства на представителя княжеской власти в связи с исполнением им своих обязанностей по службе. Вероятно, это можно объяснить уровнем законодательной техники. За основу построения законодательного акта взяты не общественные отношения, интересы княжеской власти, а личность потерпевшего. В связи со сказанным трудно согласиться с утверждением, что «Русская Правда проводит различие по объекту преступления»[136].
Как уже говорилось, в ст. 7 Пространной Правды предусматривалась ответственность за убийство в разбое, признаваемое особо тяжким преступлением, о чем свидетельствует наказание за него: преступник не мог рассчитывать на помощь в выплате виры со стороны общины, он вместе с семьей выдавался на поток[137] и разграбление[138]. Словосочетание «будеть ли стал на разбой без всякоя свады», используемое при описании преступления, на наш взгляд, однозначно свидетельствует о мотиве преступления, который связан с выполнением потерпевшим (представителем княжеской администрации) обязанностей по службе.
Таким образом, можно констатировать: Русская Правда, выделяя два вида посягательства на жизнь, фактически имеет в виду, выражаясь современным языком, различные объекты уголовно-правовой охраны: жизнь и функционирование власти, которое охватывает и личность как носителя определенных властных полномочий. Посягая на потерпевшего – представителя дворцово-вотчинной системы управления, виновный тем самым нарушает и порядок управления, свойственный раннефеодальному обществу.
Князь и его администрация, наряду с административными функциями, осуществляли правосудие. С древних времен судебный процесс носил публичный характер. Специалисты полагают, что княжеская юрисдикция не ограничивалась его личным судом[139]. Все исследователи ссылаются на ст. 33 Краткой и ст. 78 Пространной Правды[140]. Однако сущность этих норм в литературе раскрывается по-разному. Одни считают, что речь идет о побоях и истязаниях лиц, совершивших преступление[141]; другие – о нарушениях «княжеской защиты над элементами, которые входят или уже вошли в состав княжеского домена»[142]; третьи – об ответственности за самовольное применение наказания без суда лицам, подпадающим под княжескую юрисдикцию[143]. Не вступая в полемику по этому поводу[144], обратим внимание лишь на то, что несанкционированное насилие в отношении огнищанина каралось штрафом, в четыре раза более высоким, чем в отношении других лиц.
Статус представителя княжеской власти, осуществляющего правосудие, прямо отражался на его уголовно-правовой охране. Надо сказать, что подобная ситуация была характерна не только для русского права, а свойственна и праву других стран. А. Е. Пресняков данное явление относил к числу общеисторических, свойственных всем европейским народам указанной эпохи. В подтверждение он ссылался на нормы германского уголовного права, устанавливающие виру, эквивалентную предусмотренной Русской Правдой, за убийство лиц, находящихся под опекой конунга[145].
При характеристике уголовно-правовой охраны представителей власти необходимо иметь в виду княжеские уставы и уставные грамоты, представляющие собой акты законодательства, в которых регулировались и отношения по обеспечению государственного управления.
Выделяются две группы подобного вида актов. В основе первых лежат установления древнерусских князей (например, Устав князя Владимира Святославича о десятинах, судах и людях церковных, Устав князя Ярослава Владимировича о церковных судах), вторые – уставные грамоты[146] и уставы[147], возникшие в период феодальной раздробленности в XII–XIV вв. (например, уставная грамота волынского князя Мстислава Даниловича, Устав Князя Ярослава и др.).
В XIII в. Киевское княжество утрачивает значение славянского государственного центра. Но еще ранее от него отделился ряд княжеств, среди которых важное значение приобрели Ростово-Суздальское (Владимирское), Смоленское, Галицко-Волынское княжества, Новгородская земля. Установилась сложная система вассальных отношений. Например, в Ростово-Суздальском княжестве власть принадлежала князю, имевшему титул великого. Полностью действовала дворцово-вотчинная система управления: княжеский совет, вече, феодальные съезды, наместники и волостели.
Особенностями общественного строя и феодальных отношений характеризовалось Новгородское государство. Во-первых, сложился своеобразный тип государственности – феодальная республика; во-вторых, государственное управление осуществлялось через систему вечевых органов; в-третьих, высшими должностными лицами являлись посадник[148], тысяцкий[149], архиепископ[150] и князь.
Политическая и государственная организация Псковского государства, выделившегося из Новгородской республики (1348 г.), по сути, полностью повторяла новгородскую систему.
На территории Новгородской и Псковской республик в целом действовала Русская Правда, однако источниками права также выступали вечевое законодательство, договоры города с князьями, судебная практика и иностранное законодательство. В результате осуществленной кодификации были приняты Новгородская и Псковская судные грамоты.
Первая из них сохранилась лишь фрагментарно, в части, относящейся к судоустройству и судопроизводству. В частности, закреплялось право тысяцкого на осуществление суда. Новгородская судная грамота содержит запрет «наводить наводки». В ст. 6 говорится: «А истцю на истца наводки не наводить, ни на посадника, ни на тысетцкого, ни на владычня наместника, ни на иных судей, или на докладшиков. А кто наведет наводку на посадника, или на тысетцкого или на владычна наместника, или на иных судей, или на докладшиков, или истець на истца у суда или у доклада или у поля, ино взять великим князем и Великому Ноугороду на виноватом на боярине 50 рублев за наводку, а на житьем дватцать рублев, а на молодшем 10 рублев за наводку; а истцю убытки подоймет»[151].
По мнению А. А. Зимина, «наводить наводку» значит клеветать, дискредитировать[152]. Современные авторы, комментируя эту норму, на наш взгляд, обоснованно подчеркивают, что «наводить наводку в данном случае означает побуждать толпу к нападению на суд…»[153].
Статья 5 Новгородской грамоты, запрещающая «сбивать с суда», т. е. вмешиваться в правосудие, осуществляемое посадником, тысяцким[154], наместником князя или назначенными ими судьями, корреспондирует ст. 58 Псковской судной грамоты. В ней сказано: «А на суд помочю не ходити, лести в судебницу двема сутяжникома, а пособников бы не было ни с одной стороны, опричь жонки, или за детину, или за черньца или за черницу, или который человек стар велми или глух, ино за тех пособнику бытии; а хто опрочне имет помогать или силою в судебню полезет, или подверника[155] ударит, иновсадити его в дыбу[156] да взять на нем князю рубль, а подверником 10 денег»[157].
Особый интерес представляет ст. 7 Псковской судной грамоты. Во-первых, вводится новый вид наказания, неизвестный Русской Правде, – смертная казнь[158]; во-вторых, выделяется, по сути, государственное преступление – измена. «А крим(с)кому татю, и коневому и переветнику и зажигалнику тем живота не дати[159]»[160].
С. К. Викторский отмечает, что «…применение смертной казни… имело, кажется, печальное последствие: оно способствовало постепенному примирению населения со смертной казнью, до того времени противной его правосознанию»[161].
В Судной грамоте не говорится о форме смертной казни. Согласно сохранившимся летописям в Пскове, она исполнялась через повешение, сожжение и утопление.
В ст. 7 указанной грамоты перевет[162] назван в ряду других преступлений, не являющихся посягательствами на власть. Вероятно, это объясняется не только уровнем развития уголовного права, но и оценкой опасности упоминаемых в статье деяний. Например, конокрадство считалось не менее опасным преступлением, чем измена.
Следует обратить внимание еще на одно обстоятельство, встречающееся как в Новгородской, так и Псковской судных грамотах, – социальную направленность преступления. В указанных актах подчеркивалось, что оно причиняет вред не только отдельному частному лицу, но и государству («Господину Великому Новгороду» или Пскову). Складывалось, таким образом, понятие преступления как общественно опасного деяния.
§ 3. Охрана власти по судебникам XV–XVII вв
В истории России XV в. связан с окончанием периода раздробленности, образованием единого национального государства. Для такого государства требуется государственный аппарат, централизация которого одновременно обеспечивает укрепление самодержавной власти, вначале в известном смысле ограниченной Боярской думой – особым совещанием из родовитого боярства.
В период феодальной раздробленности удельные князья, каждый в отдельности, и их бояре издавали собственные законы, давали по тому или другому случаю всякого рода грамоты, которые нередко противоречили друг другу. Русская Правда еще имела применение в северо-восточной Руси, но с изменением условий общественно-политической жизни, созданием централизованного государства уже перестала соответствовать новой обстановке и новым потребностям феодального общества. Необходимо было принятие законов, отвечающих развитию производительных сил, усилению экономических связей внутри страны, выгодных и угодных господствующему классу феодалов, регламентирующих основные вопросы укрепления феодального правопорядка. Одним из таких законов стал Судебник Ивана III, утвержденный в 1497 г.[163]
Судебник 1497 г. – по сути, первый кодекс Русского централизованного государства. В историографии он получил диаметрально противоположные оценки. Например, утверждается, что «Судебник Ивана III, в сущности, не заключал в себе каких-нибудь новых начал, представлял однако то важное удобство, что вместо отдельных грамот, имевших силу закона, появился один общий закон для всего государства»[164]. Н. Калачев, наоборот, подчеркивает, что данный Судебник – «без сомнения первый письменный кодекс, обнародованный для всей России от имени верховной власти, кодекс в высшей степени примечательный, как памятник, основанный на прочном утверждении самодержавия в нашем отечестве, как краеугольный камень всего последующего развития нашего письменного законодательства»[165]. Еще более значимым Судебник видится С. В. Юшкову: «В Судебнике 1497 г., пожалуй, более чем в каком-либо другом кодексе, проявляются реформирующие и правотворческие стремления законодателя. И это неудивительно: издание Судебника было произведено, если можно так выразиться, на самом стыке двух эпох, тогда, когда социально-политический строй достиг своего завершения, но вместе с тем обнаружились явные признаки его упадка»[166].
На наш взгляд, составители Судебника, использовав правовые нормы, содержавшиеся в более ранних памятниках права, и в первую очередь в Русской Правде, Псковской судной грамоте, уставных грамотах и других[167], проявили новаторство в создании норм права, соответствующих новому этапу развития феодального общества. Издание этого кодекса было важным актом среди мероприятий русского правительства, направленных к государственной централизации, перестройке центрального и местного аппаратов власти, разработке норм уголовного и гражданского права, судоустройства и судопроизводства в интересах защиты привилегий господствующего класса. «Сравнение Судебника с современными ему кодексами западноевропейских стран приводит к выводу, что он выделяется среди них как памятник, свидетельствующий о наличии единого права для всего Русского государства»[168].
Взяв под особую охрану начала господства и подчинения в феодальном обществе, деятельность государственного аппарата и его представителей, защищающих указанные властеотношения, Судебник особое внимание уделяет регламентации ответственности за различные преступления, посягающие на жизнь и здоровье феодальных чиновников, политический строй и органы государственной власти. Обострение классовых противоречий и внутриклассовой борьбы, влекущее выступления народных масс, квалифицируемые кодексом как преступления против существующего строя, вело к усилению репрессий, применению смертной казни.
Анализ конкретных норм, посвященных охране власти, обусловливает необходимость хотя бы в общих чертах охарактеризовать принципы государственного управления, присущие Московскому государству и нашедшие отражение в кодексе. Так, ст. 1 Судебника устанавливает различия между судебной деятельностью главы государства – великого князя и судебной деятельностью бояр. «Судити суд бояром[169] и околничим[170]. А на суде бытии у бояр и у околничих диаком». Появление дьяка на суде как государственного чиновника означает ограничение боярских привилегий в области отправления правосудия[171].
Статья 2 Судебника впервые в русском законодательстве отражает попытку регламентировать деятельность лиц, возглавляющих какую-либо отрасль центрального управления. Это непосредственно оказало влияние на определение подсудности дел тому или иному боярину. Согласно указанной статье судья мог разрешать только те категории дел, в отношении которых имелись указания в законе или по сложившейся судебной практике (дело, «которое ему приказано ведати»). Скорее всего, отсюда возникло правило, согласно которому «судья не может вмешаться в чужой присуд».
С целью строгой регламентации деятельности органов наместничьего управления Судебник вводит различия наместников: «с боярским судом» и «без боярского суда». В ст. 20 говорится: «Об указе наместникам. А наместникам и волостелям, которые держат кормленья без права боярского суда, холопа и рабы без доклада (в центр, их владельцам) не выдавать, ни грамоты о возвращении его беглых людей не давать, также и холопу и рабе правой грамоты на их владельца (об освобождении из холопства) не давать без доклада, и отпускной холопу и рабе не давать».
Кормленщик «с боярским судом» по своему статусу отличался от кормленщика «без боярского суда». В частности, он обладал правом вынесения окончательного решения по ряду важнейших дел, в том числе, как видно из текста статьи, о холопстве и наиболее тяжких преступлениях, тогда как второй обязан был выносить свое решение по этим делам на «доклад» боярам в Москву.
Таким образом, во-первых, Судебник отражал политику русского правительства о консолидации и укреплении государственного аппарата, во-вторых, вводя понятия кормления «с боярским судом» или без него, ограничивал компетенцию основной массы местных органов государственного управления, способствовал контролю за их деятельностью. Возможно, такое решение законодателя стало ответом на требования дворянства, искавшего защиту от произвола должностных лиц наместничьего управления.
Полномочиями кормленщика «с боярским судом» наделялись лица, занимавшие привилегированное положение в системе государственного аппарата управления, а также наместники наиболее отдаленных от центра областей. Положения ст. 2 °Cудебника, регламентировавшей права и обязанности кормленщика «без боярского суда», по сути, относятся к постановлениям о местном суде[172].
При характеристике уголовно-правовых средств защиты власти, на наш взгляд, необходимо иметь в виду, что «Судебник обосновывает наказания за… преступления главным образом не свойством содеянного (corpusdelicti), а свойством преступной воли содеявшего: всякое преступление подлежит известной каре сообразно наличности или отсутствию данных, свидетельствующих о наибольшей испорченности преступника; состав преступления по общему правилу не влияет на различия в наказаниях.
Данные, свидетельствующие о наиболее дурном свойстве преступной воли лица и обосновывающие собою высшую степень уголовного возмездия, – суть: облихование на повальном обыске[173] (ведомая лихость) и рецидив»[174].
«Ведомая лихость» как понятие не имела правового определения. В литературе она раскрывается достаточно широко. «“Ведомый” лихой человек – это лицо, которое уже не впервые проявляет свою преступную волю, которое пользуется репутацией завзятого, закоренелого злоумышленника, испорченность свободной воли которого ведомо обществу»[175]. Очевидно, что при такой характеристике к данной категории могли быть отнесены любые лица, которые совершили посягательство на власть.
К числу наиболее особо тяжких преступлений против власти закон относит убийство, крамолу, подмет. «Закон, выделяя их в особую категорию, обосновывает строгость отношения к ним тем, что уравнивает их с “ведомой лихостью”: лицо, совершившее одно из таких преступлений, признается… столь же опасным, как и обыкновенный преступник, если он уже не впервые совершил злодеяние, и в обществе сложилось о нем дурная слава…»[176].
В ст. 9 Судебника говорится: «А государскому убойце и коромолнику, церковному татю, и головному, и подымщику, и зажигалнику, ведомому лихому человеку живота не дати, казнити его смертною казнью». Давая общую характеристику этой норме, П. Н. Мрочек-Дроздовский отмечает: «Я считаю слова: “…ведомому лихому человеку” – приложением ко всему ряду предшествующих слов: “А государскому убийце… и коромольнику, церковному татю и головному и подметчику, и зажигальнику”… перевод этой статьи таков: “А убийце своего господина, бунтовщику, церковному татю и татю свободы людей (продажа в холопство свободных), и подметчику, и поджигателю, как ведомым лихим людям, – смертная казнь”. Т. е. “ведомому лихому человеку” – здесь просто повторение сказанного в 8 ст.[177]… полагающей ту же кару облихованному преступнику, несмотря на состав преступления… преступления 9 ст. и без облихования вели к тому же наказанию»[178].
Иная трактовка сути указанного словосочетания дается А. Г. Поляком. По его мнению, наказание «ведомого лихого человека» не связывается с совершением какого-либо деяния из числа указанных в ст. 9 Судебника[179].
Архитектоника рассматриваемой нормы, ее соотношение со ст. 8 Судебника скорее свидетельствуют о правоте А. Г. Поляка. В этом случае законодатель вводит ответственность вне зависимости от состава преступления, только в связи с характеристикой личности, что является отражением усиления террора в период создания Судебника.
Надо иметь в виду, что «государский убойца» – не убийца государя, феодального монарха, а крестьянин, убивший своего хозяина (владельца). Именно так переводили это словосочетание исследователи судебников[180]. В этом значении слово «государь» употребляется во многих памятниках права XV в. Например, в Псковской судной грамоте (кстати сказать, многие специалисты полагают, что именно ст. 7 этой грамоты лежит в основе ст. 9 Судебника) говорится: «…а которой государь захочет отрод дать своему зорнику[181]…» (ст. 42); «…а государю на изорники, или на огородники, или на кочетники[182]волно и взакличь[183] своей покруты[184] и сочить…» (ст. 44); «…а коли изорник имеет запиратся у государя покруты…» (ст. 51).
Среди государственных преступлений в XVI в., как уже указывалось, выделялась крамола. Она упоминалась еще в договорах XIV в. как деяние, суть которого заключалась главным образом в отъездах местных князей и бояр, пытавшихся сохранить свою самостоятельность. Отсюда и применяемые к ним меры состояли лишь в лишении чина и вотчин. Однако впоследствии по мере усиления противоборства с великокняжеской властью крупные бояре стали прибегать к прямой измене, заговорам, восстаниям и иным действиям, направленным против власти и жизни самогó великого князя. Особенно ярко это проявилось в XV в. во время продолжительной феодальной войны, когда власть в Москве не раз переходила к удельным князьям. Великий князь Василия II был даже ослеплен[185].
Именно с этого времени крамола стала считаться тяжким злодеянием против власти, однако ее наказуемость впервые была зафиксирована в качестве государственного (политического) преступления в Судебнике 1497 г.
По закону крамолу, на наш взгляд, следует толковать широко, а не только как измену родине; ее наказуемость не зависела от фактически совершенного деяния. Для привлечения к уголовной ответственности достаточно было обнаружение умысла.
С. Герберштейн слово «коромольник» перевел как предатель крепости («предавшие крепость»)[186]. Это явно неточный перевод, однако обратим внимание на другое: предать крепость могли и военачальники, которые командовали вооруженными формированиями, ее гарнизоном и т. д. Следовательно, государственную измену, акты предательства могли совершить и представители власти, а не только лица из числа народных масс, выступления которых против угнетения признавались крамолой[187]. Кроме того, следует иметь в виду, что «коромольник» – это еще и заговорщик. В таком значении это слово употребляется во многих памятниках права того времени. Например, в договорной грамоте великого князя Симеона Ивановича говорится: «А что Олексей Петровичь вшел в коромолу к великому князю, нам, князю Ивану и князю Андрею, к себе его не приимати, ни его детей, и не надеятисьны его к собе до Олексеева живота»[188].
В литературе не сложилось единого мнения о сущности подмета. Так, А. Г. Поляк полагает, что в законе речь идет о подбрасывании кому-либо похищенного имущества с целью обвинения его в разбое или татьбе. Это могло ввести в заблуждение государственную власть, поэтому преступление являлось в глазах законодателя настолько опасным, что за его совершение в качестве меры наказания предусматривалась смертная казнь[189].
По мнению же Л. В. Черепнина, в данном случае речь идет о шпионаже, разглашении секретных сведений[190].
Согласно толковым словарям слово «подмет» означает обман, подлог, ложный донос[191]. В связи с этим объяснение смысла данного слова в рассматриваемой норме, предложенное А. Г. Поляком, выглядит предпочтительнее.
К середине XVI в. обострились классовые противоречия. Народные восстания в Москве 1547 г., а затем и во многих других регионах Русского государства выражали протест широких масс посадских людей и крестьян против феодального угнетения. Указанное обстоятельство вынудило власть поспешить с принятием нового кодекса, призванного обеспечить подавление сопротивления феодальнозависимого населения.
Новый Судебник был составлен по предложению царя Ивана IV. В исторической литературе нет единой точки зрения по поводу того, кем и как он был принят. Например, Н. Добротвор утверждает, что Судебник был одобрен церковным собором с участием, кроме духовенства, и боярства[192]. А. Г. Поляк пишет: «Судебник 1550 г., возможно, был принят на Земском соборе, явившись тем самым первым законодательным актом складывающейся русской сословно-представительной монархии, отразившим основные требования господствующего класса»[193].
Основным источником рассматриваемого кодекса явился Судебник 1497 г. Кроме того, в его основу легли уставные и губные грамоты, решения совместных совещаний Ивана IV с боярами и Освященным собором, нормы уставных грамот о старостах и целовальниках и т. д.[194] Судебник является комплексным актом; наряду с уголовно-правовыми в нем содержатся нормы гражданского и административного права, уголовного процесса и т. д.[195] Особо следует отметить правило, впервые закрепленное в кодексе, согласно которому каждый новый законодательный акт должен включаться в общерусский свод законов[196].