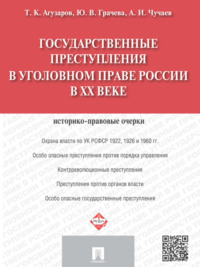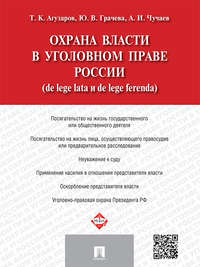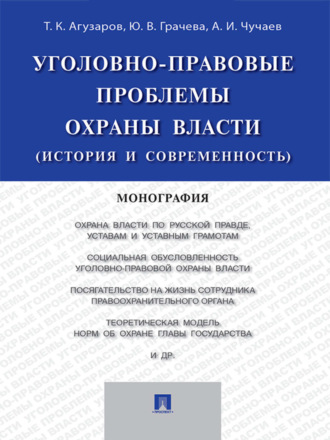
Полная версия
Уголовно-правовые проблемы охраны власти (история и современность). Монография
В литературе отмечается, что в «“Обзоре перемен в законодательстве уголовном начиная с нового издания Свода законов 1857 г.”[46], “Теории взлома”[47], особенно в Учебнике уголовного права[48] и других работах, судебных речах В. Д. Спасович предстает блистательным компаративистом-историком»[49].
К историко-философскому направлению следует отнести работы И. Н. Даниловича, уже упоминавшегося Г. С. Гордеенкова, Д. М. Семеновского, А. С. Жиряева, П. Д. Колосовского и др. И. Н. Данилович, например, исходил из того, что «все периоды человеческой образованности находятся в неразрывной между собой связи и служат взаимным себе дополнением. Каждый из них, порознь взятый, представляет одну сторону идеи правосудия, которой целость составляет созерцание множества соединенных периодов»[50]. В связи с этим следует обращаться «…к историческим исследованиям… и извлечению из них начал для уголовных сводов»[51]. При этом ученый видел в исторических памятниках не исходную точку зрения, а только данные, требующие усовершенствования в соответствии с существующими потребностями.
В числе сторонников историко-философского направления в литературе упоминается Н. Д. Сергеевский[52], но при этом подчеркивается, что к данному направлению ученого можно относить лишь по формальным основаниям[53]. В его работах встречаются элементы позитивизма[54], так называемого научного догматизма[55], классической школы[56] и др.
М. Ф. Владимирский-Буданов, оценивая германскую историческую школу уголовного права, писал, что она продвинула науку вперед, благоприятно отразилась на правотворчестве. «Но крайности исторической школы привели к реакционному направлению, т. е. к стремлению возвратить формы права, уже прожитые исторически, и к предпочтению национальных, хотя бы и несовершенных, форм права всяким другим»[57].
Характеристики историзма в науке уголовного права и исторической школы уголовного права позволяют выделить следующие их отличия. Как уже указывалось, первый представляет собой принцип диалектического метода исследования, вторая же характеризует направление в науке, связанное единством основных взглядов, общностью или преемственностью принципов и методов. Кроме того: а) историческая школа – результат предыдущей деятельности, историзм – исходный пункт и предпосылка последующей деятельности; б) функции исторической школы – объяснение происхождения и эволюции уголовного законодательства, предсказание его развития; историзма – регуляция деятельности по исследованию правовых памятников; в) историческая школа – система идеальных образов, отражающих сущность уголовного законодательства, его закономерности; историзм – система правил, используемых для дальнейшего познания уголовного права; г) историческая школа, как и всякая теория, нацелена на решение поставленной задачи; историзм – на выявление способов такого решения.
Следует иметь в виду: чтобы выполнять методологическую функцию, историческая школа уголовного права должна быть соответствующим образом трансформирована, преобразована «из объяснительных положений теории в ориентационно-деятельные, регулятивные принципы (требования, предписания, установки) метода»[58].
§ 2. Охрана власти по Русской Правде, уставам и уставным грамотам
В конце IX в. киевский и новгородский политические центры объединились, образовав Древнерусское государство, характеризующееся как раннефеодальная монархия. Во главе государства стоял киевский великий князь, опиравшийся в своей деятельности на дружину и совет старейшин. Управление на местах осуществлялось его посадниками (наместниками) в городах и волостелями в сельской местности.
В раннефеодальном государстве существовало дворцово-вотчинная система управления. Судебных органов как институциональных учреждений еще не было. «В этот период князь выступал универсальным носителем власти; в его руках было сконцентрировано и управление, включающее выработку обязательных для всех предписаний и контроль за их исполнением, и правосудие»[59]. Функции суда выполняли органы власти и управления в центре и на местах.
В это время зарождалась церковная юрисдикция. Церковь имела право в отношении населения своих земель и духовенства рассматривать дела по всем вопросам и в отношении всего населения государства – дела по определенным категориям (о деяниях против религии, нравственности, семьи и др.). Церковные уставы определяли перечень дел, подсудных митрополиту, епископу и др.
На раннем этапе развития Древнерусского государства действовали нормы обычного права. С усилением роли государства все в большей мере возрастало значение законодательной деятельности князей, появились письменные правовые акты, определявшие привилегии господствующего класса и защищавшие их интересы. Одним из них является Русская Правда, имеющая три редакции: Краткую, Пространную и Сокращенную. Краткая Правда состояла из двух частей – Правды Ярослава (30-е гг. XI в.) и Правды Ярославичей (последняя четверть XI в.)[60].
И. А. Исаев утверждает, что по Русской Правде объектами преступления были личность и имущество (вероятно, речь идет о собственности)[61].
Ю. П. Титов также полагал, что указанный правовой памятник не знает понятия преступления против власти (государственного преступления) и не предусматривает наказаний за деяния, которые позднее так были названы. Подобное положение автор объясняет тем, что оно напрямую связано с характерным для того времени общим понятием преступления («обида»), неразвитостью государственной власти и ее аппарата[62]. Вместе с тем Ю. П. Титов выделял нормы Русской Правды, предусматривающие ответственность за убийство в зависимости от социального положения жертвы – привилегированных людей («княжих мужей»): дружинников, княжеских слуг («огнищан», «подъездных»)[63].
По мнению О. И. Чистякова, в Русской Правде «нет ни государственных, ни должностных, ни иных родов преступлений»[64]. Согласно позиции других авторов нормы об охране представителя власти встречаются уже в Русской Правде[65]. Думается, что исходя из сущности власти это вполне объяснимо. Необходимость защиты ее представителей предопределена уже самим существованием государства, получающим наиболее яркое выражение во власти. Недаром во всех имеющихся в литературе многочисленных определениях государства выделяется такой его признак, как наличие властной силы. Т. Гоббс справедливо замечал, что «пока люди живут без общей власти, держащей всех их в страхе, они находятся в том состоянии, которое называется войной, а именно в состоянии войны всех против всех»[66]. Именно это состояние и приводит людей к установлению государства в целях своего самосохранения[67].
Государство для осуществления своих функций нуждается, по М. Веберу, в материальных ресурсах и управленческом штабе, представителей которого берет под усиленную, в том числе и уголовно-правовую, защиту.
В ст. 1 Русской Правды указывается: «Убьеть муж (ь) мужа, то мьстить брату брата, или сынови отца, любо отцу сына, или братучаду, либо сестринусынови; аще не будеть кто мьстя, то 40 гривен за голову; аще будеть русин, любо гридин, любо купчина, любо ябетник, любо мечник, аще изгои будеть любо словенин, то 40 гривен положите за нь»[68]. Данная норма не получила однозначного толкования. Специалисты XIX в., интерпретируя ее, в первую очередь обращают внимание на два момента: является ли исчерпывающим круг лиц, имеющих право на месть[69], и о какой мести (расправе) – внесудебной или послесудебной – идет речь[70].
В литературе также указывалось, что потерпевшими закон признавал представителей власти младшего и среднего звена: гридина и мечника[71], ябетника[72]. К их числу современные исследователи предлагают относить и русина, непосредственно упоминаемого в тексте анализируемой статьи. «Нельзя подходить к трактовке термина “русин” чересчур прямолинейно, полагая, что он характеризует не столько социальный (или даже должностной)» статус, сколько “…этническую принадлежность…” Анализ социальных факторов, сопутствовавших появлению ст. 1 Краткой Правды (и даже в определенной степени обусловивших ее появление), позволяет усомниться в правильности буквального толкования исследуемого термина»[73].
Некоторые авторы считают, что русин – свободный обыватель, коренной житель Киевской Руси[74].
По мнению Б. Д. Грекова, «русин», «огнищанин»[75], «боярин», «княж муж» – родственные понятия, обозначающие элиту княжеской дружины[76].
В историко-правовой науке пока не сложилось единого мнения и относительно термина «муж», используемого при описании потерпевших в ст. 1 Русской Правды. Вслед за Н. М. Карамзиным многие стали утверждать, что это слово употребляется в значении «человек»[77], следовательно, законодательную фразу «убьют муж мужа» следует понимать как убийство человека человеком. Подобная трактовка изменяла сущность проблемы, переводя ее в плоскость правового регулирования кровной мести.
Б. Д. Греков, на наш взгляд, пришел к обоснованному выводу о том, что Русская Правда «говорит главным образом о “мужах”, под которыми можно разуметь дружинную, рыцарскую среду в обычном понимании термина. Тут мы имеем рыцаря-мужа с его неразлучным спутником – боевым конем и оружием, с которым рыцарь не расстается, наконец, с его одеянием. Что эти мужи существуют не со вчерашнего дня, видно из того, что в их среде успел вырасти и окрепнуть условный кодекс рыцарской чести, обычной в этой среде для всей Европы»[78]. Кроме того, он отмечает, что «мужи» «…всегда вооружены, часто пускают оружие в ход даже в отношениях друг к другу и в то же время способны платить за побои, раны и личные оскорбления; они владеют имуществом… Живут они в своих “хоромах”»[79]. В обоснование высказанной позиции Б. Д. Греков приводит ст. 17 Русской Правды[80]. По его мнению, «господин, владеющий хоромами», о котором говорится в указанной статье, не кто иной, как «муж», своеобразный аналог средневекового феодала[81].
Аналогичная оценка давалась и исследователями XIX в. Например, И. Андреевский на основе Лаврентьевских летописей также утверждал, что «муж» – это, в частности, дружинник, которому князья вверяли земли[82]. В. О. Ключевский, характеризуя состав Думы Владимира (987 г.), указывает: «Старцы градские являются представителями неслужилого населения: в древнейшем списке Начальной летописи они иногда называются старцами людскими, а людьми тогда назывались в отличие от служилых княжих мужей простые люди, простонародье»[83].
Современные авторы считают, что в ст. 1 Русской Правды содержится комплексная[84], или синкретичная[85], уголовно-правовая норма, целью которой является защита жизни и деятельности лиц, представляющих княжескую власть. Условно выделяемые две ее части дифференцируют ответственность исходя из мотива совершения деяния; в первой части статьи имеется в виду причинение смерти указанным в ней потерпевшим по личным мотивам, во второй – в связи с их служебной деятельностью. Этот вывод, в частности, основывается на сравнении наказания, предусмотренного за данные преступления. Последнее из них каралось вирой, размер которой по тем временам был огромен (40 гривен), он встречается лишь в двух статьях Русской Правды[86]. «Социальное неравенство при регламентации защиты жизни было весьма ярко выражено в “Русской Правде”», – писал А. Н. Красиков[87].
Особый интерес представляют ст. 19–23 Русской Правды. Он обусловлен по крайней мере двумя обстоятельствами. Во-первых, данные статьи относятся ко второй части указанного правового памятника, получившего в литературе название «Правда Ярославичей»; во-вторых, посвящены охране в том числе жизни лиц, служащих князю[88]; в-третьих, они являют собой своеобразный уголовно-правовой институт древнерусского законодательства[89].
Статья 19 Правды регламентирует ответственность за убийство огнищанина «в обиду». Словосочетание «в обиду» в историко-правовой литературе толкуется по-разному. Например, А. А. Зимин трактовал его как кровную месть[90]. Однако, по мнению Т. Е. Новицкой, указанная позиция по крайней мере нелогична. Кровная месть к этому времени еще не была отменена, следовательно, нельзя было за нее и наказывать[91].
Достаточно сложное объяснение рассматриваемого понятия предложено Е. Н. Щепкиным. Согласно ст. 19 штраф (80 гривен) платил сам убийца; более того, чтобы сделать наказание более ощутимым, закон запрещал общине помогать в уплате штрафа («а людем не надобе»). На этом основании автор утверждал: персонифицированность виры предполагает, что преступник известен. Следовательно, убийство «в обиду» выделяется не по мотиву его совершения, а по иному критерию, каковым в данном случае является личность виновного (например, в отличие от убийства в разбое, когда убийца не установлен)[92].
Скорее всего, законодатель все же имел в виду «убийство в отместку», что на современном языке означает убийство в связи с осуществлением потерпевшим своей служебной деятельности.
Как мотив преступления обида рассматривалась и в дореволюционной историко-правовой литературе. Так, по мнению И. Д. Беляева, сопоставление ст. 1 и 19 Русской Правды дает основание заключить, что при криминализации деяния законодатель исходит из мотива преступления, воли преступника[93].
По сути, также трактуют данную норму некоторые советские исследователи. Например, Н. А. Рожков считает, что словосочетание «в обиду» указывает на субъективную сторону деяния, характеризуя его как злонамеренное, заранее обдуманное убийство[94]. Аналогичного мнения придерживается Т. Е. Новицкая[95]. В целом соглашаясь с таким объяснением рассматриваемой нормы, А. Ю. Кизилов замечает: «…В методологическом плане ход их рассуждений выстроен не совсем верно – вместо того, чтобы, уяснив содержание мотива, раскрыть затем сущность всего преступления… они, напротив, шагнули назад, ограничившись констатацией… умышленного характера деяния. Действительно, говоря об убийстве, совершенном за нанесенную ранее огнищанином обиду, законодатель хотел подчеркнуть мотив преступления – месть… Однако подразумевается месть, которая была вызвана не личными мотивами, а предшествующей деятельностью по исполнению должностных обязанностей… Коль скоро повышенная уголовно-правовая охрана представителей власти есть явление общесоциальное, то логично предположить, что ее появление вызвано у всех народов схожими причинами – противодействием властной управленческой деятельности (в виде посягательств на ее уполномоченных субъектов) и, как следствие, стремлением со стороны государственной власти обезопасить себя от такого рода дезорганизующего воздействия посредством уголовно-правового принуждения»[96].
Приведенные доводы, на наш взгляд, опровергают утверждения современных авторов, согласно которым термин «в обиду» означал всякое нанесение обиды, т. е. причинение материального или морального ущерба (некоторые говорят о вреде[97]) лицу или группе лиц[98].
Сущность рассматриваемого преступления во многом отражает характеристика потерпевших – огнищанина и подъездного княжи[99], являвшихся наиболее знатными княжескими слугами, приближенными князя. В частности, подъездной, выражаясь современным языком, был ответственным за налоговую дисциплину, контролировал поступления в княжескую казну. На их особую охрану указывает и санкция статьи, которая по тем временам признавалась достаточно строгой; с виновного взыскивалась повышенная плата – 80 гривен, которые поступали в пользу князя.
М. Ф. Владимирский-Буданов пишет: «При отсутствии корпоративности класс бояр не мог пользоваться какими-либо привилегиями (исключительными правами)… В сфере личных прав огнищане (или княжие мужи) ограждаются двойной вирой при убийстве… но это относится именно к княжим мужам и объясняется их личными отношениями к князю…»[100].
Статья 20 Русской Правды предусматривает ответственность за разновидность лишения жизни – убийство огнищанина «в разбое». Это преступление рассматривалось как одно из наиболее тяжких деяний, направленных на представителей власти. Достаточно сказать, что именно из-за участившихся случаев «разбоя» по совету духовенства Владимир I в качестве наказания за данное преступление ввел смертную казнь. Обязанность установить преступника, совершившего преступление на территории верви[101], по обычаю лежала на самой верви. Согласно ст. 5 Пространной Правды она должна была выдать его князю «головой».
Во времена Русской Правды значение слова «разбой»[102] было иным, чем сейчас. Однако его истинное значение, заложенное в ст. 20 Русской Правды, пока, пожалуй, остается невыясненным. Как в дореволюционной и советской, так и в современной литературе высказаны диаметрально противоположные мнения, порой недостаточно убедительные, не основанные на правовых памятниках. Так, разбой, убийство в разбое рассматриваются как злонамеренное насильственное нападение, к которому потерпевший не давал повода[103]; убийство без ссоры, без «вины» со стороны потерпевшего[104]; намеренное нападение[105] и др.
Мнения современных специалистов также существенно разнятся. Некоторые авторы, суммировав имеющиеся объяснения, толкуют указанное понятие как неспровоцированное нападение с целью убийства[106]. Л. В. Черепнин разбой воспринимал как социальный конфликт, который возникает на почве экономического неравенства и влечет за собой гибель собственника[107]. При таком подходе разбой представляется насильственным имущественным преступлением, посягательством населения на феодальную собственность. В современной литературе также встречается утверждение, что разбой в ряде случаев являл собой протестную реакцию угнетаемых социальных слоев в феодальном обществе[108].
Действительно, «разбойниками феодалы-законодатели нередко именовали представителей эксплуатируемой массы, выступавшей против феодального гнета»[109]. Однако, на наш взгляд, будет ничем не оправданным преувеличением «убийство в разбое» признавать явлением классовой борьбы как таковым. Как утверждает А. Ю. Кизилов, при феодализме собственность и средства внеэкономического принуждения были сконцентрированы в руках правящей элиты. Составители Русской Правды, принадлежащие к этой элите, признавали сложившийся порядок справедливым. «Поэтому… разбоем следовало считать не только народные выступления против… эксплуатации, но и всякие нарушения нормальной деятельности дворцово-вотчинных административных органов, осуществляющих функции регулирования общественной жизни и решавших в той или иной степени возникающие перед феодальным социумом задачи»[110]. Следовательно, «…бой, поединок, имеющий характер социального неподчинения, противодействия… есть не что иное, как сопротивление представителю княжеской власти»[111].
На наш взгляд, приведенные доводы дают все основания «убийство в разбое» относить к посягательствам против представителя власти, совершаемым в связи с выполнением ими обязанностей по службе как главой княжеской администрации.
Много споров вызвала ст. 21 Русской Правды. В ней говорится: «Аже убиють огнищанина у клети[112], или у коня, или у говяда[113], или у коровье татьбы[114], то убити в пса место[115], а то же покон и тивуницу[116]».
В первую очередь специалисты не могут прийти к единому мнению, как представляется, по основному вопросу: кем в данном случае выступает огнищанин – потерпевшим (жертвой преступления) или преступником, которого надлежит убить «как собаку»?
Сторонники признания огнищанина преступником исходят из того, что ст. 21 Русской Правды содержит специальную норму по отношению к норме, указанной в ст. 38 данного акта[117]. Вряд ли с этим можно согласиться. В ст. 38 сказано: «Аще убьють татя на своем дворе, любо у клети, или у хлева, то тои убит; аще ли до света держать, то вести его на княжь двор; а оже ли убьють, а люди будуть видели связан, платити в немь». Данная норма закрепляет правило, выработанное обычаем, – право убить вора на месте преступления, если кража произошла ночью. Запрещалось убивать связанного преступника. Это ограничение имеет принципиальное значение для определения цели нормы – она заключалась в ограничении самочинной расправы и тем самым укреплении юрисдикции князя.
М. Ф. Владимирский-Буданов рассматриваемую норму анализирует с точки зрения права лица на необходимую оборону, согласно которой собственнику, защищавшему свое имущество, дозволялось принимать к виновному любые меры, вплоть до его убийства. Исходя из этого, он пишет: «…Случай татьбы, совершенной огнищанином, возбудил вопрос, может ли собственник также поступить с княжескими дружинниками, как и с простыми людьми; закон поспешил ответить в утвердительном смысле…»[118].
Советские исследователи придерживаются такого же мнения. Например, М. Н. Тихомиров в этой статье видит своеобразную уступку со стороны князя, попытку ограничить произвол княжеских людей[119]. В пользу сказанного автор каких-либо доводов, по сути, не приводит. Как нам представляется, подобного рода утверждение само по себе вызывает сомнение: чем могли вызываться такие уступки в X в., когда власть князя была ничем не ограничена?
А. А. Зимин, также считая преступником огнищанина, обращает внимание на санкции ст. 19–21 Русской Правды. Если согласно ст. 19 вира уплачивалась преступником, согласно ст. 20 – общиной, то в ст. 21 Правды вообще ничего не говорится о вире, что дает основание считать преступником огнищанина, убитого на месте совершения преступления[120].
Вызывают сомнение по крайней мере два обстоятельства: во-первых, совершение указанными лицами подобных преступлений столь часто, что потребовалось создание специальной нормы[121]; во-вторых, признание в классовом обществе, причем на подобной стадии его развития, ненаказуемым убийство преступника, задержанного на месте совершения преступления, независимо от его социального положения.
В литературе отмечается, что в анализируемой статье имеется несоответствие начала фразы «аже убиють огнищанина» ее окончанию «то убить в пса место»[122]. В связи с этим А. Ю. Кизилов обоснованно задается вопросом: если преступником является огнищанин, то почему его следует убить дважды, причем второй раз – с особой жестокостью, унизительно, «как пса»[123]?
Скорее всего, правы специалисты, полагающие, что формулировка ст. 21, соотношение выделенных нами частей фразы предполагают появление нового лица, которое в норме никак не обозначено[124]. На наш взгляд, рассматриваемую норму необходимо оценивать вкупе с двумя предыдущими статьями. В этом случае раскрывается логика законодателя: в правовом памятнике последовательно даются нормы, предусматривающие усиление наказания в зависимости от обстоятельств совершенного посягательства на представителя феодальной администрации, исполняющего свои обязанности. В ст. 21 Русской Правды, как представляется, говорится об убийстве огнищанина при защите им княжеской собственности. На это указывает и достаточно развернутое описание обстоятельств совершения посягательства – у клети, коня, говяда, коровьей татьбы (другими словами, при хищении имущества из дома, конюшни, скотного двора).
Как уже указывалось, причинение смерти огнищанину наказывалось двойной вирой, т. е. налицо привилегированная охрана потерпевшего. Такая кара могла обусловливаться не столько его личностью и социальным статусом, сколько выполняемыми им функциями в системе дворцово-вотчинного управления. Косвенно об этом свидетельствует и содержание ст. 22–27 Русской Правды; в них перечислены размеры штрафа, взимаемого за убийство княжеских слуг и лиц, находящихся в зависимости от князя. Во-первых, это высшие слуги князя: княжеский тиун (ст. 22), конюх старый[125] (ст. 23); во-вторых, среднее звено в управленческом аппарате князя: сельский и ратаиный (пахотный) старосты (ст. 24)[126]; в-третьих, рядовичи[127] (ст. 25).
Наказание за убийство указанных лиц зависит от места потерпевшего в управленческой иерархии княжеского домена: чем выше занимал он в ней место, другими словами, чем более важные функции выполнял, тем более строго каралось посягательство на его жизнь. Двойная вира предусматривалась за лишение жизни высших княжеских слуг – приказчика (тиуна) и управляющего конюшнями.
Пространная редакция Русской Правды уголовно-правовой охране представителя власти уделяет больше внимания, чем ее прежняя редакция. Это проявляется в ряде моментов: во-первых, в увеличении количества норм об ответственности за посягательство на жизнь; во-вторых, в существенном изменении содержания ранее известных норм; в-третьих, в появлении новых уголовно-правовых запретов; в-четвертых, в зачатках абстрактного изложения правового материала. Так, ст. 3 Пространной Правды в представленном виде можно рассматривать как общую норму, предусматривающую ответственность за любое посягательство на представителя княжеской администрации («Аже кто убиеть княжа мужа в разбои…»), так как нормы об отдельных видах убийств («в обиду» – ст. 19; «у клети…» – ст. 21 Краткой Правды) не вошли в нее. В данной статье унифицируется обозначение потерпевшего, вместо конкретного указания соответствующего лица – огнищанина, тиуна, подъездного и т. д. – используется единое понятие – княжий муж. Преступник – убийца впервые назван головником.