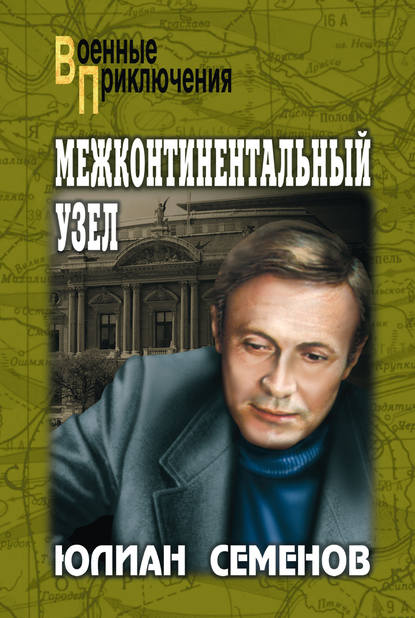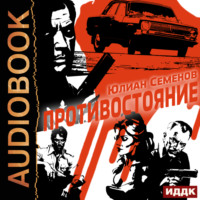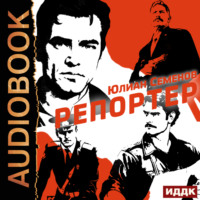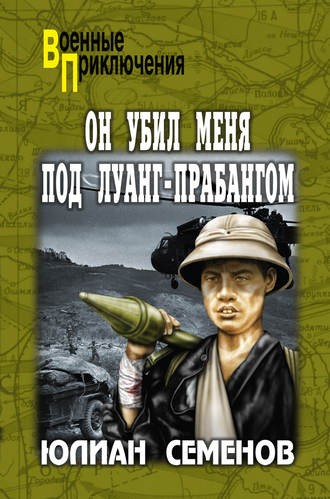
Полная версия
Он убил меня под Луанг-Прабангом. Ненаписанные романы
– Ситонг! – крикнул Степанов. – А что тут пониже написано?
– Там написано: «Понг и Кемпет = любовь», – ответил он, не вылезая из машины.
«В августе здесь особенно сильно бомбили, – вспомнил Степанов, – каждый день по нескольку раз. “Понг и Кемпет = любовь”. “Маша и Коля = любовь”. Только у нас пишут не “и”, a “+” «Маша + Коля = любовь”. И вся разница».
Дальше они ехали быстрее, потому что дорога была не очень изрыта воронками. Впереди замаячили странные фигуры в белых одеждах. Когда машина подъехала ближе, Степанов увидел, что все люди смеются, пританцовывая, что-то поют. Люди смеялись странным, заданным смехом, то и дело утирая со своих впалых щек слезы.
– Что это? – спросил Степанов.
– Похороны, – ответил Ситонг. – Наверное, хоронят бонзу. По обычаю, во время буддистских похорон надо смеяться и радоваться, чтобы не тревожить дух умершего. Он должен уходить на небо провожаемый весельем, а не слезами.
Ситонг открыл дверцу и, попросив шофера притормозить, спросил:
– Кто умер?
Старик в белом халате ответил:
– Мост через ручей восстановили…
– Я спрашиваю – кого хоронят? – повторил Ситонг.
– А? – прокричал старик. – Воронки? Какие воронки?
– Хоронят его внука! – кашлянув, ответил юноша, шедший рядом, тоже в белом халате. – Его вчера убили при бомбежке. Старик оглох, не сердитесь на него… – И он пошел дальше, шмыгая носом, но сохраняя на лице гримасу смеха.
Ситонг захлопнул дверцу и сказал шоферу:
– Нажми, а?.. Можешь как следует поднажать?
Ситонг достал сигарету; разломил ее пополам и протянул половинку пленному. Он очень резко повернулся, протягивая эту половину сигареты, и пленный испуганно шарахнулся: он решил, что Ситонг хочет его ударить.
– По себе мерит, – сказал Ситонг и попросил Степанова: – Переведи ему на американский, что мы не бьем пленных.
– Я его бил, – сказал шофер, – зачем говорить неправду?
– Ты бил не пленного. Ты бил его, когда он был вооружен автоматом и ножом. Ну-ка, притормози.
Впереди по дороге медленно шел старый монах в широкой желтой юбке.
– По-моему, это его святейшество Ка Кху, – сказал Ситонг, – тот такой же сутулый. Останови, подвезем, он, верно, с похорон.
Только когда машина остановилась возле него, Ка Кху обернулся. Он узнал Ситонга и ответил на его приветствие тихим, ласковым голосом. Степанов подвинулся, и монах сел рядом.
– Здесь совсем недалеко, – сказал он, – я бы мог дойти.
У входа в пещеру их встретил служка Ка Кху – высокий бритоголовый парень. Он обжаривал на костре оленью ногу. Сало, стекая, капало в костер, и от этого огонь ярко вспыхивал, становясь сине-желтым.
– Я скоро вернусь, – сказал Ситонг, – сдам пленного и скоро вернусь.
– А мы пока попьем чаю, – сказал Ка Кху. – Хотя пить чай – это привычка, и моя религия считает привычку самым главным злом в мире, тем не менее выпить крепкого зеленого чая – очень приятно…
– Правильно ли считать привычку главным злом? – спросил Степанов, глядя вслед уезжавшему «газику». – На земле есть кое-что похуже.
– Земля населена людьми, – мягко улыбаясь, ответил Ка Кху, – а люди сотканы из привычек. Привычки – это жалкий слепок сути. Люди стремятся не к счастью, но к привычному понятию счастья. Привычная жажда привычных благ рождает в мире суету, а Будда считает суету злом. Будда – над привычками, и поэтому он счастлив, ибо свободен. Люди закабаляют себя, принимая от уходящих поколений привычки.
– В таком случае, они закабаляют себя и принимая от уходящих привычку верить…
– Верить во что? Вы имеете в виду веру в Будду?
– Не только в Будду… в Иегову, Христа, Мохаммеда…
– Христос – это иное. Христиане ставят человека под власть Бога, они отделяют человека от Бога. А Будда никогда не настаивал на незыблемости своих догм. Принцип Будды – отрицание отрицания. Только мы отрицаем устаревшую догму не с привычной кровожадностью к чужой ошибке, но с уважением к отринутому, ибо оно натолкнуло нас на истину. На ту истину, которая тоже, рано или поздно, будет отринута потомками. Рожденье нового и смерть старого – это звенья одного процесса развития.
– Как бы это получше объяснить людям? – улыбнулся Степанов.
– Людям мешает привычная система мышления.
– Может ли человек избавиться от привычки?
– Будда смог. А каждый человек может стать Буддой, если он готов победить в себе зло.
– Как это сделать?
– Смирить привычную гордыню. Человек должен исповедовать систему вакуума.
– Как это? – не понял Степанов.
Монах поднял с пола пачку сигарет, оглядел ее со всех сторон и спросил:
– Что это?
– Сигареты, – ответил Степанов.
– Почему? А может быть, это – ящерица? Или кабан? Почему это – сигареты? Только потому, что я имею глаза – раз, в пещере есть свет – два, пачка сама по себе имеет форму и цвет – три, мои пальцы ощущают форму – четыре и, наконец, все эти объективные компоненты складываются в понятие, которое отныне будет заложено в меня – в мой вакуум. Как только человек перестанет быть вакуумом, способным воспринимать новое, он делается рабом привычных понятий, он перестает явления пропускать через себя, он духовно погибает. А что логичнее воспринять вакууму: добро или зло? Конечно же добро.
– Добро – не пачка сигарет, – ответил Степанов. – Это не объемное понятие, но термин, который каждый человек понимает по-разному; все зависит от того, в каких условиях, – Степанов улыбнулся, – в каких привычных условиях жил человек, кто его воспитывал и наставлял… Американцы, которые бомбят ваши пагоды и школы, считают, что они сражаются со злом во имя добра.
Ка Кху тоже улыбнулся и очень мягко ответил:
– Быстрота и категоричность мышления – тоже привычка. Вы торопитесь в вашем мышлении. Наши враги привычно считают, что они выполняют свой долг перед их родиной. Я слежу за радиопередачами из Америки; назовите мне хотя бы одного нашего врага, приехавшего на эту войну добровольно. Непривычно для людей только одно – смерть. А тысячи смертей их солдат заставляют Америку искать зло в происходящем. Поиск зла – это всегда путь к добру. Их солдатами движет не порыв, но привычка выполнять приказ.
– Сдаюсь, ваше святейшество, – сказал Степанов, поднимая руки: он боялся обидеть этого сутулого старика с громадными скорбными глазами.
– «Сдаюсь» – это термин войны, а религия Будды – это учение мира и любви.
– А как быть с любовью? – не удержался Степанов. – Любовь – это тоже привычка?
– Да.
– Значит, любовь порочна?
– Суетна, – улыбнулся Ка Кху. – Что такое любовь? Минутное наслаждение, а после усталость и пустота…
– Любовь не приносит усталость. Любовь дает силу.
– Вы не правы. Любовь не может быть равноправной, это всегда – борьба. А разве неравноправие может дать силы? Впрочем, Будда не запрещает любить. Будда вообще ничего не запрещает. Будда лишь советует…
К монаху подошел бритоголовый служка и сказал:
– Святой отец, через десять минут у вас проповедь…
– Здесь есть монастырь? – спросил Степанов.
– Нет. Я буду выступать с проповедью по радио. Здесь в пещерах радиостанция.
– О чем будет проповедь?
– Об основной догме нашей веры – взаимоотношение силы и гуманизма.
Степанов закурил и сказал:
– Насколько я знаю, ваша главная догма – гуманизм и сила. Или от перемены мест сумма не меняется?
Ка Кху отхлебнул остывшего чая, нахмурился и ответил – совсем тихо:
– Вы правы. Классический буддизм древности ставил на первое место гуманизм, а уже после силу, которая необходима каждому, чтобы стать гуманным. Не наша вина, что нам приходится звать народ поначалу к силе, а не к гуманизму. Мы должны быть сильными, чтобы победить, а уж после наступит эта гуманизма – так учим мы сейчас. Нас заставляют бомбежки учить азиатов догме силы. Америка забыла, что нас – половина мира. Это очень страшно, когда половина мира начинает исповедовать догму силы, отводя на второй план догму гуманизма. Но как же быть иначе, – спросил он скорбно, – когда убивают детей и разрушают больницы?
00.31
– Почему ты не пьешь? – спросила Сара.
– У меня скоро новый вылет.
– Когда?
– Через четыре часа.
– Разве нельзя его отменить?
– Можно. Наверное, можно.
– Ну так что ж?
– Я не хочу его отменять.
– Почему?
– Так.
– Что с тобой случилось, Эд?
– А что случилось с тобой, Сара?
– Может быть, правильнее спросить: что случилось с нами?
– Может быть.
Он вспомнил, как назавтра, после разговора с редактором своей газеты, он поехал к Тому Маффи. Тот прочитал рукопись при Стюарте. Эд сидел на краешке стула: он всегда неловко себя чувствовал, когда при нем читали его вещь.
– Ну что ж, – сказал Маффи. – Занятно, интересно и – главное – во многом справедливо.
Он сидел мгновенье задумавшись, потом быстро закурил, забросил ногу на ногу и неожиданно спросил:
– Как вы представились мне по телефону?
Эд собрался повторить, но Маффи, улыбнувшись, махнул рукой:
– Не надо. Вы спросили меня поначалу, читал ли я ваши книжки. Так?
– Так.
– Как это ни странно, я прочитал вашу книгу год назад, когда летел в Лос-Анджелес. Хорошая обложка, недорого стоит и завлекательно-сексуальное название. На ваше счастье, я вспомнил книгу. Книгу, а не вас. А что такое писатель, имеющий свое политическое мнение, идущее вразрез с общепринятым? Не знаете? Я объясню, – сказал Маффи и подвинул Эду телефонный аппарат. – Наберите номер и закажите себе билет на самолет, уходящий куда-нибудь через час. Только на тот рейс, где уже нет билетов. Валяйте, валяйте. Если вы просто назовете свою фамилию и на другом конце провода девочки захлопают от восторга крыльями и посадят вас к пилотам – я замолкну. Но вам откажут, Стюарт. Если бы позвонил Хемингуэй – ему бы билет дали. Писатель, Стюарт, – лишь тот, кого знают по имени, даже не читая книжек. В этом, конечно, есть великая таинственная непознанность: иной выцедит пару книжонок, но у него хорошая фамилия, которую легко запомнить, – он победил, он счастливчик. А вам придется мямлить: «Вы читали повесть “Ночь в ватерклозете”? Не помните? Ну там еще кастрируют гермафродита в Валенсии…» А вам ответят: «Не читал, до свиданья!» Можете жить с козлом, но пусть об этом напишут в газетах, пусть вас запомнят, вас и – главное – ваше имя.
– Это несерьезный разговор, – сказал Эд. – До свиданья, мистер Маффи.
– Это очень серьезный разговор, – ответил Маффи, – и не дело мужчинам обижаться друг на друга. Если вы считаете, что я вас оскорбил, попробуйте набить мне морду.
– Мой шеф советовал мне получить Нобелевскую премию, я уже слышал советы, подобные вашим: жить с козлом или получить премию – все это рядом.
– Ну так я вам скажу, почему вас не напечатал толстый в своем официозе, Стюарт. Ваш шеф – смелый человек, и он умеет драться – это я вам говорю. Он не напечатал вас потому, что он мудрее вас. Из литературы вы полезли в политику. Литература – это безответственные эмоции, а политика – это наука, равная математике. Вы предлагаете низвергнуть устоявшуюся систему, Стюарт. Во-первых, кто ее будет ломать? Вы?
– Почему я? И почему ломать?
– Потому что я умею читать и думать – вот почему! И не врите себе и мне, – это детство. Все люди понимают, когда их обманывают, но стесняются об этом сказать в глаза обманщику. Я – исключение. Ладно. Поломали систему. А что будем строить вместо? У вас есть программа созидания? Нет ее у вас. Всегда легче создавать программу разрушения, Стюарт, это в людях от детства, от нежных младенческих игр, когда куклам отрывают головы, а велосипеды кидают под поезд. Устоявшееся настоящее лучше неизвестного будущего. Впрочем, если вы приехали из Хельсинки с программой Маркса, то я, конечно, напрасно мечу перед вами бисер. В этом случае нам надо не разговаривать, а стрелять друг в друга.
Эд тогда начал метаться: нет груза тяжелее, чем груз неопубликованной рукописи, особенно если тебе двадцать девять и к жажде правды примешано проклятие честолюбия. Деньги кончились, он жил в долг, с ужасом думая – где взять денег, чтобы расплатиться с кредиторами. Он пошел в крайне левую газету.
– Э, нет, – сказали ему там, – нет, Стюарт. У вас нет позиции: вы себя половините. Высказывая правильные вещи о положении в нашем доме, вы называете русских «кремлевскими диктаторами». Зачем? Вы справедливо ругаете и госдепартамент, который поддерживает русских фашистов из НТС, и нашу интеллигенцию, которая спокойно взирает на то, как подкармливают фашизм, но при этом обвиняете советское искусство в утилитаризме. Вы хотите стать над проблемой, Стюарт. А люди не терпят судей, они любят собеседников.
Так, в метаниях, прошло два месяца. Он не спал ночами, его раздражало все: и люди, которые шли по улицам тугой безликой массой, и жар, и даже то, как Сара гремела тарелками на кухне.
Однажды под утро она его спросила:
– Я совсем перестала быть для тебя женщиной, Эд?
– Ты сошла с ума, – только и ответил он ей.
Одолжив денег, он пригласил стенографистку, мисс Бьюти. Девочке шел девятнадцатый год, но она великолепно работала. Он попробовал передиктовать ей свои очерки, в чем-то смягчить, что-то спрятать, пожертвовать мелочами во имя главного. Он читал написанное и приходил в ярость – на туловище волка баранья шкура не влезала. Он хотел дать все прочесть Саре, но ее целыми днями не было дома: взяв Уолта, она с утра уезжала на Лонг Айленд.
– Ты мне сейчас нужна дома, – сказал он, протягивая ей рукопись.
– Да? – удивилась она. – А я как раз считала, что мое присутствие будет мешать тебе с мисс Бьюти. Ты так мил с ней, и она смотрит на тебя влюбленными глазами…
– Уж не сплю ли я с ней, по-твоему?
– А почему бы нет? Девушка очень мила, в твоем вкусе…
«Женщине, сотворенной из нашего ребра, надо всегда все объяснять, как в школе для дефективных, – сказал ему уже после, здесь, журналист Тэдди Файн. – Только художники стоят над природой и живут в мире созданных ими же образов. Подруги художников сотворены из обычного человеческого материала. Умозрительно понять разницу между собой и художником, который рядом, – удел добрых гениев. Ты гениальных женщин видел? Я – ни разу».
Теперь на маленькой сцене стоял мальчик в коротких штанишках с проймами и отбивал ногой ритм. Он ослепительно улыбался залу и пару раз подмигнул Саре: он заметил ее, хотя они с Эдом сидели в самом темном углу.
– Сейчас я вам расскажу про мою подружку, – вдруг запел он хриплым голоском, – про девочку, у которой все как у мальчиков, только у нее нет пиписьки!
– Боже ты мой, – охнула Сара, – что поет этот карапуз?! Ужас какой!
– Это лилипут, – ответил Стюарт, – ему пятьдесят два года.
– Я посмотрела на него и ужаснулась за Уолта. – Она достала из кармана несколько фотографий и протянула их Эду. – Самые последние.
Он долго рассматривал фотографии сына, а потом сказал:
– Оставь их мне.
– Конечно, из-за него глупо жить вместе, – сказала Сара. – Вообще нельзя жить вместе из-за детей. А еще противней, когда говорят: «Это его жена и сын, но он не живет с ними». Через пять лет для меня все будет кончено, Эд. Через пять лет мне будет сорок.
– Как ты сюда приехала? – усмехнулся он. – Я даже забыл об этом спросить…
– Я нанялась к этим сумасшедшим старухам журналисткам.
– Зачем?
– Я приехала за тобой, Эд. Ты прилетел сюда добровольно, ты имеешь право добровольно уехать – в любое время.
– А что дальше? То же, что было?
Он вспомнил, как на следующий день после этого глупого скандала, когда она приревновала к нему Бьюти, он разъярился и ушел с утра из дому, но не в редакцию, а к своим друзьям по колледжу.
– Хочется пить, – сказал он.
Глупая ревность рождает глупую измену. Он с содроганием вспоминал тощую рыжую бабу, с которой он тогда спал. Он вернулся домой под утро и долго мылся в ванной, а наутро сказал Саре:
– Я достал денег. Едем на форель, а? Поедем, малыш…
Они уехали на форель, но в машине поссорились – из-за пустяков, из-за сущей ерунды. Ему бы промолчать, а он боялся триппера или еще чего-то после той бабы и не знал, что ему делать, когда наступит ночь и надо будет влезать в маленькую палатку возле реки. Поэтому он раздраженно ответил ей. И она тогда сказала:
– Мы жили, и все было хорошо, пока у нас была постель! Да, да! А теперь этого нет, и все летит к черту! И нечего врать друг другу, люди без этого не могут! Нормальные люди, а не психи! Ты шатаешься целыми днями черт знает где, а я живу как соломенная вдова! Ты существуешь только самим собой и только для себя! А тот, кто живет для себя, всегда прикрывается высокими идеалами!
00.35
Монах Ка Кху привел Степанова на радио. Они спустились в глубокую пещеру. Здесь был «вестибюль» радиоаппаратной. На табуретке сидела шоколадная женщина – Кемлонг. Она поклонилась монаху, встав с табуретки, и подошла к Степанову. Их познакомил неделю тому назад редактор газеты Патет Лао. Кемлонг была красива – поразительной, странной красотой. А ее нежная застенчивость – и то, как она прикрывала лицо рукой, и то, как, смеясь, отворачивалась, и то, как она внезапно краснела, замечая на себе взгляд, – все это делало ее беззащитной, а потому еще более прекрасной. Наверное, она и не знала, что только слабость делает женщину всесильной. Это, видимо, жило в ней само по себе. В каждой женщине есть свой дар. Это словно счастье: если есть – так есть, и уж нет – так нет…
– Здравствуйте, Кемлонг, – сказал Степанов, пожимая ее тонкую руку.
– Здравствуйте. Как вы поживаете?
– Спасибо. Хорошо.
– Как вы доехали? Не очень устали в дороге? – Она задавала ему обычные здесь вопросы: они входили в состав простого слова «здравствуй». Если не задать всех этих обязательных вопросов, можно подумать, что человек обижен на тебя или совсем не рад встрече.
– А вы еще больше похорошели, Кемлонг. Улыбнувшись ослепительно и белозубо, она закрыла лицо рукой и тихонько засмеялась.
– Давно здесь?
– Нет. Я пришла сюда утром.
– Откуда?
– Из Самныа.
– Это же сто километров, – сказал Степанов. – Пешком?
– Пешком, – снова улыбнулась она. – Я люблю ходить по горам одна.
– А диверсанты?
– Так я ж маленькая, они меня не заметят. А потом, я бегаю быстро.
– Сегодня выступление?
– Да. Поем, – ответила она. – Хотите, посмотрим наше радио?
Степанов видел много радиостанций: холод плафонов дневного света, тяжесть звуконепроницаемых дверей, мощность хромированной аппаратуры, таинственное перемигиванье красных и синих ламп на пультах громкости… Эта радиостанция в пещере была иной – вместо дверей здесь висели тяжелые одеяла, видимо домотканые, аппаратура была старой и примитивной, а свет на нее падал от нескольких керосиновых ламп, поставленных под потолком в ряд на длинной полке.
– Тс-с, – шепнула Кемлонг, приложив палец к губам, – здесь диктор.
Степанов заглянул через ее плечо: возле маленького микрофона сидел босой человек в ватнике и читал военную сводку, помогая себе жестами левой руки. Когда он перечислял количество оружия, взятого как трофей, голос его ликующе поднимался. Закончив последние известия, он обернулся, выключил микрофон и спросил:
– Ты готова?
– Да, – ответила Кемлонг.
– Пригласи оркестр.
Кемлонг вернулась с оркестром, и диктор, включив микрофон, сказал веселым, несколько даже игривым голосом:
– А теперь слушайте новые песни в исполнении нашей Кемлонг!
Первым громко заиграл гитарист, его точный ритм подхватил аккордеон, а трубач отвернулся в сторону, чтобы не заглушать своих товарищей серебряной пронзительностью звуков, которые он извлекал из маленькой помятой трубы.
Пританцовывая, полузакрыв глаза, Кемлонг запела «Чампу».
«Джаз – музыка толстых? – подумал Степанов, слушая ее песню. – Накладка с этим делом вышла, по-моему».
Музыкантам было холодно, потому что пещера была глубокой, чтобы сюда не доходили помехи во время бомбежек, а курточки на джазистах были хлопчатобумажные, легкие. Они поэтому особенно яростно притопывали ногами и быстро передвигались, сменяя друг друга у микрофона. Но, видимо, постепенно ритм песни захватил их, и они забыли про холод; только аккордеонист, вконец простуженный, то и дело шмыгал носом и покашливал, опустив голову к перламутровой деке.
– О чампа, мой цветок, – пела Кемлонг, закрыв глаза и откинув голову, – какое счастье близко видеть тебя и чувствовать твое цветенье и бояться, что скоро все это кончится…
– А теперь, – сказал диктор, озорно посмотрев на Степанова, – Кемлонг исполнит песню лам-вонг в честь нашего друга.
Кемлонг запела:
Вокруг тебя ночь, но жди!Пусть грусть, пусть один, но жди!Пусть ночью идут дожди,Пусть утром туман, туман,Ты – жди…Она стала приплясывать, меняя ритм, приглашая и Степанова танцевать вместе с ней. Лицо ее было сейчас неулыбчивым, строгим, громадноглазым.
Пусть дожди, пусть туман,Но ты…жди…Жди…жди…Потом к микрофону подошел монах Ка Кху. Степанов и Кемлонг вышли из пещеры. Млечный Путь запрокинул свои руки, словно в плаче по этой скорбной земле. Ночь была безмолвной и холодной. Черные скалы вокруг были особенно рельефны и близки из-за алюминиевого надменного света луны.
– Здесь есть такие пещеры, – сказала Кемлонг, – в которых песни звучат по-разному.
– Покажете?
– Пошли.
Она взяла его за руку и повела через лощину по едва заметной тропинке к тому месту, где шумел ручей. В густой темноте плавали зеленые точки светлячков. Вход в пещеру был низеньким – Степанов ударился лбом, и Кемлонг испуганно спросила его:
– Больно?
– Очень, – ответил он.
– До крови?
– Сейчас упаду, – сказал Степанов и застонал.
Кемлонг взяла его голову обеими руками, приблизила к себе и сказала:
– Ничего нет.
Степанов засмеялся:
– Я пошутил.
Кемлонг погладила пальцами то место, которым он ударился, и сказала:
– Сейчас все пройдет.
– Уже.
– Что? – не поняла она.
– Прошло.
– Ну, пошли.
И они шагнули в гулкую кромешную темноту.
– У вас нет фонарика? – спросила Кемлонг.
– Есть. Зачем?
– Просто так. Вы станьте здесь, а я отойду вот туда.
– Куда?
– Здесь есть уступ.
– Вы как кошка – видите в темноте?
– А разве кошки видят в темноте?
– Еще как.
Кемлонг усмехнулась:
– Не зря, значит, женщин считают кошками.
Она запела, и голос ее сейчас был совсем иным – низким и гулким.
– Теперь пойдем дальше, – сказала она, – в следующей пещере будет иначе.
– Я ничего не вижу, Кемлонг.
– Я тоже, – улыбнулась она.
Степанов слышал ее шаги, а потом почувствовал ее рядом с собой – близко-близко.
– Когда война, – шепотом сказала она, – очень хочется любить кого-то, кто сильнее.
Степанов чувствовал, что она хочет, чтобы он обнял ее. Это всегда чувствуешь.
Она вздохнула и сказала:
– Пошли в следующую пещеру. Я ее зову веселой.
Кемлонг снова взяла его за руку и повела за собой.
– Здесь опустите голову. Сейчас повернем налево. Вот здесь. Стойте.
Она отошла от Степанова, и он услышал иной голос, повторявшийся разнозвучащим эхом:
Какая же она, любовь?Огромная, как облако, или маленькая,как опавший лист?Кто видел ее – глаза в глаза?Никто, никто, никто…А счастье какое? Светлое, как утро,или пронзительное,Как одинокие сумерки?Кто ответит мне?Эхо, мое эхо, только эхо…00.40
– Мы с тобой люди разных скоростей, Сара. Каждому человеку сообщена своя скорость. Так вот, наши скорости, как выяснилось, не совпали.
– Пойдем танцевать, Эд. Бог с ними, со скоростями.
– Я не хочу танцевать.
– Я прошу тебя, Эд… Я тебя очень прошу…
– Я не буду танцевать, – повторил он и сразу же подумал: «Зачем я говорю с ней так? Ведь она – единственный человек на земле, который меня любит. Она знала меня вывернутым наизнанку и все равно любит меня. Она знала про всех моих баб и все равно любила меня. У меня у самого комплекс неудовлетворенности – при чем здесь она?»
– Ну, представь себе, что я вернулся, Сара. Что будет?
Она ответила:
– Не знаю.
– Хорошо, ты не знаешь… Тебе легко ничего не знать. Ты всегда пряталась за мою спину: «Эд все знает, он что-нибудь придумает!» А как быть с Уолтом? Как быть с нашим мальчиком?
– Что – мальчик?! При чем здесь мальчик? Не прячься за Уолта. Поживет с отчимом – в конце концов.
– Это запрещенный прием.
– Почему? Ты можешь делать мне больно, а когда я говорю правду – это запрещенный прием?
– Сара, я живу на этом свете только для того, чтобы могли жить вы.
– Ты врешь. И самое отвратительное, что ты сам веришь в эту ложь! Мы здесь ни при чем: ни Уолт, ни я. Ты же все время ищешь! Себя, свою литературу, правду, ложь! А главное – ты ищешь ту, которая тебе нужна, которая вернет вдохновение, съеденное твоим безденежьем и моими скандалами. Ты же сам сказал мне, что у каждого мужчины есть своя женщина-мечта. Вот ты и ищешь эту мечту, а из-за того, что их нет на свете, этих женщин, ты мечешься, а я схожу с ума и старею, разрываясь между собой, Уолтом и тобою. Это так жестоко и нечестно, Эд. Я ни о чем тебя не прошу. Я хочу правды. Понимаешь? Правды и определенности. Я же обыкновенный человек, Эд… Я не могу как ты… Я хочу обыкновенного маленького счастья, а оно всегда маленькое – это настоящее счастье. Большим бывает только горе.