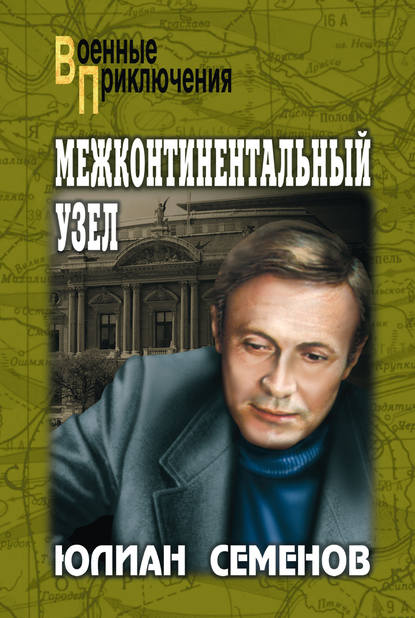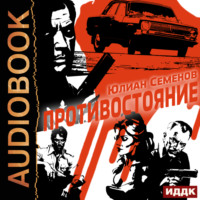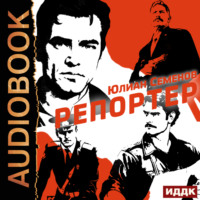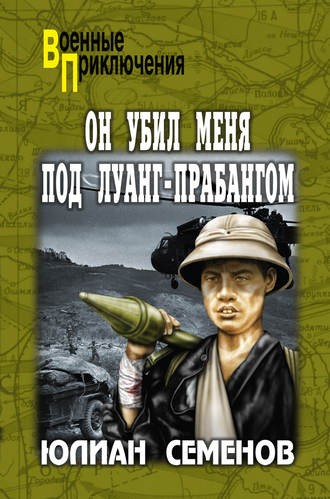
Полная версия
Он убил меня под Луанг-Прабангом. Ненаписанные романы

Юлиан Семенов
Он убил меня под Луанг-Прабангом. Ненаписанные романы
© Семенов Ю.С., наследники, 2008
© ООО «Издательский дом «Вече», 2008
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2019
Сайт издательства www.veche.ru
Он убил меня под Луанг-Прабангом
21.50
Комиссар охраны Ситонг открыл дверцу «газика», мучительно прислушиваясь. Машина натужно ползла в гору. Подъем был очень крутым.
– Выключи подфарники, – сказал Ситонг шоферу.
– Тут воронки. Можем загреметь в пропасть.
– Выключи подфарники, – повторил Ситонг.
– Что? – спросил Степанов. – Летает?
– Вроде бы, – ответил Ситонг. – Стоп.
Шофер выключил мотор. Машина медленно покатилась назад.
– Поставь на тормоз, – сказал Ситонг.
– Она на тормозе.
– Почему катится?
– А он не держит на таком крутом спуске.
– Поставь на скорость, – посоветовал Степанов.
– Это не разрешается по инструкции, – ответил шофер.
– Инструкция простит, – сказал Ситонг, – сейчас свалимся.
Шофер поставил машину на скорость, и Ситонг выскочил из «газика».
– Никого нет, – сказал Степанов, прислушавшись.
Ситонг, досадливо махнув рукой, стоял замерев. Он прислушивался к небу, вытянув шею, – словно так дальше слышал.
– Ты ошибся, Си, – сказал Степанов, – тебе просто показалось.
И в это время он услышал самолет.
– Ситонг не ошибается, – сказал комиссар охраны. – Ситонгу нельзя ошибаться, иначе тебя давно бы уж убили. Лезем в скалы.
Они взяли рюкзак с едой, автомат, фляги, и полезли в скалы.
– Кто летит? – спросил шофер. – Эй ди сикс[1]?
– Он. Кому же еще летать ночью? С этого тихохода можно бомбить даже ящерицу, не то что машину.
Шофер остановился и сказал:
– Я оставил в машине свою новую куртку на «молнии»…
– Ничего, померзнешь, – ответил Ситонг. – Пошли быстрей, он уже рядом.
21.57
– Ну-ка, Билл, погляди ты: вроде бы они остановились?
– Да, командир.
– Радар не барахлит?
– Нет. Просто, видимо, они услыхали нас. Поэтому и остановились.
– Ты думаешь?
– Я думаю.
– Это хорошо, что ты думаешь, – улыбнулся Эд Стюарт, – на этой земле вообще разучились думать. Чем больше люди научились делать, тем они меньше стали думать. Между прочим, напрасно ты не записываешь мои афоризмы: их можно выгодно продать. Например, во Франции. Зайдешь в «Юманите» и предложишь афоризмы «воздушного пирата». Они очень ценят такие эпитеты. Отвернем, Билл. Все же они нас услыхали. Пусть успокоятся и поедут дальше, а мы сделаем круг. Нет?
– Да, командир.
– Ты был в Париже?
– Нет.
– Плохо. Каждый человек обязан побывать в Париже. Ты читал «Праздник, который всегда с тобой»?
– Нет. Чье это?
– Хемингуэя.
– Это который пустил себе пулю в рот?
– Да.
– Нет. Я читал про то, как он развлекался с молоденькой итальянской потаскушкой.
– «За рекой в тени деревьев»?
– Я не помню названия. Я всегда забываю названия, – улыбнулся второй пилот. – Про что – помню, а вот название и фамилию автора всегда забываю.
Эд засмеялся.
– Значит, говоришь, он развлекался с молоденькой итальянской потаскухой?
– Ну да. Они там еще все время пили. Алкоголики какие-то. Вообще все итальянцы алкоголики.
– Это ты сам? Чуть убавь обороты. Вот так. Хорошо. Это ты сам? – повторил он.
– Что?
– Сам придумал про итальянцев?
– Нет. Там воевал отец, он мне рассказывал.
– Тебе двадцать?
– Почему? Мне двадцать два.
«Неужели я в двадцать два был таким же болваном? – подумал Эд. – В молодости мы все кажемся себе гениями и только к старости понимаем, какие же мы в сущности кретины».
– Ты молодец, старина, – сказал Эд, – ну-ка, давай зайдем на них еще раз.
22.07
– Все, – сказал Ситонг, – отцепился.
– Я так боялся за свою новую теплую куртку на «молнии», – сказал шофер, – она греет словно весеннее солнце.
– Тебе положено бояться за машину, – ответил Ситонг, – а не за куртку на «молнии».
– Ты всегда такой грозный, Ситонг? – спросил Степанов. – Что это с тобой случилось?
– Я всегда становлюсь таким, когда кончается поездка. Когда к нам приезжал профессор-француз из трибунала Честности, я в конце поездки ругал его самыми страшными лаосскими ругательствами.
– Зачем?
– Просто так. Чтобы самому успокоиться. Если убьют в поездке – тут уж ничего не поделаешь: война есть война. А когда до границы осталось двести километров – погибать совсем обидно.
– С той стороны границы бомбят так же.
Ситонг вдруг усмехнулся:
– Там за тебя будет отвечать вьетнамский комиссар охраны, а здесь отвечаю я. Хочешь выпить?
– Хочу.
Ситонг протянул Степанову флягу:
– Держи.
– Спасибо.
Степан сделал два больших глотка и сказал:
– У вас от самогона за версту несет рисом.
– Рис – не дерьмо, можно и понюхать. Зато крепкий самогон. Пей еще.
– Не хочу.
Ситонг сделал несколько глотков, прополоскал рот и сказал:
– Десны очень греет. Приятно. Ладно, пошли в машину.
Мотор никак не заводился, исступленно выл стартер.
– Посадишь аккумулятор, – сказал Степанов.
– Не посажу, – уверенно ответил шофер, и по этой его уверенности Степанов понял, что аккумулятор он наверняка посадит.
Это было в Крыму, в Старом Свете. Степанов тогда купил старенький «Москвич», и они с Надей поехали к морю. Был конец апреля, но он все же уговорил.
– В мае уже купаются, – сказал он.
– В конце мая, – уточнила Надя, – а ты месяц не усидишь…
Но ему очень хотелось поехать к морю на «Москвиче», и они поехали.
Зачем женщина вначале так легко соглашается с взбалмошным неразумением любимого? Зачем так скоро любовь трансформируется в чувство собственника? Зачем мы, исповедуя философию движения, относимся к любви словно слепые узколобые догматики? Зачем мы не говорим себе сразу, что любовь обязательно переходит в дружбу и в привязанность, а это ведь уже не любовь? Проблема человеческой совместимости – это и есть проблема счастья в любви. Перед тем как зимовщиков отправлять на год в Арктику, их испытывают невропатологи. Неужели влюбленным надо проходить испытание на будущую совместимость? Может быть, кто знает.
– Смотри, море, – сказал тогда Степанов.
Оно появилось в разрыве облаков ранним утром. Старый Свет еще спал – только отчаянно голосили петухи. И еще очень горько пахло жжеными листьями. Этот запах казался Степанову горьким, потому что он уезжал от Нади в первый раз, когда на даче жгли листья – и голубой дым уходил в синее сентябрьское небо. Надя долго стояла возле калитки, глядя ему вслед, и он то и дело оборачивался, и в нем все пело, и идти ему тогда было невозможно легко – как после хороших трех раундов. Только после хороших трех раундов с товарищем, после горячего душа и жесткого полотенца в нем появлялось раньше такое ощущение.
Счастливая горечь первой недолгой разлуки с ней потом прошла, разлуки стали их бытом, а вот горький запах жженых листьев остался в нем, как символ недолгого счастья, и тишины, и любви.
– Очень скользкая дорога, – сказала Надя. – Будь осторожен.
– Да ладно, – сказал он, – ты смотри, какое море!
Он резко перевел рычаг переключения скоростей, и рычаг остался у него в руке – хороший, видно, металл поставили на заводе, черт их дери! Машина заскользила вниз по горной дороге. Она была сейчас неуправляемой и скользила быстро.
– Правь, родной, правь! – прошептала Надя и стала бледной и пальцы поднесла к щекам. Она всегда подносила свои длинные пальцы к щекам, когда пугалась, или когда он обижал ее, или если она смущалась чего-то. Руки ее не потянулись к дверце, нет. Она сидела возле, повторяя все время как заклинание:
– Правь, Димочка, правь…
А он тихо матерился и не знал, что делать, потому что машину тащило вниз, а метрах в двадцати начинался крутой обрыв. Тогда Степанов зажал в ладони острый огрызок рычага передачи, перевел его на первую скорость, и машина, дрогнув, остановилась.
– Правь, Димочка, правь, – продолжала повторять Надя.
– Чем мне править?! – закричал он тогда. – Что ты болтаешь?!
А она ведь ни разу не потянулась рукой к ручке дверцы…
Все вокруг нас хрупко и непрочно. Зачем мы забываем и об этом? Стекло хрупко? Чушь. Что есть на свете более ломкое, чем человеческие чувствования?
Мы начинаем предавать себя в дни счастья, не замечая этого. Во всяком горе жди радости. Значит, и в счастье должно ждать горя?
– Надо покрутить ручкой, – сказал шофер и засмеялся.
«Веселый парень, – подумал Степанов, – с таким не соскучишься. Тхань был настоящим водителем, а этот еще совсем мальчик».
– Давай ручку, – сказал Ситонг, вылезая из машины.
Шофер долго копался у себя под сиденьем, а потом сказал:
– Нет ручки.
– Чем же я тебе буду крутить? – рассердился Ситонг. – Пальцем, что ли?
Шофер рассмеялся, и Степанов тоже.
– Ничего, – сказал Степанов. – Сейчас мы развернем машину на месте и пустим ее вниз. Она пойдет под гору и заведется со скорости.
Они взмокли, разворачивая машину. Им приходилось удерживать ее над пропастью, но они все-таки ее развернули.
– Садитесь, – сказал шофер, – сейчас заведется. А внизу есть площадка, там можно развернуться. Там большая площадка…
Но они не сели в машину, потому что снова услыхали самолет.
22.13
– Ты заметил, что обостренное чувство совестливой стыдливости у женщины унижает мужчину? – спросил Эд. – Длительно стыдливая женщина может сделать мужчину импотентом.
Билл смущенно хмыкнул.
– Ты что, девственник?
– Нет, командир. Только меня развратные женщины без стыда совершенно не волнуют. Мне самому стыдно за них. Я люблю нежность.
– Это потому, что вы теперь все слишком рано начинаете.
– Нет, командир. Про это больше болтают.
– Посмотрите-ка, а они все еще стоят. Они не могли нас слышать, мы подлетали из-за хребта.
– Обезьяны, – сказал Билл, – чарли проклятые.
– Они люди, а не обезьяны. Зачем ты так? Надо уважать врагов. Если мы воюем против обезьян уже пять лет и по-прежнему сидим по горло в дерьме, то кто же тогда мы сами-то?
– На них надо бросить пять водородных штучек, и все кончится.
– Кто их будет кидать? Ты?
– Ну и что? Я кину.
«А ведь этот действительно кинет, – подумал Эд, – и с ума потом не сойдет».
– А дети?
– Какие дети?
– Их дети. Маленькие дети. Они ведь тоже сгорят…
– Что – дети? «А ля гер, ком а ля гер»…
– К тому же ты знаешь французский?
– Я беру уроки.
Эд почувствовал затылком, как осклабился его второй пилот. Достав расческу, Эд уложил растрепавшиеся волосы. В расческе тихо потрескивали молнии.
– Ты спишь с мадам Тань?
– О чем вы, командир? – скрывая улыбку, ответил Билл. – Я не понимаю, о чем вы говорите…
– Ну-ка, внимательно посмотри: они на том же месте или сдвинулись?
– Чуть сдвинулись.
– К Лаосу.
– Странно, вначале они ехали во Вьетнам. Хватит горючего еще на один круг?
– Хватит. Не возвращаться же с бомбами…
– Можно отбомбиться здесь.
– По пустой машине?
– Ну и что? Все равно – урон для техники.
– Им русские пригонят взамен этой еще десять штук.
– Почему русские? А может, китайцы?
– Китайцы сами нищие.
– Ты стратег, а?
– Нет, командир. Просто я так думаю.
– Опять ты думаешь, черт возьми! Хватит тебе думать, – я завидую тем, кто не думает…
– Мадам Тань купила вашу книжку.
– Ну?! Она умеет читать? Я думал, что она только умеет… Это прекрасно, когда туземная красавица умеет не только… но к тому же читает книжки.
– Она метиска. Ее отец был французом. А мать – камбоджийка.
– О, это прекрасно, когда отец француз…
– Она говорит, что вы пошли в авиацию из-за неудачной любви.
– Скажи на милость: она и про неудачную любовь знает?
– Зачем вы так? Она очень хорошая…
– Сколько ей?
– Тридцать.
– Молодец. Всегда надо учиться на женщинах, которые старше. Я начал с одногодок и только сейчас понял, какую сотворил глупость. Женщина, которая старше, понимает, что измена это глупость и мелочь… Переспал с кем-то – ну и переспал… Вообще-то мужчины совестливее женщин. Разница в возрасте, Билл, – единственная гарантия прочной любви. Запиши это, старина, запиши. Это купят даже в «Крисчен сайенс монитор» для раздела «Мысли бывалого идиота».
22.24
– Вот сволочь, – сказал Ситонг, – что это он к нам прицепился? Может, диверсанты передали им по рации, что я везу европейца? Они решили, что ты – какой-нибудь важный начальник, а не писатель, какой-нибудь Че Геварра, вот и охотятся. За простым Патет Лао они бы так не охотились…
– Зачем я им нужен? – усмехнулся Степанов. – Лишние дипломатические осложнения.
– Никаких осложнений. Бомбой разнесет в клочья, а они скажут, что это мы тебя… – и он присвистнул, изображая, что «они» сделали бы со Степановым.
– Да?
– Конечно.
И они оба рассмеялись.
– Ты отчего не женишься, Ситонг?
– Нельзя.
– Почему?
– Война идет.
– Тебе не страшно воевать, у тебя нет детей.
– Наоборот, – возразил Ситонг. – Когда есть дети – погибнуть не так страшно: после тебя останется на земле твое семя…
– А если ты останешься жив, а они погибнут? Тогда как?
Шофер осторожно кашлянул и быстро взглянул на Ситонга. Тот ничего не ответил, но Степанов заметил, как у него замерло лицо и вспухли желваки. Ситонг достал флягу и молча протянул ее Степанову.
– Не хочу. Спасибо.
Ситонг отвернул крышку и сделал несколько глотков.
22.30
– Вот теперь они едут, – сказал Билл, – только теперь они снова повернули во Вьетнам. Что это они – то сюда, то туда?
– Посмотри по карте – здесь начинается горный коридор, нет?
– Да. Точно. Я думаю, надо ехать домой, командир. Горючего не хватит – думается мне.
– Опять ты думаешь… Что это за манера такая, – проворчал Эд, прикидывая остаток горючего. – Ты не охотник?
– Что?
– Я спрашиваю – ты не охотник, случаем?
– Нет. Отец мне запрещал охотиться. Он говорил, что это негуманно. Чем лесные птицы виноваты, когда их бьют из ружей с собаками? Надо охранять живность – ее и так мало осталось на земле. У нас дома всегда жили утята… Вся наша семья любит уточек…
22.34
– Гони! – закричал Ситонг. – Гони, скорей!
На этот раз он услышал самолет, когда уже было поздно выбегать: американец хитро подкрался из-за хребта и теперь догонял машину сзади.
– Стоп! – крикнул Ситонг.
Машина, взвизгнув тормозами, замерла на месте.
– Вперед!
Шофер дал максимальную скорость, но машина все равно ползла очень медленно, оттого что дорога по-прежнему шла вверх. Ситонг кричал на шофера, парень растерялся и, вместо того чтобы дать подсос, врубил большой свет. Длинный, как крик, луч белого света повис в ночи.
– Идиот! – заорал Ситонг. – Идиот! Гони скорей, за поворотом – скала!
«Какая скала? – подумал Степанов. – При чем здесь скала? Здесь кругом скалы».
– Гони! Гони! Кричал Ситонг.
– Не кричи, – сказал Степанов, – ему так трудно править.
И вдруг в луче света, примерно в двадцати метрах перед собой, они увидели спасение: дорога уходила в скальный тоннель.
Степанов никак не мог выдохнуть воздух, хотя ему хотелось это сделать, а самолет ревел где-то совсем рядом.
– Ты гений, Ситонг, – шепнул Степанов, – только бы успеть, ты гений…
22.35
– Уточек, – повторил Эд, – это хорошо, что вы любите уточек. Большие вы все гуманисты, как я погляжу. А вот меня эта машина возбуждает, как кабан, который прошел номер охотника за пределом выстрела. Видишь, чарли нас услышали и с перепугу включили свет. Наивные чарли, они думают, что мы сверху видим их по свету. Они совсем не думают о наших локаторах. Черт, куда это они делись? Успели-таки, – сказал он, откинувшись на спинку своего кресла, – спрятались под скалу. Молодцы. Здорово ездят эти лаосские парни.
Он прикинул по карте, когда они должны выйти из гор на равнину. Выходило, что примерно через пять часов они должны быть на равнине. Там, решил он, чарли от него никуда не денутся.
– Отбомбимся здесь, – сказал он, – через пять часов мы встретимся с ними на равнине.
– Да, командир, – ответил Билл и нажал кнопку. Самолет тряхнуло: бомбы полетели вниз.
22.38
Когда отгрохотало эхо и после взрыва бомб стало вокруг неприглядно темно, Ситонг, двигая нижней челюстью (видно, здорово заложило уши), сказал:
– Все. Теперь можно спокойно ехать. Через шесть часов я передам тебя с рук на руки, а там, во Вьетнаме, русские ракеты, там они не так лихо летают, там они побаиваются. Тебя не задело?
– Нет.
– А уши?
– Ничего.
– Едем, – сказал он шоферу, – или снова надо покрутить?
Шофер рассмеялся – он был веселым парнем – и ответил:
– Я же не выключал мотора!
Когда они двинулись дальше, он по-прежнему веселился, объясняя Ситонгу, что со страху он не успел выключить мотор и, пока американец бомбил, очень боялся, что комиссар услышит, как работает мотор, и даст крепкую выволочку: по инструкции мотор полагается выключать во время бомбежек.
– Интересно бы посмотреть в глаза этому летчику, – сказал Степанов. – Молча посмотреть ему в глаза.
– У него кровавые глаза. Что в них смотреть? В них надо стрелять.
Ситонг говорил неверно. Глаза у Эда были голубые, добрые, очень красивые. И Степанов смотрел в эти глаза дважды: первый раз в Скандинавии, во время фестиваля молодежи. И он не просто смотрел в эти глаза. Он был хорошо знаком с обладателем этих глаз.
Они тогда пошли вдвоем на шхуну «Мария» – это был штаб антисоветского центра. По скрипучей лесенке они спустились в прокуренный трюм; там ревел джаз и потные негры метались между столиками с бесплатным пивом. На стеллажах вдоль бортов были разложены брошюрки НТС. От табачного дыма щипало глаза. К столику, за которым сидели Степанов и Стюарт, подошли два парня – маленький толстяк и белобрысый верзила в белом джемпере и мятых белых джинсах.
– Это мой друг, – сказал белый парень, тронув грудь спутника мизинцем, – он из Кении.
Выкатив белки, тот широко улыбнулся.
– Меня зовут Ононкво, – сказал он, – я учусь в Киле. До этого я вкусил советского рая в Москве. Откуда вы, друзья?
– Я из Нью-Йорка, – ответил Эд и вопросительно посмотрел на Степанова.
– А я из Москвы.
– Русский? Почему вы здесь? Какой русский? – спросил белый парень, по-рязански окая.
– Советский.
Парень молча, тяжело разглядывал Степанова. К нему подошли еще несколько человек. Тогда он сказал:
– Лучше уйдите отсюда.
Столик теперь окружили тесным, жарким, тихим кольцом. Эд сидел бледный: с детства он боялся драк. Мать запрещала ему драться, и поэтому за ним утвердилась репутация труса. Позже он и сам поверил в то, что он трус. А потом он стал подшучивать над своей трусостью – чтобы ее скрыть. Люди не поверят, что человек, открыто вышучивающий свою трусость – на самом деле трус. Так, считают все, поступают люди сильной воли, очень храбрые, с хорошим чувством юмора.
Белесый парень вдруг очень тихо заматерился. Несколько человек взяли его за плечи, но он вырвался и ударил Эда – тот был к нему ближе, потом он бросился на Степанова. Степанов врезал ему апперкот – с подъема. Парень опустился на колени. Началась свалка. Потом Степанов услышал английскую речь: трое здоровенных верзил с военной выправкой раскидали дерущихся.
– Что это за бардак! – кричал Эд, вытирая кровь с разбитого рта.
– Кто вы? – спросил его один из трех верзил.
Эд назвался.
– А кто с вами?
– Я из Москвы, – ответил Степанов.
В дальнем углу шхуны начал биться Ононкво.
– Пустите меня! – кричал он тем, кто держал его за руки. – Я покажу сейчас этому из Москвы!
Самый высокий из трех американцев медленно обернулся и негромко сказал:
– Шат ап!
И парень сразу стих. Два американца ушли куда-то и через минуту возвратились с невысоким седым человеком.
«Где я видел его? – подумал Степанов. – Где-то я его видел, это точно. Ага, он приходил на литературную дискуссию».
– Здравствуйте, товарищ Степанов, – сказал седой, – меня зовут Виктор Михайлович. Бога ради, простите этих ребят: они дети горькой русской эмиграции, в их сердцах постоянная боль. Ведь ни одна нация, кроме русской, не знала такой опустошительной эмиграции. Кто это с вами?
– Эд Стюарт, писатель из Штатов.
Виктор Михайлович кивнул Эду и сказал:
– В России перемены… Идти вдвоем с американцем к нам на шхуну… Не боитесь, что дома потревожит КГБ?
– Боюсь, – ответил Степанов. – Видите, как боюсь…
– Он что – из ваших американцев?
– То есть?
– Марксист?
– Почему? Нормальный империалист.
– У вас тут есть что выпить? – спросил Эд. – Кроме пива, конечно.
– Я говорю только по-немецки, – ответил Виктор Михайлович. – Что он спрашивает?
– Он хочет выпить.
– У нас вообще-то безалкогольный студенческий корабль, но вас я угощу из своих запасов.
– Вы тоже студент? Или как?
– Я преподаватель.
– Чему учите? – хмыкнул Степанов.
– Хватит об этом, – улыбнулся Виктор Михайлович. – Я сейчас вам принесу «Посев». Мы защищаем вашу последнюю книгу от советской критики. Герр Шульц! – крикнул он вдруг страшным, немецким, командным голосом. – Герр Шульц! Три виски! Герр Шульц!
Появился здоровенный, толстый немец.
– Кто это? – спросил Эд одного из американцев, которые по-прежнему стояли чуть в стороне, словно родители, наблюдающие за тем, как играют детишки.
– Это их Гиммлер, – засмеялся самый высокий американец, – какой-то оберфюрер.
– При чем тут Гиммлер, – поморщился Виктор Михайлович. – Этот американец говорит по-русски?
– Ни бельмеса, – ответил Степанов.
– Обычная американская невоспитанность. Молодая нация, нет культуры, ничего не поделаешь. Герр Шульц – старый демократ.
Потом Степанов и Эд долго ходили по набережной. Белые ночи были на изломе. В серых, зыбких ночных сумерках лица людей были трагичны и нереальны.
– Политика может простить ту или иную ошибку, но она не простит глупости, – говорил Степанов задумчиво. – Живет у вас Керенский, Струве, тысячи других наших эмигрантов – и пусть себе живут. Но когда вы поддерживаете НТС, то вы поддерживаете фашизм: они шли с Гитлером во время войны и сжигали в печах детей.
– Почему вы думаете, что мы их поддерживаем?
– Откуда на шхуне появились три ваших паренька в штатском?
– Вы думаете, они – наши?
– Уж не наши, во всяком случае.
Эд рассмеялся.
– Только не думайте, – сказал он, – что если я ругаю моего президента, то, значит, я выступаю за вас. Ругать тех, кто неверно правит твоей родиной, совсем не значит желать ей зла. Часто – наоборот.
– Вы ругали своего президента?
– Буду. Когда вернусь.
– В какой газете? Я посмотрю.
Эд назвал газету, от которой он приехал.
– Между прочим, который час? – спросил он. – В потасовке я потерял часы.
– Что ж после потасовки не поискали?
– Я щупал ногой под столом. Там не было.
– Богатая вы нация, – сказал Степанов, – можно было и руками пощупать. А времени сейчас половина третьего.
– Ого! – присвистнул Эд. – Жена в гостинице лезет на стену.
– Всякий порядочный мужчина должен немного бояться жены, – сказал Степанов, – жену не боится только прощелыга или гений.
– Не всякий гений, – добавил Эд, – а только тот, который вступил в брак уже состоявшимся гением.
– Это вы к тому, что нет пророка в своем отечестве?
Эд поднял палец, остановился и записал что-то в книжечку: каждый человек строит себе баррикаду на тех мудростях, которые утверждают его в своих же глазах.
23.20
Эд спросил Билла, когда они вышли из штурманской прокуренной комнаты:
– Ты куда? К туземной женщине?
– Не знаю, командир, – ответил Билл, смутившись, – сначала я хочу посмотреть на белых женщин.
– Где ты их тут увидишь?
– Сегодня должны прилететь какие-то благотворительные журналистки из дома. Они путешествуют по Азии и должны завернуть сюда из Бангкока.
– Все наши журналистки забыли, когда у них кончилась зрелость…
– Что? – переспросил радист. – Что они забыли?
Эд снова засмеялся и сказал: