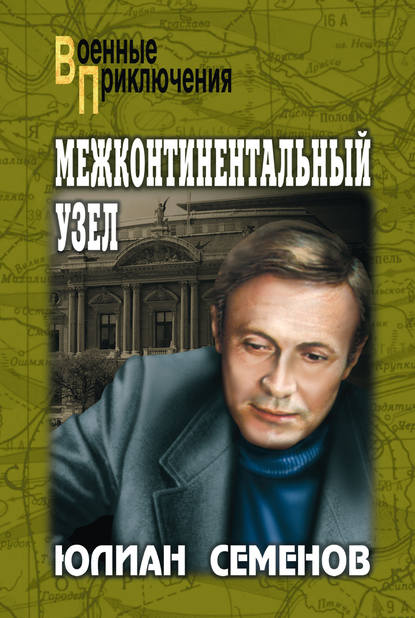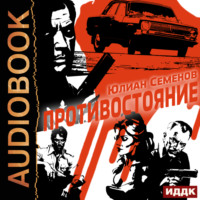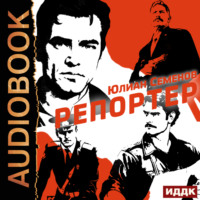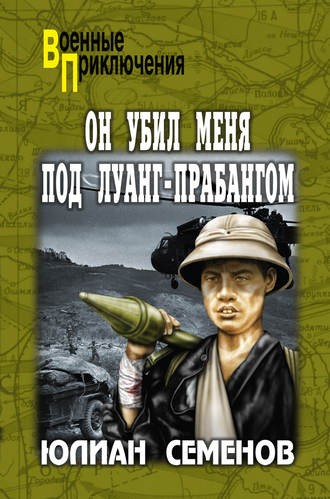
Полная версия
Он убил меня под Луанг-Прабангом. Ненаписанные романы
– Иди к черту, старик, ты невозможен.
– А куда вы?
– Я спать. Через пять часов мы с тобой выедем, так что не увлекайся бабушками.
– А я могу не спать двое суток.
– Да?
– Я так думаю.
– Ясно, мыслитель. Ну, пока.
Эд бросил свой джип где-то под деревом, в спешке, и сейчас, чертыхаясь, хлопал себя по карманам: фонарик, конечно, он оставил в кабине.
«Глупость какая, – думал он, – зачем мне в кабине фонарик? Если угрохают – фонарик уже не потребуется. А сесть на вынужденную в скалах немыслимо. Сказано, чтоб держать в кабине – и держу. Болван. Мы все любим жить по предписанию; удел мышей – жить по предписанию. Никакой ответственности – за тебя все расписано».
Ночь была безлунной, темной. Эд наткнулся на камень, выругался, заскакал на одной ноге. Он вспомнил, как над ним подшутили ребята в школе. Он очень любил представлять себя знаменитым футболистом. Он выучился ловко бить мыском камушки и жестяные банки из-под пива. Однажды ребята завернули в белую бумагу тяжелый камень и положили его на дороге. Эд, конечно, ударил по этой бумажке мыском и упал, потеряв сознание от боли.
«Интересно, как фамилия того, кто это придумал? – подумал Эд. – Ему бы надо взять фамилию Гитлер».
Кто-то метрах в десяти от него включил фонарь. Острый луч света ослепил Стюарта.
– Эй, – сказал он, – осторожней. Посвети пониже – где-то здесь моя машина… И не свети в глаза – я так слепну.
Ему никто не ответил, но рука, державшая фонарик, послушно опустилась вниз, и Эду показалось, что человеку было тяжело опускать руку, – так упруг и весом был луч света. Листва в этом мертвом белом свете была черной, неживой, похожей на чугунную. Днем она была нежно-зеленой, хрупкой.
Эд увидел свой джип и сказал:
– Погоди выключать. Я сяду за руль, и тогда выключишь.
Фонарик послушно освещал его машину. Эд вспрыгнул на сиденье. Прыгающий луч света приближался к нему.
– Кто ты? – спросил Эд. – Освети себя.
Яркое пятно света все приближалось.
– Эй! – сказал Эд. – Покажи себя, парень!
Ему вдруг стало холодно, и тело покрылось потом.
«Чарли! – мелькнуло в мозгу. – От аэродрома сто метров, рядом – джунгли, и никого нет!» Он ударил себя по левой ляжке: кобура с пистолетом осталась в самолете. И тогда он пронзительно закричал – визгливым срывающимся голосом. Свет исчез. На том месте, где он только что был, зияла черно-зеленая пустота, расходившаяся постепенными радужными кругами.
– Не кричи, – сказал знакомый голос, – не кричи так страшно, дурачок.
Сердце его колотилось где-то в горле, руки мелко тряслись: так с ним было первый раз, когда он проходил сквозь заградительный огонь зениток возле Самнеа.
Кто-то опустился рядом с ним на сиденье, и тогда, в близкой темноте, он увидел лицо жены.
– Зачем ты приехала, Сара? – спросил он хрипло.
23.20
– Ну-ка, вруби фары, – сказал Ситенг, – что-то на дороге чернеет.
Когда шофер включил свет – через секунду, не больше, – прогрохотала автоматная очередь и машина сразу осела на правое колесо. Ситонг кошкой выскочил из кабины и, бросившись к тому черному, что перекрывало дорогу, на ходу дал ответную очередь, прижав автомат к животу. Степанов, падая на теплую каменистую землю, ясно представил себе, как Ситонг стреляет: когда они попадали в перестрелки, Ситонг бил из автомата, завалив его влево – от живота, бил мастерски, не целясь.
Прогрохотала ответная очередь. Другая. Третья.
«А из разных бьют, – подумал Степанов, – плохо дело-то. Их, значит, там не меньше трех».
К Степанову подполз Ситонг и молча протянул пистолет. Степанов отрицательно покачал головой.
– Почему? – спросил Ситонг одними губами, но он лежал совсем рядом, и Степанов понял его вопрос.
– Если возьмут – сразу поднимут визг: «вооруженный русский», – ответил он, подумав при этом: «И дома потом, если выменяют, затаскают по начальству».
Ситонг положил рядом со Степановым свой длинный нож и отполз к шоферу. Они пошептались о чем-то, и Ситонг исчез. Шофер подождал несколько минут, а потом дал из своего трофейного американского автомата очередь по тому темному, что было впереди, на дороге. Ему ответили сразу из трех автоматов.
«Значит, их не больше, – подумал Степанов. – Выкрутимся».
– Сколько прошло времени? – шепнул шофер.
– Не знаю.
– Посмотрите на часы.
– У меня стрелки не светятся.
– Покажите мне.
Степанов вытянул руку с часами. Шофер приник лицом к часам, а потом шепнул:
– Без пяти шесть.
– Не может быть, – ответил Степанов. – Ты спутал. Наверное, половина двенадцатого.
Шофер хихикнул в темноте.
– Я всегда путаю стрелки, – сказал он, – особенно в темноте. Конечно, сейчас половина двенадцатого. В шесть часов начинают светлеть облака на востоке.
Степанов с трудом понимал парня – тот говорил очень цветистым языком. «Наверное, из Саванакета, – подумал Степанов, – там особенно красочный язык».
Снова прогрохотала очередь. Шофер не отвечал. Он потянул к себе руку Степанова и снова приник к часам.
– Пора, – шепнул он. – Если они побегут на вас, хватайте за ноги и бейте ножом.
– А ты?
– Я буду рядом, просто я говорю на всякий случай. Разите коварного врага ножом в горло, – закончил он саванакетской цветистостью.
И шофер отполз в сторону. Именно оттуда через минуту-две он дал несколько очередей, а потом закричал что-то пронзительное – Степанов так и не разобрал что. С дороги ответили очередями – Степанов видел красно-белые точки, разрывавшие черное полотно ночи, а потом выстрелы загрохотали в другом направлении, красно-белых разрывчиков уже не было, а после он услыхал голос Ситонга впереди и почувствовал, как кто-то невидимый бежал прямо на него по теплой каменистой дороге.
«Ну вот, сейчас, – сказал он себе. – Вот он рядом».
Но он не успел броситься на бегущего: чья-то стремительная тень метнулась от скалы. Степанов слышал, как человек тяжело упал. Потом он слышал тяжелые удары, и сопение, и стон, а после Ситонг закричал:
– Включайте фары!
Никто ему не ответил, но сопение где-то совсем рядом и тяжелые удары он по-прежнему слышал. Степанов поднялся, подошел к «газику» и включил свет. В белом луче он увидел шофера, который сидел верхом на человеке в серой куртке и бил его сцепленными руками по голове. Кровь на лице человека была черной.
– Эй, – негромко сказал Ситонг, – хватит. Он же не двигается.
…Двух диверсантов он уложил наповал, а третий, который ринулся вперед от неожиданно прогрохотавших сзади выстрелов, теперь лежал без сознания на дороге, и шофер по-прежнему яростно колотил его: звук был такой, будто мокрое белье били о камни.
Ситонг раскидал завал, который диверсанты сделали на дороге, шофер менял простреленное колесо, а Степанов сидел возле пленника и смотрел, как тот медленно приходит в себя. Подошел Ситонг, тронул человека ногой и сказал:
– Не наш. Это вьетнамец. Они сюда забрасывают диверсантов из Сайгона.
– Как ты определил?
– По лицу. Разве он похож на нас?
Степанов взглянул на пленника: тот был похож на Ситонга как две капли воды. Хотя, вспомнил он, в Ханое ему говорили, что все европейцы кажутся в Азии похожими друг на друга. «У нас лица разные, а вы все одинаковые, как братья». Степанов тогда удивился: «Но ведь у нас есть блондины, рыжие, брюнеты». Ему ответили: «А мы не смотрим на волосы. Мы смотрим только на форму глаз и на цвет кожи».
– Вставай, – сказал Ситонг пленному и тронул его мыском своих драных кедов. – Ну!
Пленник лежал не двигаясь, но глаза открыл.
– Что ты с ним говоришь? – удивился шофер. – Пусти ему пулю в лоб.
– Вставай, – повторил Ситонг.
Человек по-прежнему не двигался.
– Не понимает по-нашему, – сказал Ситонг. – Попробуй с ним по-американски.
– Нечего с ним по-американски, – снова повторил шофер из темноты, – ему надо пустить пулю в лоб.
– Он пленный, – сказал Ситонг.
– Он диверсант и стрелял нам в спину.
– Он стрелял нам в грудь.
– Какая разница?
– Разницы никакой, – согласился Ситонг, – только он пленный.
– Вы говорите по-английски? – спросил Степанов.
Пленный сразу поднялся, и лицо его дрогнуло и стало растерянным.
– Кто вы? – спросил он.
– Патет-Лао, – ответил Степанов. – А вы?
– Пусть говорит правду, – сказал Ситонг. – Скажи ему, что у нас мало времени и трудно с местом в машине. Переводи, переводи! Переводи, – повторил он. – Они бомбят наши госпитали. Они заставляют нас говорить так.
– Откуда вы? – спросил Степанов. – Ваше имя?
– Я из Гуэ. Меня зовут Нгуэн Ван Хьют. Меня забросили американцы.
Степанов перевел.
– Спроси его – будет он говорить все моему командиру?
– Да, – ответил пленный. – Конечно.
– Спроси его: зачем он прилетел к нам?
Пленный долго молчал. Это был не молодой уже человек, очень худой, слишком для вьетнамца высокий. Хотя, может быть, он показался таким Степанову из-за худобы.
– У меня же семья, – очень тихо ответил человек, и губы его затряслись.
23.45
– Я не хочу в бар, – сказал Эд. – Я никуда не хочу, Сара.
– А я очень хочу, – сказала она и прижалась лицом к его плечу, и стало ему от ее прикосновения пусто и горько.
– Не надо, – попросил он.
– Нет, надо.
– Зачем ты прилетела сюда?
Сара отодвинулась, поправила прическу и ответила:
– У тебя есть сын, Эд. У тебя есть семья.
– Я предал самого себя из-за семьи, из-за сына, из-за тебя, – ответил он. – Ты получаешь деньги, Уолту пока еще не бьют морду из-за того, что его папа бомбит Азию, – чего тебе еще надо? Из-за вас я потерял самого себя – чего вам всем от меня надо?
– Теряют, когда есть что терять.
– Ну вот, видишь… О чем же нам говорить? О чем, Сара?
– Ты ведь сам хочешь, чтобы все наладилось.
– Ненавижу, когда за меня говорят. Если бы я хотел, чтобы наладилось, я бы сказал тебе об этом. Кто из нас двух лучше знает меня: я или ты?
– Я.
– В каждом человеке живет много людей. Ты знаешь меня одного, мой радист – другого, мальчик – третьего, лаосцы – четвертого, а я – знаю себя пятого. И все мы разные. Ты всегда хотела, чтобы я был одним. Тебе надо было выйти замуж за клерка из рекламного бюро: они отличаются спокойной одинаковостью, а человек, который пишет или снимает, – обязательно должен быть психом. Ты этого никогда не могла принять, я шокировал тебя тем, что я был таким, каким был, а не был таким, как все.
– Ты изменял мне, Эд. Ты предавал меня с потаскухами, а я всегда была тебе верна.
– Сосуществование – это отнюдь не любовь, Сара, но любовь – это обязательно сосуществование! Любовь предполагает уважение к индивидуальности. Иначе – получается ярмо собственности. Ты считала меня своей собственностью, а человек принадлежит только самому себе.
– Я всегда была верна тебе, Эд. И меня никогда не тяготила эта верность.
– Что ты кичишься этим?! Что – верность?! Медаль за храбрость? Счет в Лозанне?! Когда верность делается тиранией, так лучше пусть будет взаимоуважительная неверность.
– Тебе всегда хотелось, чтобы я изменила тебе, я знаю. Ты всегда по ночам расспрашивал меня: «Как тебе было бы с другим? Представь, что я другой…»
Стюарту вдруг стало мучительно гнусно: так ему было однажды, когда он пошел в клинику – смотреть аборт. Он писал повесть, и ему надо было описать аборт. Он после этого уехал на два месяца во Флориду и пил, не просыхая, чтобы забыться.
– Ты все помнишь, Сара, – сказал он, – у тебя прекрасная память. А я, когда спрашивал тебя о чем-то ночью, не помнил ничего днем…
– Не ври себе, Эд.
И он понял, что она сейчас сказала правду, и это родило в нем злость.
– Скотина! – сказал он, сморщившись.
– Это ты – скотина, – тихо ответила Сара, – это ты подлая скотина, а не я.
– Так зачем ты приехала сюда?!
– Потому что я тебя люблю…
23.47
Ситонг укрыл трупы двух диверсантов брезентом, связал руки пленному и сказал шоферу:
– Едем.
Шофер сказал:
– Все-таки лучше бы его тут пристрелить. Вдруг впереди еще одна группа? Что тогда нам с ним делать?
Ситонг попросил Степанова:
– Переведи-ка – их выбросили одних или были еще группы?
– Было еще четыре группы, – ответил пленный. – По три человека в каждой.
– Их бросили вместе?
– Вас бросили вместе? – перевел Степанов.
– Нет. Нас бросили последними.
– А те группы тоже должны делать засады на дорогах?
– Да.
– Где?
– Я не знаю.
– Ладно, – сказал Ситонг, – поехали. Мы успеем от него избавиться, если те нападут.
– Враги коварны, ночь темна, и нету серебристой луны, – как всегда, цветисто сказал шофер, включая мотор.
Они проехали километров пять, и Ситонг попросил:
– Останови машину. Я весь измазался кровью.
Шофер остановил машину. Ситонг включил фонарик: весь брезент был черным от крови.
– Как будто оленя везем, а не диверсантов, – усмехнулся он.
Степанов вспомнил якутскую тайгу. Он бродил там вдвоем с охотником Максимом: они промышляли белку. В тот год было хорошее белковье – в тайгу ушли целые деревни, а в домах остались только глубокие старики и школьники. Малышей родители тоже забрали в тайгу, и поэтому поселки были тихие-тихие, будто военные.
Они с Максимом вышли однажды к избушке старика, который раньше был шаманом. К нему перестали ходить люди, потому что приехала девушка-врач. И старик, чтобы не голодать, начал охотиться за волками. Он брал на фактории стрихнин и выслеживал волков – они очень много задирали оленей. Он на это жил: за каждого волка ему давали пятьдесят рублей и двух оленей. Он даже по этому поводу выступил во время предвыборной кампании: рассказал жителям, как он плохо жил раньше и как хорошо ему жить теперь, когда он не эксплуатирует суеверия, а зарабатывает себе пропитание собственным трудом.
Когда Максим и Степанов пришли к нему домой, старик был болен. Он сидел на крыльце и грелся под последним осенним солнцем. Оно уже было не теплым, но все равно старик считал его целебным, потому что раньше он поклонялся солнцу и думал, что оно только и может вылечить либо навлечь болезнь.
Рядом с крыльцом стоял старый олень – такой же старый, как и бывший шаман. Зубы у него были желтые, стертые.
– Лечиться буду, – сказал старик.
– А чего тебе лечиться? – спросил Максим. – Ты нас переживешь.
Старик – довольный – засмеялся, обнажив коричневые зубы.
Он долго грелся на солнце, а потом пошел в дом – за топором. Топор был старый, плохо точенный, но тяжелый. Старик обвязал ноги оленю, которого ему привели утром за убитого волка, и присел на крыльцо – отдышаться. Потом он взял топор и, долго прицеливаясь, ударил оленя обухом по голове. Олень дрогнул, но не упал, и только в его старых, замшелых, серых глазах высверкнуло черно-красное. Старик ударил его еще и еще раз, и олень упал. Старик вытер с лица пот, ушел в дом и принес большой таз. Он приподнял голову оленя и подсунул под его шею таз. Олень плакал. Старик взрезал ему шею, и дымная кровь полилась в таз, и он пил ее из таза, пачкая лицо. Он долго пил дымную кровь оленя – это самое ценное лекарство здесь от всех болезней и от старости тоже. А потом, шатаясь как пьяный, ушел в дом, повалился на лавку и уснул.
Вечером Степанов, спавший с Максимом на печке, увидел, как старик, совсем уж и не сгорбленный, легко ходил по комнате, мурлыкая что-то под нос, укладывал рюкзак: видно, он собрался в тайгу.
– Кровь все лечит, – сказал он, увидев, что Степанов не спит, – наша доктор меня за это не ругает. Молодец, старый, говорит, до ста, говорит, доживешь. А мне уже сто три, – засмеялся он.
– Здесь сверни, – сказал Ситонг, вглядываясь в темноту, – и здесь, по ручью, в скалах наши пещеры.
– А может, рванем напрямик? – спросил Степанов.
– Надо сдать пленного. Не повезу же я его во Вьетнам и обратно. И взять запасное колесо. И шоферу хоть часок поспать: дальше самая опасная дорога через равнину…
23.57
Молоденькая девушка, видимо таиландка, делала стриптиз на маленькой, ярко высвеченной сцене.
«Сейчас она улыбнется, – подумал Эд, – она всегда улыбается в этом месте».
– Когда она начнет стягивать рубашечку, посмотри, как она будет улыбаться, – сказал он Саре.
– Ты уже изучил этот номер?
– А сейчас, когда опустится на пол, она начнет кусать губы и закрывать глаза от страсти.
– Бедная девочка. Вы ее тут, наверное, уже все изучили?
– Она единственная девственница в этом городишке.
– Это ты выяснил точно?
– Это я выяснил точно.
Ему очень хотелось, чтобы девушка хоть на минутку забылась, но она была хорошо вышколена антрепренером, месье Жюльеном, и поэтому она начала закатывать глаза, кусать губы и стонать.
– Что ты будешь пить?
– Виски со льдом.
– А потом устроишь мне истерику, если девочка после номера подойдет к столику? Она часто подходит ко мне и садится рядом, мы беседуем с ней о литературе – как это ни смешно…
– Я забыла, как ревнуют, Эд.
– Ты это быстро вспомнишь.
– Я ревновала тебя, только когда мы спали вместе.
Он смотрел на Сару. Она не видела, как он на нее смотрит, потому что разглядывала зал.
«Как же она красива, – думал Эд, – и как я любил ее… С чего же начался крах?»
Вернувшись из Скандинавии, Праги и Берлина, он написал для газеты, которая субсидировала его поездку, цикл очерков.
Он писал, в частности, что юность мира хочет жить в мире, но им этого не дает делать ненависть и подозрительность, оставшаяся в наследство от уходящего поколения.
«Господин президент, – писал он, – живет мнением советников, выстроивших курс и ставших после рабами этого курса. Стране угрожает бюрократическая олигархия. Если не разрушить замкнутый круг правительственных бюрократов, связанных с интересами монополий, и не соединить президента и конгресс напрямую с народом, то наша великая демократия может вскорости вылиться в диктатуру плутократии. Политику следует строить, базируясь на Институте Гэллопа, который держит руку на пульсе общественного мнения. Болтать о демократии – еще не значит быть демократом. Наша страна имеет все шансы вскорости сделаться жупелом ужаса. Нами будут пугать детей, господин президент. Ревизия нашей политики необходима. Назад, к Рузвельту – означает вперед, к истинной демократии. Твердость курса хороша только в том случае, если наша программа лучше всех остальных в мире. В противном случае “твердость курса” может означать только одно: трусливое своеволие бездарных плутократов!»
Редактор газеты, для которой он ездил на фестиваль, встретил его, мило похохатывая. Он то и дело гладил свой живот нежным движением руки слева направо: ему объяснили врачи, что это – прекрасный способ помогать пищеварительному процессу, не истощая себя диетой.
– Мальчик мой, – сказал он, предложив Эду сесть рядом, – я прочитал ваши опусы. Но это написано для «Дейли уоркер». Это не для нас, ведь мы – серьезное издание.
Эд пожал плечами, улыбнулся:
– Липпман пишет похлеще.
– Станьте Липпманом. Человек, критикующий наши основы с позиций Липпмана, – это одно, а вы – совсем другое.
– Какое «другое»?
– Малыш, – сказал редактор, прекратив поглаживания своего громадного живота, – не сердитесь на меня, но я скажу вам правду. Вы – ничто. Пока – ничто. Каждый человек может написать пару книжек про то, как он ложился в постель со своей первой женщиной. Это даже могу написать я. Когда нашего президента и наш курс бранит Липпман – он выдвигает альтернативу, призванную укрепить наши позиции. Наши, малыш, наши! А не их! Состоявшийся человек – будь он писателем, бизнесменом или врачом – всегда будет отстаивать, наши позиции. Бунтарство – удел параноиков, экспансивных бездарей или умных авантюристов, которые поняли, что нашими благами они смогут воспользоваться, лишь сбросив нас, а отнюдь не уповая на свои деловые либо интеллектуальные способности. Если бы вы были лауреатом премии Пулитцера или еще лучше – лауреатом Нобелевской премии, я бы с радостью напечатал вашу вещь, не тронув ни строчки. Это будет хорошая сенсация: один из наших восстал против нас. Значит, действительно кое-что следует переосмыслить. А сейчас некое ничто, научившись слагать литеры в слова, а слова в фразы, выступает против нас. А это уже пахнет жаждой крови тех, кто смог добиться чего-то в нашей жизни – своим трудом, ранами, горем.
– Вы что, не хотите меня напечатать?
– Почему? Я же сказал – если вы получите какую-нибудь премию, я напечатаю вас, не тронув ни строчки.
– При чем тут премия? – пожал плечами Эд.
– При том, что политика – это всегда союз нескольких сил, целенаправленных против иного союза сил. Союз предполагает равенство значимости. Я – это я. Я могу постоять за себя. А вы? Чем вы постоите за себя? Чем вы поддержите меня, если мы начнем драку? Мы с вами – против президента и тех сил, которые стоят за него? Зачем мне идти на заведомый проигрыш? Удар обрушится не на вас, написавшего, – мы живем, слава богу, в демократической стране, – а на меня, опубликовавшего это, – редактор ткнул пальцем в листки голубоватой бумаги, лежавшие на его округлых коленях. – Я это все говорю оттого, что добро к вам отношусь и не хочу вашего духовного краха. Политика – это игра равных, в противном случае это уже не политика – это бунт.
За поездку в Европу Эд был должен редакции полторы тысячи долларов. Он вернулся домой злым и растерянным. Сара сидела в ванной комнате возле большого зеркала и причесывалась. Он поцеловал ее в затылок и посмотрел в зеркало, устремив взгляд в свой взгляд. Сара сказала:
– Знаешь, Уолт сегодня сам ходил, без помочей.
Эд посмотрел в приотворенную дверь: малыш спал в кровати, раскрывшись. Его рыжие кудряшки прилипли к вискам – лето было очень знойным.
– Эд, – сказала Сара, кончив причесываться, – надо нам уехать в пригород, здесь жить невозможно: я очень боюсь за мальчика, такая жара… И тебе там будет спокойнее работать. Сейчас можно купить недорогой дом – возле Шерфелда. Мари написала мне, что там продается дом.
Он рассказал ей о том, как с ним говорил редактор.
– Не обращай внимания, – сказала Сара, – пиши то, что тебе хочется писать.
– То, что мне хотелось написать, я написал, но это не печатают.
– Сядь за повесть.
– Я могу сесть за повесть, если я знаю, какой она будет. Я сейчас не могу сесть за повесть, потому что ее нет у меня в голове. Я сейчас хочу опубликовать то, что я написал, это мой долг.
– Ну так опубликуй.
– Не публикуют, – усмехнулся он.
– Ну и не надо, – сказала Сара, обняв его. – Ну и пусть не печатают.
– А что мы будем есть? И как быть с недорогим коттеджем в пригороде?
– Ну, придумай что-нибудь…
– Что я могу придумать? Я ничего не могу придумать.
Он пошел к себе в кабинет, снял пиджак, бросил его на спинку кресла, развязал галстук. Рубашка прилипла к спине. «Надо надевать майку, – подумал он, – а то кажется, будто оплевали все лопатки». На столе, аккуратно скрепленные зажимом, лежали счета – за свет и от портного. Эд почесал затылок, бухнулся на тахту и стащил с себя мокрую рубашку. Вошла Сара. Она присела рядом с ним. На ней была коротенькая серая туника.
«Завтра поеду к Тому Маффи, – думал Эд, – он любит резкий и категоричный стиль. Его газета это может взять. Тогда я хотя бы расплачусь с долгом, тогда еще можно будет выкрутиться…»
Сара прилегла рядом с ним и стала целовать его плечи и грудь. Глаза ее были полузакрыты, а красивые пальцы сжимали шею Эда. Она знала, что он очень любил по ночам, когда она гладила его шею – сильно гладила своими длинными нежными пальцами.
– Подожди, Сара, – сказал он, отодвигаясь. – Откуда там счет на девяносто долларов?
Она открыла глаза и сразу же отодвинулась от него. А потом резко поднялась и, выходя из кабинета, сказала:
– Там же написано, милый. Прочти внимательно.
– Сара, – позвал он ее. – Сара!
Она не ответила. Он вздохнул и пошел в спальню. Она сидела возле спящего Уолта, накинув на себя длинный халат.
– Что ты? – спросил он.
– Ничего, – ответила она, – говори, пожалуйста, тише, мальчик еще должен спать полтора часа…
23.59
Машина теперь спускалась вниз – по узкому ущелью. Ветви огромных деревьев срослись над дорогой, и поэтому казалось, что путь шел через тоннель.
– Можешь включить фары, – сказал Ситонг, – все равно сверху не увидят.
Шофер врубил фары. Свет метался по громадным стволам диковинных деревьев. Несколько раз Степанов заметил вырезанные на коре большие сердца, пронзенные стрелами. Когда фары осветили еще одно сердце, Степанов попросил шофера остановиться. Он вылез из машины и подошел к дереву. Под сердцем были написаны инициалы и вырезана дата: «17 августа 1967 года».