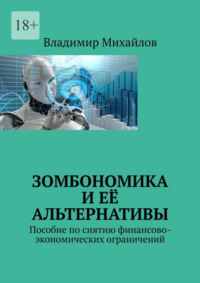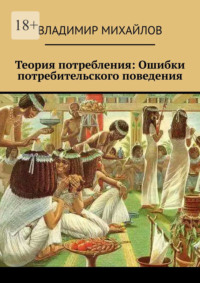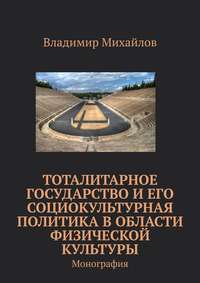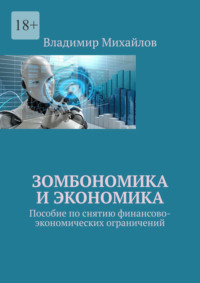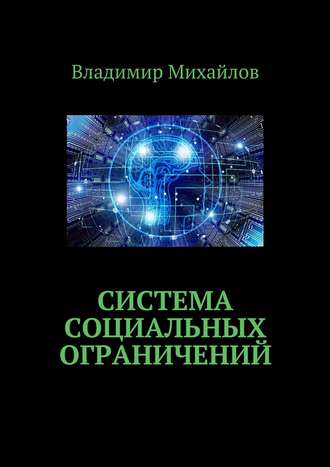
Полная версия
Система социальных ограничений
. Более того, , Получается, что Онтологический статус социальных ограничений таков, что они являются неотъемлемой принадлежностью, любого общества социальные ограничения фактически являются одним из системообразующих факторов общества социальные ограничения – атрибут нашего социального бытия и подобно этому бытию они различны, познаваемы, изменчивы. без наличия которого общество не может существовать.
Важным является и вопрос о наличии или отсутствии , который тесно переплетается с вопросом о наличии социальных законов вообще. Как известно, вопрос о наличии или отсутствии социальных законов является спорным. В Философском энциклопедическом словаре закон определяется как «категория, отображающая существенные, необходимые и повторяющиеся связи между явлениями реального мира» (415, с.194). Общественные законы согласно тому же словарю это «объективно существующая, повторяющаяся существенная связь явлений общественной жизни или этапов исторического процесса, характеризующая поступательное движение истории» (415, с.195). По мнению материалистов, люди не могут ни уничтожить, ни изменить или преобразовать законы, в том числе и социальные, которые действуют помимо их сознания и воли (наподобие Бога в религиях). «Измениться в зависимости от исторически различных условий может лишь форма, в которой эти законы прокладывают себе путь» (270-Т.32, с.461). Однако при дальнейшем разборе материалистического понимания социальных законов мы всё более и более входим в зону противоречий и парадоксов. законов функционирования социальных ограничений
«Законы природы реализуются и тогда, когда в их действие не вмешивается человек. В реализации же законов общественного развития обнаруживается своего рода парадокс. Сразу же подчеркнём, что речь идёт не о логическом парадоксе,… существующем только в нашей голове. Речь идёт о парадоксе реальном, возникающем в ходе исторической практики людей. С одной стороны, законы общественного развития… возникают, действуют и сходят со сцены независимо от воли и сознания людей. С другой же стороны, законы общественного развития реализуются только через деятельность людей. И там, где людей нет, или они есть, но ведут себя пассивно, … никакие социологические законы реализоваться не могут» (216, с.50—51), – писал С. Э. Крапивенский. Как известно, классические естественнонаучные законы характеризует воспроизводимость, повторяемость, независимость от личности исследователя. Исходя из данного С. Э. Крапивенским определения, по аналогии можно предположить: если я подкидываю камень, закон притяжения действует, а если сижу, сложа руки – не действует, и там где меня нет, закон тяготения тоже не действует. Но в таком случае, это , что противоречит данному выше их определению. не объективно, а субъективно существующая связь между явлениями
Марксист А. А. Зиновьев пытается разрешить эти следующим образом. Он утверждает, «что социальные законы суть законы сознательной и волевой деятельности людей, но они при этом не зависят от сознания и воли людей» (165, с.74). Тогда получается, что сознание и воля людей детерминированы этими законами. Однако, обходя это противоречие, А. А. Зиновьев утверждает, что «объективность социальных законов вовсе не означает, будто люди не могут совершать поступки, не считаясь с ними. Как раз наоборот, люди их обычно вообще не знают и постоянно игнорируют их, поступая так, как будто никаких таких законов нет» (165, с.75—76). Итак, свобода воли людей оказалась оправданной, но При этом, по мнению А. А. Зиновьева, люди часто нарушают и природные законы, расплачиваясь за это, что, их, однако, не отменяет. В качестве примера этот автор приводит объективный, независимый от воли и сознания людей социальный закон организации и успеха дела, в соответствие с которым у группы должен быть компетентный руководитель и адекватные делу члены группы. Если же этот закон проигнорировать, то группа успеха не достигнет. Однако и в случае соблюдения этого «закона» 100% гарантии успеха для группы нет – этому могут помешать внешние влияния, ошибки в оценке компетентности её членов и многое другое. А главное, этот , что тоже иногда бывает. Здесь и закрадывается подозрение, что «социальные законы» А. А. Зиновьева не законы, а просто . парадоксы логик Такие вот, оказывается странные эти социальные законы: вроде бы они и есть, да только почти никто и никогда их не выполняет, так что их с другой стороны как бы и нет. под вопрос опять попал объективный характер этих законов. «закон» будет работать, только если подлинная цель группы – достичь успеха в деле, а не какая-то иная правила целерациональной деятельности в обществе, зависящие, как и порядки в обществе, делающие именно их актуальными, от воли и сознания людей
Далее А. А. Зиновьев пишет, что в «реальности одновременно действуют различные законы» (165, с.77), и, игнорируя одни социальные законы, люди действуют в силу каких-то других. Но если число этих законов бесконечно (об этом вопросе автор умалчивает), то они фактически не действенны, ибо всегда можно переключиться с одного закона на другой, а также невоспроизводимы, непроверяемы, и . Далее автор утверждает, что социальные законы не тождественны необходимости, но при этом универсальны и «суть самые глубокие механизмы социальных явлений» (165, с.79). Именно эти объективные и неискоренимые в силу их объективности и независимости от воли людей законы – источник всех зол и бед человечества и помеха построению идеального общества. Таким образом, . Подобная «закольцованность» сознания, блуждающего по замкнутому кругу не может являться подходящей основой для исследований. Наука должна открывать и постигать новое знание, а не возвращаться по кругу к своей исходной точке без приращения знаний. Подобное «блуждание по кругу» является имитацией подлинного мышления и исследования. проявляющиеся через массу отклонений и нарушений (?) полностью непознаваемы пройдя через свободу воли людей в выборе этих «законов» и их несоответствие необходимости мы снова упираемся в детерминизм, с которого и начали их исследование
В целом концепция социальных законов А. А. Зиновьева представляется мне во многом надуманной и противоречивой. Задолго до А. А. Зиновьева В. Ф. Эрн писал: «Вещь, отрешённая от всех иррациональных моментов, может браться рационализмом лишь в узких пределах её механических свойств. Отсюда рационализм неизбежно исповедует: а) точку зрения не как метод только, но и как последнее объяснение космической жизни и b) связанный с этим универсальный » (483, с.291). В этой связи естественно задаться вопросом, насколько методологически грамотно и правомочно объяснять общество исходя из редукционистско-ограничительной механистической парадигмы, как это делает А. А. Зиновьев, при том, что ещё Ф. Энгельс наряду с механической формой движения выделял социальную? Конечно же, явления не следует объяснять исходя лишь из «узких пределов их механических свойств». , так как не расширяет, а суживает, ограничивает знание о мире, являясь . Редукционизм можно, на наш взгляд, даже квалифицировать как ложную методологию познания, практикуемую инквизиторско-полицейской лженаукой. механистическую детерминизм Редукционизм вообще не является методом познания методом создания невежества, а не знания и имитацией исследования чего бы ни было
Более серьёзную попытку обосновать наличие социальных законов представляют работы В. М. Бехтерева (48) и А. А. Давыдова (146). В. М. Бехтерев рассматривал законы общества как проявление коллективных рефлексов, как более сложный вариант физико-механистических законов. Он выводит 23 физико-механистических закона общества, которые, однако, оказываются общефизическими, а не чисто социальными. При этом возникают вопросы, насколько уместным является редукция общества к природе и даже , а также в системе В. М. Бехтерева? Ответов на них этот исследователь не даёт. А. А. Давыдов даже выводит математическую формулу «закона действий людей» (146, с.109). Однако в самом определении этого закона можно усмотреть логическое противоречие, так как . При этом А. А. Давыдов вводит в свою формулу такой трудно определяемый параметр как «количество людей желающих совершить свободное действие» (146, с.109). Однако аргументированные возражения против выведения подобных социологических законов ещё более 100 лет назад приводились С. Н. Булгаковым в работе «Философия хозяйства». Поэтому прежде чем писать книги, есть смысл хорошенько освоить уже накопленный культурный багаж человечества. С. Н. Булгаков в частности писал: «обуславливающая самое ее существование. Естественно поэтому, что свобода и творчество оказываются вне поля зрения социальной науки… Человеческая свобода, как творчество, вносит в социальную жизнь нечто совершенно , что нарушает постулируемое социологией единообразие и всеобщую типичность социальной жизни» (65, с.203). Можно согласиться с видением С. Н. Булгаковым социальных законов О. Конта, Г. Спенсера и К. Маркса, как фикций и абстракций, применимых лишь для характеристики совокупностей людей, , как равнодействующих индивидуальных фактов, физико-механическим взаимодействиям мёртвых тел каким образом регулируются противоположные и несовпадающие законы свободных действия подчинённые и ограниченные некой формулой в принципе уже не являются свободными Социальный детерминизм не есть вывод социальной науки, но ее методическая предпосылка, новое и индивидуальное но ничего не говорящих о каждой конкретной индивидуальной судьбе не предопределяющих, однако, этих фактов. 33
Другой методологический подход к решению этой проблемы предлагается в русской религиозной философии. 34
«В Царстве Божием , там . Наоборот, в душевно-материальном царстве, , и где новое расширение жизни достигается с величайшим трудом, Категории (выразимые в отвлечённых понятиях черты эмпирического характера) и выдвигаются на первый план в этом строении бытия. Поэтому (254, с.595), – писал Н. О. Лосский. Однако, как отмечает далее Н. О. Лосский, и вот почему: «Творческие акты, действительно, редко осуществляются в нашем царстве бытия и возникают, обыкновенно, при соучастии влияний среды, наталкивающих деятеля на новые пути поведения, которые усваиваются вслед за тем другими деятелями путём . Усматривая эти условия развития поведения, рефлексологи и вообще сторонники механистического мировоззрения воображают, что теории поведения, отвергающие …свободу воли, …и… значение сознания, правильны; однако… может только существо, деятельности и В этом динамическом волевом моменте поведения » (254, с.595—596). не мыслимы повторения одного и того же нет места для законов и правил в смысле однообразного повторения одних и тех же содержаний бытия где ставятся узкие цели одни и те же действия повторяются бесчисленное множество раз; чем ниже ступень развития деятеля, тем более проявления его оказываются правильно повторяющимися. получается видимость правоты детерминизма, утверждающего, будто содержание и течение событий в природе подчинено во всех деталях незыблемым, неотменимым законам» детерминисты заблуждаются они упускают из виду, что подхватить благодетельные указания случая и целесообразно использовать их для выработки новых деятельностей обладающее способностью поставившее себе цель… раньше того случая, который наталкивает на открытие и изобретение. кроется свобода, которой не замечают рефлексологи качества количества случайных подражания целестремительной 35 36
Получается, что . Чем чем шире его восприятие, чем больше у него целей, как способа снятия ограничений, непредсказуемого внесения нового, выходящего за пределы законов. Под духовностью здесь можно понимать не только её религиозную интерпретацию, но и то содержание, которое вкладывал в эту категорию Гегель. Категорию духа можно отождествить с внутренним, непространственным, нематериальным миром, в котором существуют сознание, творчество, ценности, цели, право, мораль и т. п. С этих позиций вести речь о социальных законах как минимум некорректно. детерминированность, то есть закономерность, подчинённость действию законов для деятеля (человека) обратно пропорциональна степени его духовности более духовен человек, тем больше случайностей он может заметить в мире и использовать для творчества
Однако, тотальный () материализм, утверждая наличие социальных законов, действует вполне последовательно и логично. Абсолютный детерминизм неизбежно следует из основной (бездоказательной установки) материализма о том, что всё есть материя, а духовные явления – лишь её «отражения» в другой материи. Если согласиться с этим, то получается, что никакой свободы духовный фактор не имеет. Однако здесь материализм впадает в противоречие. «Предпосылкой овладения силами природы с их причинами и следствиями является неподверженность нашего „я“ в его субстанциональной основе цепи причин и следствий. Иначе как могло бы „я“ рассматривать причины и следствия как объекты, если бы оно не было стоящим над ними субъектом? » (233, с.58), – отмечал С. А. Левицкий. , который с одной стороны утверждает историческую неизбежность и закономерность смены общественно-экономических формаций, а с другой стороны, требует активных действий, революции для реализации этого процесса. , а лишь смены одной общественной формации другой, которую На мой взгляд, это противоречие является всего лишь пропагандистской уловкой, предназначенной для убеждения (программирования) интеллектуально поверхностных людей с различными мировоззренческо-психологическими установками: на социальную активность и пассивность. Социально пассивных о неизбежности смены общественных формаций должен был подготовить и примирить с данной возможностью, социально активных же должна была вдохновить на борьбу обещающая победу революционная риторика. В данном случае создатели марксизма действовали в точном соответствии с теориями Г. Лебона, который, в частности, писал: «Чем более кратко утверждение, чем более оно лишено какой бы то ни было доказательности, тем более оно оказывает влияние на толпу» (231, с.240), (сегодня это называют информационно-психологическими вирусами – мемами). Поэтому серьёзно воспринимать теорию социальных законов со стороны данного идеологического учения не приходится: его социальные законы больше похожи на придуманные авторами идеологии целерациональные установки и алгоритмы действий, предназначенные для достижения массами поставленных идеологами целей и социальных результатов. Фактическая (причем, это имеет место далеко не только в марксизме). или полицейско-инквизиторский аксиомы Наше „я“ не могло бы сознавать законов природы и овладевать ими, если бы оно было лишь частью природы Материализм же утверждает не только наличие подобных законов, но и возможность их познания и использования. Это противоречие хорошо проявилось в марксизме Утверждая необходимость революционной борьбы и социалистической революции, марксизм имплицитно признаёт, что существует не закон тенденция следует активизировать и реализовать путем практических действий в соответствии со своим свободным выбором. миф мнения и верования в которой распространяются не путём рассуждений, а путём заразы цель подобных придуманных социальных законов состоит в скрытом (манипулятивном) принуждении тех, кто в них поверит к определённому социальному поведению
Но действительность опровергает действенность подобных «законов» и прочих надуманных схем. «Фактическую сторону русской истории мы знаем очень плохо – плохо знают её профессора русской истории. Это происходит по той довольно ясной причине, что именно профессора русской истории рассматривали эту историю с точки зрения западноевропейских . Оценка же русской истории с точки зрения этих шаблонов правильна в такой же степени, как если бы мы стали оценивать деятельность Менделеева с точки зрения его голосовых связок» (369, с.21—22), – писал И. Л. Солоневич. Он же указывает и на печальные результаты излишней доверчивости к литературным, философским, научным и прочим надуманным схемам, законам и шаблонам: «А. Розенберг по своему образованию был типичным русским интеллигентом… и русскую историческую литературу знал лучше, чем знаем мы с вами. Он сделал из нее те логически правильные выводы, которые и привели его на виселицу» (369, с.29) (речь идет здесь о вере Розенберга в неспособность русских к эффективному сопротивлению военной агрессии, сделанную на основании анализа поведения Печорина, Чатского, Платона Каратаева, Обломова и прочих подобных литературных персонажей, и его неспособности понять истинную логику поведения русских и российской истории). в особенности шаблонов
В действительности, , как ошибочно полагал (или проповедовал) Б. Спиноза. Если бы это было так, «то мы тем более теряли бы свободу, чем более познавали и схватывали цепи причинностей. А (88, с.53). То есть изучения закономерностей заключается в свободе овладения ими, на что и нацелена подлинная наука (а не её полицейско-инквизиторский симулякр). и начинает действовать тезис идеализма: «сознание определяет бытие», дух формирует материю» (88, с.61), – писал Б. П. Вышеславцев. То есть, отвергающего по выражению В. И. Ленина, «вздорную побасенку о свободе воли». В своём социальном аспекте во избежание выхода подчинённых из подчинения им и придуманным ими законам, которые маскируются то под «божественные установления», то под незыблемые «законы природы» ради сокрытия их истинного авторства. смысл изучения и выявления законов состоит не в фатальном подчинении им и не в уничтожении иллюзии свободы на самом деле происходит… обратное: чем более мы познаём и охватываем цепи причинностей, тем более мы получаем возможности властвовать над ними, тем более возрастает и расширяется наша свобода, ибо «сколько кто знает – столько тот может» смысл «С того момента, как сознание начинает оценивать, ставить себе цели и их осуществлять, покидается почва материализма подчинённость социальным и даже природным законам есть следствие и признак пассивности и невежества, материализм распознаётся как идеология подчинённых, закономерно распространяемая вождями 37
, которые действительно существуют объективно, независимо от сознания членов общества, отражают существенные, необходимые связи между социальными явлениями, но при этом . Это означает, что тождественных естественнонаучным социальных законов не существует. Существуют лишь различные социальные тенденции, обусловленные целерациональной (идеорациональной, ценностнорациональной – М. Вебер) и хаотической социальной деятельностью индивидов и групп, влиянием на общество внешних факторов (природы, космоса, других обществ) и его собственной духовной и материальной культурой. В отличие от естественнонаучных законов, Выбор той или иной тенденции и её реализация обусловлены уровнем знаний, умений, активностью, целями и произволом (свободой воли) отдельных личностей и групп. Исходя из этого, устанавливаются самими людьми и действуют только в случае их устойчивого исполнения большинством членов общества социальные тенденции не имеют столь чёткой воспроизводимости и повторяемости, не дают возможности для точных прогнозов и предсказаний. социальные законы можно сравнить с правовыми нормами, действующими в обществе
, в частности, посредством захвата идеологической, политической и экономической власти, а . Оказывается, даже «Маркс провозглашает, что… и Труд и Капитал – становятся не просто игрушками в руках объективной логики истории, но сознательными и самостоятельными ее субъектами, способными не только подчиняться необходимости, но и управлять важнейшими историческими процессами, предуготовлять их, провоцировать, проектировать, утверждать свою автономную волю. Речь идет не об индивидуальном или групповом, но о » (149-Т.1, с.21). Исходя из этого представления можно, например, разрешить давний чем выше их абсолютный и (или) относительный уровни развития и активности (и чем невежественнее и пассивнее их оппоненты), тем значительнее должна быть их роль в истории. Но это лишь тенденция, которая может осуществиться, а может и не осуществиться в силу возможного вмешательства различных иных, социальных и внесоциальных влияний, а не абсолютный и повторяющийся закон. , или свободному выбору масс, например. Духовно развитые и активные личности или группы получают в этой ситуации возможности самостоятельного формирования желательных им социальных тенденций классовом субъекте спор о роли личности и народных масс в истории: Множество развитых и активных личностей и групп никак не повлияли на историю, потому что их деятельность противоречила другим социальным или природным тенденциям невежественные и инертные массы становятся жертвами и исполнителями созданных господствующими группами «социальных законов»
Столь же трудно прогнозируемыми из-за наличия у социальных деятелей свободы воли (помимо сложности социального организма) являются и результаты природных влияний на общество. Так, астрологические прогнозы часто не сбываются не потому, что астрология в принципе является лженаукой (хотя астрологи могут быть коррумпированы, ошибаться и их методы могут быть несовершенны), и не потому, что исследуемые ими влияния слишком слабы – А. Л. Чижевский доказал обратное (См. 449) С другой стороны, многие древние общества тщательно ориентировались в своей деятельности на природно-космические ритмы не только потому, что по сравнению с современной цивилизацией якобы больше зависели от природы, а потому, что пытались так использовать природу максимально эффективным для себя образом, «поймать нужную волну», не разрушая её. Мировоззрение и сознание этих обществ также существенно отличалось от современного (точнее – техногенно-материалистического). В природе они видели циклы, имеющие начало и конец; вписываясь в эти циклы, они получали возможность периодически уничтожать своё не нужное более прошлое, творить свою историю заново, становясь лучше. Это избавляло древних от подчинённости своему прошлому и вождям, что характерно для живущих в линейном времени наших современников, отмечал М. Элиаде (См. 479). Несложно догадаться, что и «социальные законы» были в древних обществах иными. И эти законы не ушли в прошлое и не исчезали: по ним и сегодня живут «коренные народы Земли» (Друнвало Мельхиседек). , а, прежде всего, потому, что реакции свободно волящего социального деятеля могут быть и, скорее всего, будут разными при сходных космических влияниях. 38
Против наличия социальных законов выдвигалось также следующее возражение: «Иногда говорят, что история повторяется. На наш взгляд это в корне ошибочное мнение, ибо в мире нет ни двух людей, ни двух событий, которые были бы абсолютно идентичны» (101-№7, с.181), ибо, в таком случае, они попросту сливались бы в одно событие, или человека. «Повторяемость идентичных возможностей заключает в себе некое противоречие, а именно идею об ограниченности всеобщей и универсальной возможности… Существует также прямо противоположное, хотя и не менее ошибочное мнение, согласно которому все исторические факты рассматриваются как не имеющие ничего общего и абсолютно не схожие между собой. (101-№7, с.181). Процитированный автор (Рене Генон) не отрицает наличия универсальных законов, проявляющихся в различных обстоятельствах в природе и обществе, но не отстаивает и наличие неких особых социальных законов. Тем не менее, . Это не означает, однако, что не следует изучать и формулировать различные социальные «законы» (См. напр. 332), но относиться к действенности этих «законов» следует исходя из вышеизложенной ограниченности их действия. Истина как обычно находится где-то посередине: всегда есть сходство в одном отношении и отличие в другом» отсутствие буквальной повторяемости социальных явлений опровергает идею социальных законов, постулирующую чёткую повторяемость и воспроизводимость идентичных событий Для активно мыслящих и действующих личностей и социальных групп любой социальный «закон» может оказаться фикцией.
Как можно вывести из приведённых примеров, , позволяя объяснить необъяснимое детерминизмом и снять его противоречия. Проясняется и методологическая несостоятельность материалистического детерминизма в исследовании социальных ограничений. Действительно, . С точки зрения детерминизма социальные ограничения – это некая данность, пассивно воспроизводимая сознанием, а потому неизменяемая и не исследуемая. Если сознание есть отражение социальных ограничений, то оно само, следовательно, социально ограничено, само есть то, что подлежит осмыслению и изучению. Такое сознание можно сравнить со слепым исследующим слепоту, однако, чтобы понять и оценить нечто, надо видеть и его альтернативы, или хотя бы умозрительно представлять их в воображении. Индетерминистский подход к проблеме ограничений позволяет это сделать. методологический отказ от детерминистско-материалистической системы объяснения социальных явлений имеет значительную эвристическую ценность если сознание есть лишь отражение одной материи в другой материи, то оно не может ни осознавать, ни исследовать отражаемого, также как зеркало не исследует отражённого в нём