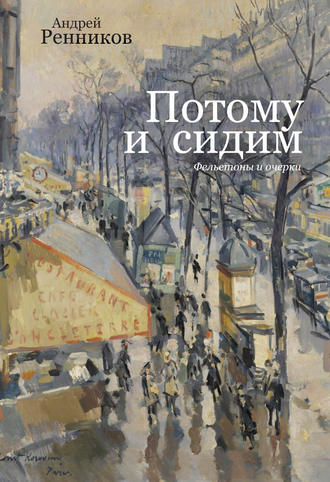
Полная версия
Потому и сидим (сборник)
«Сусидоньки, мы поки ще хранцузи!»
Так кто же гарантирует, что не может случиться обратное? что L.– V. Francois, – поки що не хранцуз, а чистокровный юкр, сусед Остряницы?
«Возрождение», рубрика «Маленький фельетон», Париж, 9 августа 1928, № 1164, с. 2.
Куроводство
Награждение Н. А. Асса орденом Почетного Легиона за образцовое куроводство вызывает во всех нас, русских, приятное удовлетворение и даже гордость.
И здесь наша взяла!
Наверно, начал Н. А. Асс по-беженски: с одного только яичка, как Будда, и создал из него целый мир в три тысячи кур.
Не даром же в биологии существовал принцип omne vivum ex ovo[143].
Это про наших куроводов сказано.
Гордясь фермой Н. А. Асса и проявляя в своих восторгах зоологический национализм, я, все-таки, не могу скрыть одного нехорошего чувства:
Черной зависти к тем, кто преуспевает на этом тяжелом поприще!
Ведь, я тоже недавно был куроводом. Тоже старался. А что получилось?
Не выносят ли куры одного моего вида, или просто не уживаемся мы с ними на одной планете, но почему-то все они дохнут.
Даже мистическое что-то в этом есть. Если я здоров и ухаживаю за ними, они заболевают. Если, наоборот, я не здоров и лежу в постели, они без меня вылезают во двор, поправляются.
А так как я болею сравнительно редко, то болеют преимущественно они. Болеют, чахнут, худеют и под конец уходят в лучший мир.
Н. А. Асс, быть может, скажет, что я просто не умею смотреть за птицей. Но в том то и дело, что начал я куроводство не один, а под руководством Евгении Дмитриевны. Евгения Дмитриевна из пятилетнего опыта отлично знает, когда кур сажать на яйца, когда поливать, когда унаваживать и как подрезать перья, чтобы все соки шли на несение яиц.
Купил я кур, конечно, в расчете на заработок. Знающие беженцы уверяют, что первые пять экземпляров всегда смело могут жить на те отбросы, которые остаются после обеда. Вторые пять экземпляров могут тоже смело жить, отбивая еду у первой пятерки. Третьи же пять требуют кое-каких расходов, но совершенно ничтожных. Немного зерна, немного хлеба, а остальное найдут сами: здесь червяк, там стрекоза, муравей, скорпион, тарантул, крот…
Для дачной жизни, в которой встречаются сороконожки, это совсем даже удобно. Съедят начисто.
А доход, как мне говорили, определенный: пять кур – по двадцать – сто франков. Петух – тридцать. Сто тридцать. А яйца в геометрической прогрессии. Через полгода окупают расходы, через год окупают доходы. А годиков через пять, через шесть, оглянуться не успеешь – уже ферма есть. Собственный домик в два этажа вырос. Землицы пять акров.
Как же не попробовать? Не рискнуть отбросами от обеда?
Сначала, до кур, были у меня кролики. Правда, всего два, но совершенно живые. Про них тоже мне говорили, что сии могут смело жить на то, что остается в хозяйстве. Но почему-то кролики смело жили только шесть месяцев. Но седьмой месяц смелость прошла, на восьмой на обоих напало уныние – слегли, а на девятый я подарил их соседу французу.
Возня страшная, а приплоду никакого. Оба оказались дамами и не желали размножатся ни почкованием, ни делением.
А в еде были капризны, как институтки. Борща, оставшегося после обеда, не ели; котлет, оставшихся после обеда, не ели. Даже от мороженого и то всегда морды воротили.
Кур я купил всего три экземпляра. Петуха – одного. Но все были рослые, крупные, очевидно, породистые. Одна курица, наверно, кохинхинка: без хвоста, в некоторых местах лысая, но зато в других густо-шерстистая. Петух, тоже породистый, должно быть, из Индии. Брамапутровец, как я думаю: один глаз красный, другой желтый, а гребешок надорванный. В Калькутте, говорят, такие петухи не только смело живут, но первые призы берут даже.
Окружил я всех их, по совету Евгении Дмитриевны, заборчиком из сетки, чтобы в сад не лазили, выстроил маленький домик с насестами и начал присматривать.
Месяц прошел – не несется никто.
Второй месяц прошел – не несется никто.
– Господа, – стоя за решеткой начал укоризненно убеждать я. – Это же свинство! Эго же вам не монастырь!
Затем, наконец, на третий месяц – слышу из окна – кохинхинка кудахчет. Как сейчас помню день: пасмурно было, дождичек шел, 16 марта по новому стилю, а по-старому – третье.
– Ура!
Созвал я всех домашних, пригласил Евгению Дмитриевну, окружили мы кохинхинку и ну сажать на яйцо. Тычем подальше, под самый корпус, чтоб какой-нибудь бок у яйца, упаси Боже, не простудить. А кохинхинка встает, отбивается.
– Придавите ее, – говорю, – чем-нибудь! Давайте доску! Тащите поскорей ящик!
Прикрыл я ее ящиком, сверху камень навалил, чтобы поднять нельзя было. И начал ждать. А остальные две курицы ходят вокруг, с удивлением поглядывают. Петух остановился сбоку, растопырил ноги, задрал голову, весь трясется:
– Ка-ка-ра-ра!
Не буду говорить, как извели меня, в конце концов, эти проклятые птицы. Расчесываю их частым гребнем, чтобы блох выловить, а они – скандал на весь сад. Привязываю на ночь веревкой к крыше, чтобы во сне с насеста кто-нибудь не свалился – засыпать не желают. Подрезываю перья, чтобы плодоношение увеличить – поднимают вой, гоготанье.
И в день кукурузы на пять франков.
Очевидно, у Н. А. Асса особая удача, что у него – 8.000 кур, и все приносят доход. Но я навсегда бросил это ужасное дело, когда кохинхинка скончалась под ящиком, и решил взяться за огород.
Знай, себе, ходи, поливай, а оно – растет. Без всякого шума, без крика, а главное – без психологии.
«Возрождение», рубрика «Маленький фельетон», Париж, 11 августа 1928, № 1166, с. 2.
Эмигрантские праздники
Встретил на днях Пампушкина. Одного из видных общественных деятелей.
Жестикуляция – нервная. В лице – радость. Глаза горят.
– Что с вами, Петр Иванович?
– Да, вот, идея в голову, голубчик, пришла, идея. Грандиозный план разрабатываю.
– А что?
После краткого вступления, включавшего в себя историю революции, славную деятельность Временного правительства, ошибки Добровольческой армии и работу эмигрантских учреждений за восемь лет, Пампушкин объяснил, наконец, в чем дело.
– Через полтора года, дорогой мой, как вы знаете, исполнится ровно десять лет с начала первых эвакуаций… Вы понимаете сами, что такая дата не может остаться не отмеченной, так как десятилетия вообще не часто бывают. И, вот, я придумал: учредить по этому случаю комитет для подготовки юбилейного праздника во всеэмигрантском масштабе.
– Праздника? – испуганно переспросил я. – В годовщину эвакуаций?
– Да, именно – эвакуаций. То есть, если хотите, не праздника, а, так сказать, юбилейных торжеств. Мы должны показать, что сделали за десять лет мирового рассеяния: как устроились среди иностранцев, как организовали свою культурную жизнь, каких достижений добились в области литературы, искусства, науки, торговли, техники… Конечно, нужно к этим дням в местах скопления беженцев открыть русские выставки, устроить ряд концертов, балов, заседаний, лекций с волшебным фонарем, еще лучше с кино… И если организовать все это умело, и заинтересовать иностранцев, и добиться того, чтобы об этом в России тоже узнали, то получится такое впечатление, что, кто знает, может быть, большевики дрогнут под влиянием общественного мнения и начнут, наконец, эволюционировать в сторону демократизма на западноевропейских началах.
– Так, так… А, как вы думаете назвать торжественный юбилей, Петр Иванович?
– Как назвать? Как хотите… Можно так: «Праздник русского рассеяния». Или «Светлая годовщина бежавших». Или: «Праздник ожидания эволюции»… Мало ли удачных названий! А патроном торжества, конечно, возьмем, как и для дней русской культуры, Александра Сергеевича Пушкина. Всем известно, что Пушкин тоже подвергался со стороны самодержавия гонениям и даже бывал до некоторой степени беженцем, когда ссылался в Екатеринослав, в Бессарабию, на Кавказ…
Долго и подробно развивал передо мной свою идею Пампушкин. Объяснил, как технически сделать так чтобы все эмигранты в Австралии, Южной Америке и в Центральной Африке приобщились к светлой годовщине. Указал, что на организацию дела достаточно, если все два миллиона эмигрантов внесут только по пяти франков… И когда Пампушкин ушел, я долго обдумывал детали проекта, старался разгадать, какое отношение имеет Пушкин к эвакуации, почему годовщина должна быть именно праздником, а не днем печали и скорби, почему балы и концерты, – когда всем пришлось спешно бежать…
И, вдруг, меня осенила тоже идея:
А не устраивать ли нам каждый год, в определенный день, помимо утешительного Дня русской культуры, хотя и далеко не утешительный, но чрезвычайно полезный «День русской некультурности»?
Пусть «день культуры» будет говорить о нашем русском таланте, о нашей высоте, о нашей силе, о нашем национальном бессмертии.
Пусть у этого дня патроном останется Пушкин.
Но «День русской некультурности» будет служит предыдущему дню прекрасным коррективом. Будет говорить не о достижениях, а о поражениях, не о силе, а о дряблости, не о величии, а о мелочности…
И пусть патроном такого дня будет Пампушкин.
В эти торжественные дни русской некультурности, тоже смело можно устраивать доклады, лекции, концерты, балы.
И делать программы такими разнообразными, что никому не будет скучно.
В три часа дня, например, торжественное заседание в зале Сорбонны. Доклады и лекции:
Председатель И. И. Пампушкин: «Что такое праздники и как их выдумывать?»
И. И. Иванов: «Почему я ругаю каждую страну, в которой живу?»
А. Ф. Сиво-Меренский: «Самовлюбленность, как наилучшее качество для управления государством».
Профессор П. Н. Маниовеликов: «Черты моего характера, благодаря которым я ни с кем не блокируюсь, кроме своих учеников».
Общественный деятель П. П. Петров: «Искусство спорить до хрипоты и до поздней ночи, или эристика».
Журналист И. Испанейс: «Клевета в печати, как приближение к светлому будущему».
А вечером в Трокадеро концерт:
«Блоха! Ха-ха!», исполнит г. Сидоров.
«Эй, дубинушка, ухнем!..» дуэт, исполнят гг. Дубинин и Палкин.
«Стенька Разин», исп. г-жа Иванчикова.
«Светлый образ Иуды», рассказ, прочтет автор г. Пунцлов.
В заключение, хор цыган: «Мы не можем жить без шампанского» и проч.
«Возрождение», рубрика «Маленький фельетон», Париж, 15 августа 1928, № 1170, с. 2.
Кухарка
Поистине, грустная история…
Написал мне мой приятель из Ниццы: «Дорогой, имя рек. Ради Бога, сделай одолжение. Жена моя рассчитала Марью Ивановну и теперь ищет новую кухарку, но обязательно неинтеллигентную. Ты представить себе не можешь, как намучились мы с этой Марьей Ивановной. Не говорю уже о том, что мне приходилось самому чистить башмаки и топить камины, а жене мыть посуду. Неловко было заставлять делать все это хрупкую интеллигентную женщину, да еще такую, у которой мы подолгу гостили в ее великолепном орловском имении. Однако в последнее время мы оба окончательно изнемогли. Когда Марья Ивановна по вечерам идет на концерт или в гости, мы оба спешно гладим ей платье, комбинезон, поднимаем петли на чулках. А на ночь я или жена, должны у ее постели читать вслух романы: глаза у Марьи Ивановны слабые, а засыпать без чтения она не привыкла. Родной мой, дай в газету объявление, что в Ниццу требуется совершенно неинтеллигентная кухарка. Может быть, хоть у вас в Париже найдется такая. У нас, увы, русских женщин с образованием ниже Бестужевских курсов нет».
Перечитал я письмо приятеля, вздохнул, и сдал объявление: «В инт. семью в Ницце спешно треб. кухарка, умеющ. гот., стир., глад., почин, б., чист. башм., мыть пос., и проч. Дор. оплач. Обязат. условие – полная неинтеллигентность».
Указал я в объявлении часы приема, адрес и с горьким чувством стал ждать. И без чужих поручений жизнь не сладка, а тут изволь возиться с таким щекотливым делом:
– Можно войтить?
– Пожалуйста.
В узкую дверь моей комнаты втиснулась полная женщина, повязанная цветным платочком, держа какой-то сверток в руке. Лицо женщины было ярко румяным, брови густо-черные, платье в пестрых разводах!.. Казалось, что настоящая жизнерадостная малявинская баба сошла с полотна, заполнила своей черноземностью серый пейзаж унылой французской квартиры.
Платье было только короткое. Да чулочки телесные, шелковые. Но что поделаешь? И до них, как известно, докатывается проклятая мода.
– Здрасьте!
Она в знак приветствия высоко подняла руку, опустила, сама низко склонилась, пригнув корпус к полу.
– Добрый день, гой еси добрый молодец! – протяжно, приятным грудным голосом, добавила она.
– Вы по объявлению, сударыня? – внимательно всматриваясь в неинтеллигентную бабу, подозрительно спросил я.
– Вестимо по объявлению, родимый. Вестимо. Люди добрые сказывали, што кухарка вам требуется, так, я, значит, тово… Могу и обед сготовить, и белье постирать, и все прочее такое. Антиллигентности во мне никакой, самы мы простые, рязанские. А муж мой тот казак, на заводе у Рена служит.
Она вздохнула, пoлезла рукой в черную сумочку, достала оттуда горсть подсолнечных семечек, громко начала щелкать.
– Так-с, хорошо… – осторожно обходя бабу и оглядывая ее со всех сторон, произнес я. – Значит, вы рязанская?… Люблю я, знаете, рязанскую губернию. Простор, ширь… Небось, самой приходилось и пахать, и сеять?
– А как же. Вестимо, родной, приходилось. Вестимо. Запряжешь, бывало, Сивку-Бурку, вещую Каурку, и пойдешь с ней белить железо о сырую землю. А вокруг благодать-то какая! Благодать! Красавица зорька в небе загорелась, из большого леса солнышко выходит.
– Графиня! – подойдя вплотную к посетительнице, – строго заговорил я. – Бросьте ваши штучки.
– Чаво?
– Графиня! Вы же читали, что требуется обязательно неинтеллигентная. Зачем вы пришли?
– Я? – удивленно посмотрела на меня женщина. – А чаво этаво? Хде графиня?
Она побледнела, обернулась, осмотрелась вокруг.
– Нет, нет, вы не смотрите туда, – твердо продолжал я. – Слава Богу, у меня на лица хорошая память. Я отлично помню, как вы продавали мне шампанское на благотворительном вечере в зале Гужон.
Она посмотрела на меня, разочарованно бросила семечки в сумку.
– Да, верно, продавала, – грустно произнесла она, снимая с головы платок и доставая из свертка маленькую модную шляпку. – Как обидно! Только странные все-таки эти ваши ниццские буржуи. Разве не все равно им, кто я такая? Напрасно платок пришлось купить и потратиться на семена турнесоли…
Сухо кинув «бонжур, мсье», она круто повернулась, вышла. А через полчаса в дверь опять постучали.
– Можно?
На этот раз все было на чистоту. Явилась скромная барышня и стала уверять, что, хотя она и кончила гимназию, но все забыла: и чему равняется сумма углов в треугольнике, и что такое «пи», и куда впадает Амазонка, и кто написал «Недоросля». Долго и настойчиво убеждала она, что между интеллигентками и неинтеллигентными людьми разницы никакой нет, так как сейчас везде всеобщее избирательное право, и что теперь даже рабочие бывают министрами. Но я твердо стоял на своем. Приятелю нужен был не министр, а кухарка, и я не мог превысить своих полномочий.
Только через неделю, отказав чуть ли не двадцати просительницам, я остановил свой выбор на скромной симпатичной старушке, которую прислал ко мне один добрый знакомый. У старушки лицо было обветренное, морщинистое, на подбородке от старости росла седая щетинка, голос был хриплый, грубоватый, и когда старуха говорила, то к каждой фразе всегда прибавляла «тае».
Купил я кухарке билет, усадил в поезд, дал на дорогу аванс, чтобы окупить расходы до прибытия в Ниццу. И через две недели получаю от друга письмо:
«Дорогой, имя рек. Спешу сообщить тебе, что с кухаркой вышло недоразумение, кончившееся, однако, к общему благополучию обеих сторон. Как оказалось, твоя старушка вовсе не старушка, а генерал от инфантерии, очень милый, культурный и обязательный человек. Все свои обязанности в течение дня он исполняет с поразительной добросовестностью и аккуратностью, а по вечерам мы вместе с ним и с Евгением Николаевичем, садимся за стол и играем в бридж. Большое спасибо тебе, дорогой, за услугу. Если понадобится что-нибудь в Ницце, напиши. Тоже исполню в точности».
«Возрождение», рубрика «Маленький фельетон», Париж, 18 августа 1928, № 1173, с. 2[144].
Митины афоризмы и сентенции
Когда я сделаюсь большим, обязательно стану генералом, как папа. Тогда мне дадут красное такси, же-сет[145], и я буду шофером.
* * *Бедный Михаил Иванович! Никогда не пьет чаю, одно только кофе. A клиенты каждый день дают ему или двадцать или двадцать пять франков на чай. Что делать c этими деньгами?
* * *Папа говорит, что в детстве всегда мечтал быть извозчиком и что только теперь, в Париже, достиг своего.
Счастливец! Повезет ли мне, как ему?
* * *Петр Федорович хвастается, что в детстве, когда еще не было большевиков, три раза бегал из России в Америку без папы и без мамы.
Сумасшедший дурак!
* * *Говорят: ученье свет, а неученье – тьма. А штепсель, в таком случае, на что?
* * *Взрослые любят прибавлять к своей фамилии всякие лишние названия: присяжный поверенный, полковник, прокурор, княгиня, графиня. Может быть, для того, чтобы не спутать, кто чей муж и кто чья жена?
Не понимаю.
* * *Мама часто говорит папе, что он опускается и теряет культурный вид.
Это правда. Вчера собрались идти в синема и долго ждали Михаила Ивановича. Тогда папа говорит: «Ну, идем. Семеро одного не ждут». А я потихоньку сосчитал, и оказалось пять, а не семь.
Бедный! До десяти считать разучился.
* * *Я очень люблю, когда к нам приходят гости. Только отчего они ничего не платят маме, что она после них моет посуду?
Дядя Ваня, когда быль плонжером, всегда получал.
* * *Узнал, наконец, какая разница между княгиней и графиней. Княгиня это та, которая вышивает рубашки, а графиня та, которая рубашки продает.
А вот про присяжного поверенного не могу узнать, как следует. Марья Ивановна объяснила, что присяжный поверенный это человек, который всегда спорит с прокурором. Но тогда консьержка тоже присяжный поверенный. Ведь, Петр Петрович прокурор?
* * *A Марья Ивановна иногда здорово выдумывает. Говорит, что она сиделка. Разве беженка может быть сиделкой? Нельзя сидеть и бежать в одно время.
* * *Поднимались на днях с папой на самый верх Эйфелевой башни. Очень красиво. Спросил папу, нельзя ли отсюда увидеть Россию. Папа говорит: «Чтобы увидеть Россию, русскому человеку нужно подняться значительно выше». A как подняться, если башня кончается?
Вечером, когда ложился спать, догадался: нужно, наверное, чтобы все русские перестали быть беженцами и сделались летчиками.
* * *А Россию я очень люблю. Она, должно быть, огромная, великая. Если через одну речку Днепр, как читала мама, птица не перелетит, то сколько птиц надо, чтобы перелететь от края России до края?
Москва, наверное, такой большой город, что ни одно метро до конца не доходит. И автобусы идут, идут, ломают колеса, а не доезжают. В такси, чтобы проехать от московской Порт Сен-Клу до плас Конкорд, десять тысяч франков заплатить нужно и две тысячи на чай. А дома все, как Эйфелевы башни, только не в одиночку, а рядом. В каждом доме, у входа, сто консьержек внизу, целый пансион. Ассансер поднимается, поднимается и, чтобы скучно не было, кровати стоят, если спать захочется. И кругом все такое особенное… Крестьяне торжествуют, засевают поля маками и васильками, маки – как бочки, васильки – как деревья. Небо синее, синее, леса зеленые, зеленые, наверху – не одно солнце, а два, не одна луна, а три, звезд ночью в сто раз больше – сверкают, как вывески… И люди ходят одни только русские, все родственники, знакомые. Генералы публику везут, присяжные поверенные с заводов идут, прокуроры дошивают башмаки, туфельки. А крестьяне танцуют, взявшись за руки, и поют хором: «аллон з-анфан де ла патри![146]»
Боженька, скажи прямо: когда увижу Россию?
«Возрождение», рубрика «Маленький фельетон», Париж, 10 декабря 1928, № 1287, с. 2.
Из мира неясного
Нас собралось в Сочельник всего только трое. Однако, так как моя беженская комната по размерам очень скромна, то собрание сразу же вышло людным. На деревянной полке возле кровати уютно стоял рукомойник с воткнутой в него хвойной веткой. Это была елка. На небольшом столике, со сдвинутыми в сторону рукописями, лежали тарелки с компотом и рисовой кашей. Это были кутья, взвар. И, наконец, в углу, где растопырилось обитое ситцем хозяйкино кресло, таинственно дымила железная печь. Это был рождественский камин.
– Хорошо! – сидя после ужина на стуле и приятно жмурясь, протянул я скрючившиеся пальцы к огню. – Теперь бы, господа, по чашке кофе, ликера, святочных рассказов. Николай Николаевич, хотите чаю?
Николай Николаевич молча сидел на почетном месте в хозяйском кресле и загадочно смотрел на нас, когда мы с Владимиром Ивановичем приступили к воспоминаниям о всех таинственных случаях из далекого прошлого. Правда, моя прежняя жизнь, до воплощения в эмигранта, не особенно богата таинственностью. Около десятка небольших совпадений, три вещих сна, из которых два, к сожалению, не оправдались, одно привидение, виденное мною в имении у тетки в Тамбовской губернии…
И все. Но зато у Владимира Ивановича и прошлая и нынешняя жизнь – не жизнь, а сплошной спиритический сеанс.
– Николай Николаевич, – заметив, что после рассказа о восемнадцатом привидении Владимир Иванович значительно обессилел и тяжело стал дышать, обратился я к загадочно молчавшему нашему другу. – А как у вас? Были случаи?
– Нет!
Он сказал «нет». Но сказал это с такой болью в голосе, что мы оба сразу насторожились. Что случилось? Отчего такое странное «нет»? Не хранит ли Николай Николаевич в своей душе гнетущую тайну?
Уговаривать пришлось долго и много. Но, к счастью, наступила полночь. В соседней комнате хозяйские часы таинственно пробили двенадцать…
И Николай Николаевич сдался.
– Что касается привидений и духов, господа, – задумчиво начал он, размешивая ложкой сахар, – то должен сознаться: в этой области мне всегда не везло, хотя в душе своей я большой мистик, а по убеждениям ярый спирит. Могу сказать, что не только целого призрака, но даже небольшой материализованной руки или ноги – и то мне ни разу не удалось где-либо увидеть. На спиритических сеансах, когда начинаются стуки, первые слова почему-то всегда обидно направлены против меня. «Пусть он уберется», или «гоните его в шею», – вот обычные приветствия по моему адресу, на которые я даже перестал, в конце концов, обижаться. Из всех духов ко мне прилично относился только один Николай Кузанский, который говорил, обыкновенно, деликатно и вежливо: «Дорогой тезка, покинь сейчас же сеанс». Все же остальные, в особенности полководцы, непристойно грубы и несдержанны. Александру Македонскому, например, я никогда не забуду его оскорбительных выпадов в присутствии дам. А Наполеон… Впрочем, сами знаете: De mortuis[147]… Черт с ним, с Наполеоном! Не в этом дело, конечно.
Патентованные медиумы тоже сильно недолюбливали меня. В Петербурге, например, нередко проводил я время в волосолечебнице на Невском, где знаменитый Гузик давал сеансы со своим материализованным медвежонком. И каждый раз, когда я приходил, Гузик хмурился, брался за голову:
– Сегодня не выйдет.
И, действительно, не выходило. Как ни старалась сидевшая возле меня генеральша громко петь «Вдоль да по речке, вдоль да по Казанке», как ни пытались подтягивать ей директор департамента и член совета министра внутренних дел – все напрасно. Выскакивавшая из-за занавески гитара, которой полагалось за десять рублей самой играть на себе, при виде меня замирала на первом аккорде, беспомощно валилась на пол. Детская дудочка, обязанная тоже по мере сил издавать звуки, упрямо молчала, недовольно ворочаясь с боку на бок в полутемном углу. И сам материализованный медвежонок в случае редкого своего появления, старался держаться от меня как можно подальше и панически отскакивал, когда я с научной целью протягивал руку к его мохнатому уху.
Так было все время. И в провинции, где я начал свою службу по окончании университета, и в Петербурге, куда меня перевели незадолго до революции. Пока, наконец, не повезло, вдруг…
Николай Николаевич слабо улыбнулся. По хмурому лицу скользнуло нечто вроде чувства удовлетворения.
– Наклевывалась, действительно, странная, жуткая история. Приехал я в Петербург после перевода и сразу же решил обзавестись своим хозяйством. Хотя я и холостяк, но тогда были у меня верные друзья: старый лакей Егор и любимец мой – сеттер Джек.



