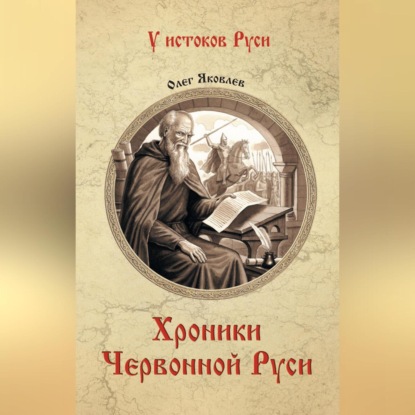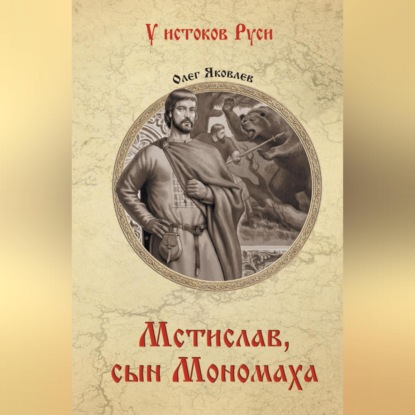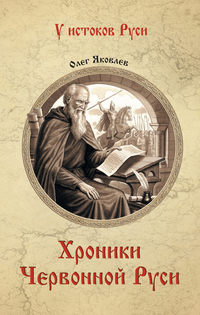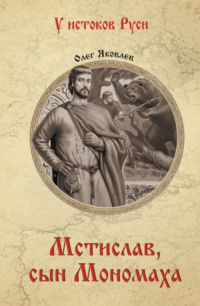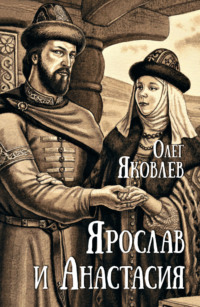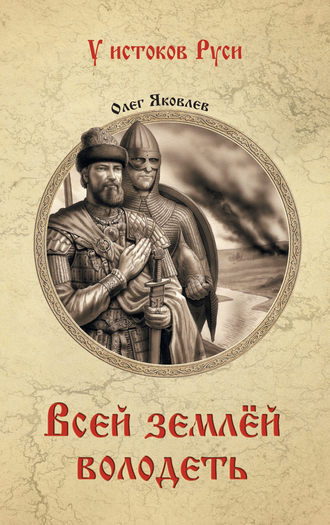
Полная версия
Всей землёй володеть
– А вот и не дам. Не надоть было кидаться! М-м! – Вышеслава высунула язык и подразнила Святополка. – Скупой! Скупой и жадный еси, волче-Святополче!
Она хохотала и прыгала от удовольствия.
На Владимира, стоявшего в нерешительности, они не обращали внимания. Ода, закрыв руками измазанное сливами лицо, продолжала громко выть. На крыльцо выбежала дородная женщина в чёрном платье и повойнике[169], злыми глазами окинула обоих княжичей, схватила за руку плачущую Оду и поспешно увела её. Спустя несколько мгновений с шумом распахнулись ставни окна на верхнем ярусе терема.
– А ну-ка, княжичи, ступайте сюда! – раздался строгий голос воеводы Ивана.
Владимир и Святополк неохотно поднялись в хоромы.
Посреди широкой горницы рядом с воеводой Иваном стоял худой сердитый человек, весь в чёрном, с розгами в руках.
– За что княгиню Святославлеву обидели? – вопросил Иван. – Сорóм.
– Воевода, не вели бить, – дрожащим голосом пробормотал Владимир.
– А что ж, гладить вас по головке, что ль, за этакие делишки?!
– Они… Девчонки сии. Обзывались всяко. – Владимир виновато понурил голову.
– Обзывались, а вы что?! Тож мне, воины! – Иван презрительно сплюнул. – С девками дерётесь. Какие ж вы мужи ратные будете, коль девица, и та вас одолевает! Ну-ка, Моймир, всыпь им как следует! Разумней в иной раз будут.
– Ох, воевода! – злобно осклабился Святополк, нехотя спуская порты.
…Владимир, стиснув зубы, лежал на лавке и корчился от боли.
А в самом деле, думалось ему, чего ввязался он в эту ненужную затею с гнилыми сливами? Ну что уж такого обидного сказали ему эти девчонки? Подумаешь, ущипнули, подразнили, да ещё так неумело. Нехорошо сложился первый его день в Киеве! Не успел приехать, а уже напакостил тут. Прав Иван: соромно!
– Ну, отведали розог! Вставайте! – велел воевода. – Ступайте топерича, просите прощенья. Живо!
Ухватив обоих отроков за шиворот, Иван потащил их в бабинец и втолкнул в просторную светлицу.
Вышеслава и Ода сидели уже в чистых платьицах, строгие и надменные.
– Простите нас, – чуть не шёпотом, сглатывая слёзы, выдавил из себя Владимир.
– А ну, громче! – прикрикнул на него Иван.
– Может, яко поп, епитимью[170] наложишь? – злобно скривившись, с издёвкой спросил Святополк.
– Ах, ты ещё и зубоскалишь тут! – Иван треснул его ладонью по затылку. – Сызнова розог захотел?!
Вышеслава, не выдержав, прыснула со смеху.
– Не будем мы боле, – угрюмо буркнул Святополк.
– То-то же! Ну а вы, девицы-красавицы, как, простите удальцов наших?
Вышеслава уже каталась, визжа от смеха, по широкой тахте, глядя на насупленные, виноватые лица двоюродных братьев.
Ода, более спокойная, с бледным опухшим от слёз лицом, поднялась и с трудом выговорила по-русски:
– Мы простчаем.
– Ну, тогда ступайте, молодцы, прощены вы. Девы красные зла на вас не держат. А отцам и матерям вашим. – Иван лукаво подмигнул. – О том не скажем. Но чтоб в другой-от раз тако не смели!
Он погрозил отрокам здоровенным кулаком…
– Умный человек – воевода. Умный и справедливый, – говорил Владимир Святополку, когда они шли по широкому гульбищу.
Святополк вдруг снова злобно скривился:
– Тоже мне, справедливого сыскал! Вот мой дядька Перенит…
Владимир почувствовал, как в нём закипает гнев.
– Не ведаю, каков Перенит, а мой дядька – человек верный и справедливый! – с гордостью промолвил он, повысив голос.
Святополк смолчал, досадливо махнув рукой.
Глава 14. Костры в ночи
Посреди стана ярко горел, отбрасывая в ночное небо искры, громадный костёр. Вокруг него у шатров, пряча зябнущие руки в широкие рукава войлочных халатов, тесной группой сидели половцы. В отдалении неосёдланные кони с хрупаньем жевали пожухлую осеннюю траву.
Худой высокий старик в круглой бараньей шапке, со сморщенным жёлтым лицом и свисающей, как мочало, тонкой козлиной бородкой, покачиваясь из стороны в сторону, словно в такт какой-то ему одному понятной мелодии, говорил, медленно, взвешивая каждое слово:
– Болуш взял с каназом Всеволодом мир… Скрепил своей кровью дружбу. Он не хочет воевать… Наши кони устали… Нам нужен отдых… Сколько дорог мы прошли!.. Сколько переплыли бурных рек… Итиль, Яик, Дон – греки называют его Танаис…
Речь почтенного старца прервал сидящий с ним рядом Искал. Не выдержав, он вскочил на ноги и в исступлении прокричал:
– Какие жалкие слова я слышу! Ты, Осулук, стал как баба! Тьфу! – Он злобно сплюнул и грязно выругался. – Тебе коров доить! Посмотри, наши кони жрут одну сухую траву, они голодны! Каждую зиму – джут[171], кони гибнут! Кипчаки бродят по степи, как нищие! Скоро нечего будет есть! Что будет тогда?! Пойдём кланяться урусам в ноги, как печенеги и берендеи?! А помнишь, Осулук, как наши деды рубили арабов и огузов, как отцы наши гнали хазар и булгар[172]?! Какие богатства добывали они в честном бою! Кони их обгоняли ветер! И все, все племена и народы боялись их! Болуш изменил памяти отцов!
Осулук спокойно слушал резкие обидные слова Искала и с бесстрастным видом спокойно кивал головой. Когда молодой солтан остановился перевести дух, он поднял десницу и, улыбаясь беззубым ртом, громко сказал:
– Ты не дослушал меня, Искал. Ты смел и бесстрашен, ты – настоящий кипчак. Такой вождь, как ты, сейчас нужен нам… Да, наши кони устали, они истощены, бег их утратил обычную быстроту. Но весной будет ещё хуже. И я говорю… Все меня слушайте!.. Надо идти в поход зимой… На урусов, на каназа Всеволода, на Переяславль! Мы возьмём его стада, угоним табуны и людей… Потом пойдём в Кырым, в Сугдею, в Херсонес. Лукавые греки дадут за невольников-рабов много золота. Вот как надо жить! В шёлк и парчу оденем наших жён, в кольчуги из булата – наших воинов, сёдла и сбрую добудем для наших скакунов!
– Ты прав, Осулук! – воскликнул Искал. – Прости меня. Я давно бы пошёл в землю урусов, но этот проклятый Болуш. – Он развёл руками и хищно осклабился. – Что делать с ним?
– Он разнежился, как баба, – раздался гортанный голос одного из беков. – Такой хан не нужен кипчакам!
– Тогда… Я его убью! – Искал вырвал из ножен кривую саблю. – Осулук, я обещаю, я принесу и брошу к твоим ногам его глупую голову!
Старый хан снова холодно кивнул.
Искал сел обратно к костру, привычно поджав под себя ноги. Он сгорал от нетерпения, резкость слов и движений выдавали его горячность, дикость, в душе его безудержно клокотали страсти. Такие, как Искал, становятся или лучшими друзьями, или злейшими врагами, для них нет середины, они не умеют мыслить и взвешивать, их стихия – порыв, гнев, бесстрашие, безрассудство, граничащее с безумием. И старый степной лис Осулук это знал. Знал и разогревал в душе Искала, потихоньку, не спеша, ярость и ненависть. Они нужны кипчакам!
– Вот, Арсланапа! – обратился Искал к сидевшему напротив мальчику-подростку лет четырнадцати. – Скоро наступит пора и тебе показать свою доблесть. Что ты дрожишь? Ты боишься?! – гневно спросил он.
– Нет, отец, я не страшусь опасности, – с достоинством ответил Арсланапа. – Я дрожу от желания скорей сразиться с врагом!
– Хороший ответ, Арсланапа! Эй, Иошир! – крикнул Искал в темноту одному из нукеров. – Тебе поручаю своего сына. Присмотри за ним.
Осулук опять поднял руку, прося слова.
– Ты, Искал, поведёшь наши орды на урусов. И да помогут тебе наши добрые духи!
Искал встал, поклонился и поцеловал край одежды старика.
– А теперь иди, – добавил Осулук. – И помни: Болуш должен умереть! Он стал помехой нашему делу.
Глава 15. Резня
Запрокинув голову, Искал посмотрел на тёмное ночное небо. Не видно ни луны, ни звёзд, холод пронизывает тело, снег кружится в воздухе, хрустит под копытами коня. К вечеру выпал и совсем укутал землю белым покрывалом. Осулук прав: надо спешить. Наступает зима, джут, голод.
Искал жестом подозвал Арсланапу и молча указал рукой вперёд, туда, где посреди кромешной тьмы мелькали огоньки. Там, за излукой реки, стан Болуша – злейшего врага, предателя, продавшегося урусам! Настала пора покончить с этой падалью!
Искал выхватил саблю и издал воинственный, леденящий душу вой – сурен – знак атаки.
Нестройной лавой, как коршуны на добычу, полетели в ночную степь оружные конники.
…Рубили всех без разбора: стариков, женщин, детей, врывались в шатры и кибитки, хватали дорогие одежды, золотые и серебряные чаши, уводили коней.
Ханские нукеры, один за другим, захлебываясь кровью, падали на снег, окрашивая его тёмными расплывающимися пятнами.
«Верные псы!» – С презрением отдёрнув окровавленной саблей войлочный полог, Искал ворвался внутрь шатра Болуша. С визгом скользнула к стенке обнажённая рабыня.
Болуш, бледный и спокойный, облачённый в цветастый халат из бухарской зендяни[173], стоял возле тлеющего очага.
– Убивать пришёл, разбойник? – с усмешкой спросил он, хладнокровно взирая на брызжущего в ярости слюной Искала. – Убивай. Но вот что я тебе скажу: если ты решил воевать с урусами, ты – мертвец. Это такая сила! Тебе и Осулуку их не одолеть. Будет литься кипчакская кровь.
– Хватит, довольно каркать, трусливая ворона! – Искал взмахнул саблей. Со свистом обрушилось смертоносное оружие на жирную ханскую шею.
Схватив за волосы отрубленную голову Болуша и потрясая своей кровавой добычей в воздухе, с диким хохотом выскочил Искал из шатра.
В сумеречной темноте, освещённой пламенем горящих факелов, сверкнули испуганные чёрные глаза рабыни.
– Держите её! Она любимая хасега[174] Болуша! – крикнул Искал. – Приведите её ко мне!
Беспомощную рабыню привели и бросили к его ногам.
– Эй, Арсланапа! – позвал солтан сына. – Пора тебе познать женщину! Возьми её! Это твоя доля добычи!
Арсланапа, спустившись с коня, немного смущённый, подбадриваемый воинами, через силу улыбнулся и, повалив наложницу на землю, стал срывать с неё дорогие одежды.
Толпа галдящих степняков обступила было его, но суровый богатырь Йошир, потрясая копьём, отогнал прочь всех любопытных.
Вопли и плач рабыни прорезали воцарившуюся после разгрома стана тишину. Арсланапа, грязный, испачканный кровью, навалившись сверху, дико вращая глазами, насиловал свою жертву. Лишь мрачный Йошир да кружащий в предутренней выси ястреб стали свидетелями первого в жизни молодого сына солтана злодейства.
Глава 16. Сквозь вой пурги
В посеченном саблями, покорёженном шеломе, пешком, хромая и тяжело дыша, приплёлся Всеволод к Княжеским воротам Переяславля. Яростно кружила жестокая вьюга, бросая в лицо снежные клубы. В ушах стоял неистовый свист, голова гудела от сабельных ударов.
Половцы налетели внезапно, смяв и разметав сторожевые отряды за Сулой. Воиньский воевода беспечно проспал неожиданное нападение коварного врага и не прислал вовремя гонца. Только уже когда запылали сёла и деревни на Трубеже, Всеволод узнал о набеге Искала. Сведав, бросился из Переяславля во главе малой дружины – большую собрать было уже не успеть – и вот теперь, лишившись коня и хоругви[175], бежал, прячась в перелесках и зарослях кустарника, замёрзший, дрожащий от дикого холода, потерявший всех гридней. Пробирался ночью, наугад, безотчётно, сквозь метель, проваливаясь ногами в глубокие сугробы. Когда наконец он различил в предрассветной мгле стены Переяславля, то возвёл очи горе, набожно перекрестился и поклялся поставить в городе церковь в честь святого Феодора, своего небесного охранителя.
Холод стоял страшный, обмороженные персты прилипали к дощатой броне. На затылке колыхалась иссеченная саблями кольчужная бармица.
На сей раз Искал провёл его, он не учёл силу и воинское умение половца, а главное, его малая дружина не выдержала их бешеного, отчаянного натиска. И приходилось теперь горько сожалеть о порубленных русских ратниках, о спалённых дотла слободах и сёлах, об угнанных в полон крестьянах и посадских людях.
«Ничего, ничего, княже, – успокаивал сам себя Всеволод. – Поквитаемся ещё с этим Искалом. Вот братьев созову…»
Братьев! Только двое осталось их у Всеволода. Оба молодших, Вячеслав и Игорь, один за другим внезапно быстро захворали и умерли. Игорь умирал тяжело, мучительно, Всеволод ездил к нему в Смоленск и со скорбью и страхом взирал на его страдания. Брат корчился от болей в животе, судорожно дёргался, беспокойно ворочался, шептал хрипло, едва связно:
– Помни… завет… отцов… Всеволод… За тя тамо… Молить буду…
Перед самой кончиной боль отступила, он лежал, успокоенный, измученный, с заострившимся серым лицом. Посмотрел на Всеволода, улыбнулся бескровными устами. Извечный насмешник, живчик, проказник – и вот нету его среди живых! А ведь Игорь был младше его, Всеволода, на целых четыре года, казалось, жить бы да жить, но один Всевышний определяет длину пути человека на этом свете. По лицу Всеволода покатилась слеза.
Стражи узнали князя по шелому с ликом Феодора Стратилата. Молча прошёл он через ворота, спустился к домовой церкви, после короткой жаркой молитвы через гульбище и крытый переход добрался до своих хором. Только когда подымался по крутой лестнице, почувствовал вдруг смертельную, сковавшую мускулы усталость. Даже раздражение и боль – и телесная, и душевная – как-то вмиг схлынули, оставили его.
Подбежали гридни, челядь, боярин Никифор громовым голосом приказал позвать бабку-знахарку. С князя стянули сапоги, старая колдунья какой-то противно пахнущей мазью протёрла ему руки и ноги. Запрокинув голову, Всеволод с тяжёлым вздохом откинулся на ложе.
Появилась Мария в чёрном платье и повойнике на голове.
Всеволод злобно усмехнулся: носит траур по своему умершему родителю, базилевсу Константину Мономаху. Сколько слёз пролила, и ведь вовсе не оттого, что любила отца – нет, просто он был властью, силой, поддержкой для неё в чужой, «варварской стране скифов». Теперь вот чувствовала, как никогда раньше, своё одиночество, пугаясь приходившими с родины новыми вестями о смутах и мятежах.
А базилевс… Говорят, неглупый был человек, только вот восьмистам русским пленным приказал выжечь глаза. В последние годы, овдовев, жил он по большей части в Манганском монастыре – возможно, самом роскошном храмовом сооружении, какое когда-либо видел город Равноапостольного Константина. «Здание всё было изукрашено золотыми звёздами, словно небесный свод», – писал о Мангане знаменитый ромейский философ Михаил Пселл.
Посреди сада с висячими деревьями устроена была купальня, в которой страдающий приступами подагры базилевс проводил каждый день по нескольку часов. Однажды осенью, когда было уже холодно, он пролежал там слишком долго, простудился и заболел плевритом. От этой болезни отец Марии и скончался, всего на год пережив своего бывшего противника, а позднее союзника – князя Ярослава.
– Что, побили тебя половцы? – холодно рассмеявшись, спросила Мария. – Тоже, воин!
В руке она держала тонкую свечу и взирала вдаль, за окно.
Всеволод смолчал, скрипнув зубами, слыша, как завывает на улице вьюга. Воистину, права Мария, плохой из него воин, никудышный. Во время сечи – одна надежда на воевод, да нынче вот, не получилось, как они замыслили. Слишком яростным и сокрушительным оказался удар вражьей конницы. Проклятый Искал! Верно сказал про него воевода Иван. Иван – вот кого не хватало там, на поле брани! Уж он бы придумал что-нибудь.
– Не довольно ли тебе носить траур? – хмуря чело, обратился Всеволод к Марии. – Немало лет ведь прошло. До скончания дней, что ли, будешь убиваться по почившему отцу и в чёрных одеждах ходить? Не монашенка пока ещё!
Ромейка гордо вскинула голову.
– Не смей так со мной! – вскричала она, топнув ногой. – Ненавижу! Ненавижу! Варвар! Дикарь! Скиф! – захлёбываясь от злости, бросила она ему в лицо и с остервенением сорвала с головы повойник. Рыжие распущенные волосы упали ей на плечи.
Обычные холод и высокомерие уступили внезапно в душе её дикой, страстной злобе и ненависти. Всхлипывая, вздрагивая от рыданий, княгиня стремглав вылетела из палаты.
Всеволод почувствовал в этот миг с предельной ясностью – всё, ничего у них с Марией больше не будет. И так после рождения Анны ни одной ночи, ни одного дня не провели вместе. Да и Анна – по-домашнему прозвали её Янкой…
Всеволод вспомнил, как подошёл к нему однажды противный чёрный евнух[176] – слуга верный из верных – и тихо шепнул на ухо:
– Из последних скопцов, которые присланы из Царьграда, один – совсем не скопец. Ночами бывает он у твоей княгини.
– Ты уверен в этом? – спросил после долгого молчания потрясённый князь.
– О, сиятельный архонт[177]! Разве позволил бы я вложить в твои уши ложь?! Клянусь, это правда! – затрясся от страха евнух.
– Хорошо, верю тебе. Кто этот человек?
– Ангеларий. Кто он на самом деле, я не знаю точно. Но похоже, он из знатного рода.
– Хорошо. – Князь задумался. – Вот что. Сделай так… Чтобы его не было.
– Я понял, архонт. Его не будет. Ты о нём больше ничего не услышишь. – Издав короткий смешок, евнух исчез за дверью.
…Неприятный разговор породил в душе сомнения: а его ли дочь Янка? Смотрел на растущую девочку с пристальным вниманием и находил в ней некоторую схожесть с тем самым «внезапно пропавшим» по его велению лжескопцом. Вот, выходит, какова Мария.
«Ты заплатишь за свои слова!» Что же, она сдержала свою клятву.
«Коварная хитрая ведьма! Ничего, приручу тебя!» – Всеволод в ожесточении сжал кулаки. Обмороженные персты пронзила боль. Вскрикнув, князь смачно выругался.
Вдруг подумалось о Гертруде, сердце забилось в радостном предвкушении неземного блаженства. Но возможно ли оно? Грех ведь думать о таком! Но захотелось отбросить, отмести прочь сомнения и колебания. Если бы не смерть Игоря и не набег Искала, он бы, наверное, затеял ту охоту, про которую она тогда говорила. И сейчас ещё не поздно. Вот только оправится сначала он от ран и ушибов. Надо будет послать гонца.
«Того самого евнуха, – ударило в голову. – Этот не выдаст. Повязан со мной кровью. Кровь сплачивает людей крепче всякой клятвы».
Всеволод вздрогнул, ужаснувшись этой мысли.
Глава 17. В дальнем селе
Снег сыпал и сыпал, непрестанно, нескончаемо, заметая тропы, дороги, залепляя глаза возничим и гридням. Кони шли медленно, возницы устали подгонять их плетьми. Всеволод, развалившись на кошмах в возке, подрёмывал, искоса бросая взгляд в крохотное окошко. Но там всё было, как и час, и два назад – серое пасмурное небо, кроны сосен с шапками снега, сугробы, скованные льдом узкие ленточки рек.
На лавке спал, поджав ноги и накрывшись чёрным суконным плащом, евнух. Рядом с ним потягивал из кружки хмельной мёд молодой боярин Ратибор.
– Скоро ль доедем, княже? – спросил он нетерпеливо, набрасывая на плечи тёплую медвежью шубу. – Длани чешутся, ловитвою б поразвлечься.
– Успеешь. – Всеволод начинал жалеть, что взял в попутчики этого молодого удальца и рубаку. Лучше бы с Хомуней ехать – тот тих, неприметен, не будет вот так во всё лезть и задавать глупые вопросы. А может, и правильно он решил? Хомуня – сакмагон, лазутчик, догадается, узнает, о чём не следовало бы ему знать. Ратибор – не такой, кроме охот и битв, ни о чём не думает. И об их с Гертрудой делах вряд ли он что проведает.
Возок сильно тряхнуло, кони понеслись вскачь, под гору. Ввысь с карканьем взмыла стая ворон. Они въехали в какое-то селение с убогими, покосившимися хатами. Из печных труб густо валил в сизое небо дым.
– Тпрууу! – громко прокричал возница.
Кони, круто остановившись, замерли на месте. Евнух, изрыгая ругательства, полетел с лавки на пол.
– Холопы! Ездить не умеете! Жалкий раб! – пропищал он возничему, высунувшись и грозя маленьким кулачком.
– Цегой, цегой?! Ах ты, пёсья морда! Ну, погоди! Я-от те задам! – Добродушный румяный возница-новгородец, смеясь, отворил дверцу и протиснулся внутрь возка. – Приехали, княже!
Кутаясь в кожух и надвинув на чело мохнатую шапку, Всеволод спустился на землю. Снег громко заскрипел под каблуками сафьяновых сапог.
За высоким тыном князь увидел возвышающийся свежесрубленный терем с золочёной кровлей, богато украшенный киноварью.
Князь шагнул через ворота, поднялся по всходу. В пояс ему кланялись безбородые бароны-саксонцы и польские шляхтичи, лопотали на своих языках приветствия и похвалу.
Гертруда, вся разодетая в дорогие меха, стояла на пороге сеней. Рубиновые серьги алели у неё в ушах, на плечи поверх шушуна наброшен был цветастый плат, соболью шапку украшали драгоценные каменья – сапфиры, смарагды[178], яшма, пуговицы шушуна горели золотом.
– Здравствуй, князь Хольти! Рада тебе, – промолвила она, вся светясь хитроватой улыбкой. – Прямо скажу: не ждала в гости! Милости прошу!
«Начинает лукавить на людях, – подумал Всеволод. – А впрочем, чему здесь удивляться?»
– Эй, бароны мои, шляхтичи, слуги верные! Принимать будем по чести бояр и гридней князя Всеволода! Дворский! Вели столы накрывать на сенях! Печь истопить, да пожарче!
Она быстро, расторопно раздавала наказы и наставления.
Рослый слуга-лях в зелёном кафтане провёл Всеволода в просторные сени. Здесь было довольно холодно, стояли длинными рядами столы, крытые цветными скатертями, широкие лавки обиты были фландрским и анбургским[179] сукном. Всеволода усадили в высокое кресло в середине горницы, во главе самого большого стола. Шумно расселись вокруг него шляхтичи и бароны, одетые один краше другого. Кожухов и шуб не снимали – по горнице гулял холодный ветер, и изо ртов исходил густой пар. Гертруда, разрумянившаяся с мороза, села по правую руку от князя.
Холопы приволокли жбаны с пивом, маленькие бочонки с искристым греческим вином, расставили яства, куманцы[180] с водой – разбавлять вино.
Наполнились хмельным мёдом большие чары и братины[181]. В углу заиграл на дудочке весёлый скоморох.
Началось пиршество. Всеволод брезгливо переглянулся с Ратибором. Грубые польские дворянчики и саксонские бароны ели прямо руками, без ножей и вилок. Чтобы отрезать себе куски от огромной кабаньей туши, они доставали из ножен булатные мечи.
– Что, князь? Не так у тебя в Переяславле? – насмешливо спросила Гертруда. – Твоя княгиня ест только золотой вилкой, на чистой тарелке? Извини, немного дики и неотёсанны мои люди. Прости их.
Сама княгиня тоже ела руками. Сок и жир текли по её перстам с розовыми накрашенными ногтями.
К концу пира многие бароны и шляхтичи еле передвигали ноги, некоторые храпели под столами, другие, шатаясь, выходили во двор.
Ушли, сославшись на усталость, Ратибор и многие Всеволодовы гридни. Евнух в чёрном под недовольным взглядом Гертруды юркнул в тёмный переход.
Всеволод во время пира почти не пил. Как-то неловко чувствовал он себя в окружении этих грубых, громко чавкающих, урчащих от удовольствия мелких людишек – Гертрудиных прихлебателей, променявших прозябание в болотах Польши и лесах Саксонии на сытую киевскую жизнь в свите молодой дочери князя Мешко и немецкой принцессы Риксы. Вдруг подумалось, что и Гертруда-то, собственно, немногим отличается от них. Но сердце князя начинало учащённо биться, когда она бросала на него полные неги взгляды.
И неважно уже было, что один из баронов позволил себе во время пира обнять Гертруду за тонкий стан, а другой – пощупать её упругую грудь, засунув руку под расстёгнутый шушун. Гертруда в ответ лишь смеялась и смотрела на Всеволода всё с бóльшим томлением. И странно: от этого она становилась для Всеволода только более желанной. Или это хмель так ударил ему в голову, или какого-нибудь любовного зелья тихонько подсыпали ему слуги княгини в золотую чашу.
Вечерело. За окном светила луна, в избах мерцали огоньки лучин. Снегопад прекратился, стих свист ветра, лишь слышался вдали заливистый собачий лай.
– Князь… Давай поедем кататься в возке. У тебя большой возок. Нам двоим хватит места! Постелим солому. – Гертруда засмеялась, обнажив ослепительно-белые зубы.
Всеволод молча кивнул. Он сгорал от нетерпения, внутри него всё клокотало, бурлило от яростного неутолённого желания.
Они шли вдвоём по двору, Гертруда вскрикивала, проваливаясь в рыхлый снег. В конце концов Всеволод подхватил её на руки и, шатаясь, тяжело дыша, – совсем не лёгкая, оказывается, ноша – княгиня киевская, – внёс её, визжащую и болтающую в воздухе ногами, в возок. Бережно усадил на солому, забрался сам, закрыв на защёлку дверь.
– Куда поедем? – спросил он, стряхивая с кожуха и шапки снег. – Позвать возничего?
– Давай никуда не поедем. Останемся тут. – Гертруда заговорила шёпотом. – Тут тепло. Теплей, чем в сенях… Ну, князь Хольти, я жду. Я вся перед тобой.
Она сбросила с плеч шушун и цветастый саян[182]. Перед глазами Всеволода полыхнула в свете топящейся походной печи белая пышная грудь с округлыми сосками. Не помня себя, князь бросился в жаркие женские объятия…