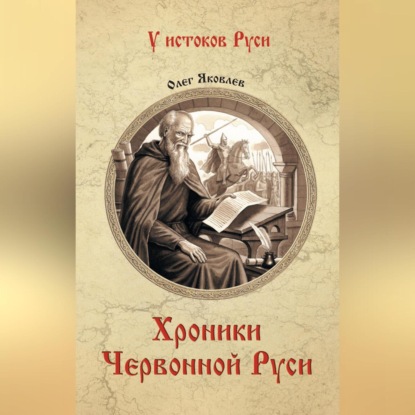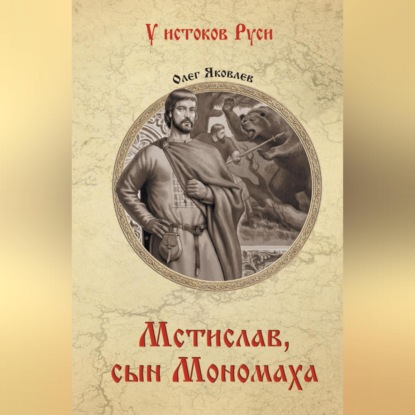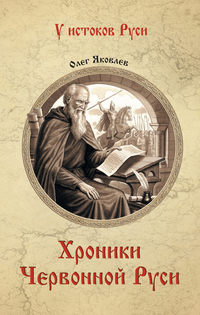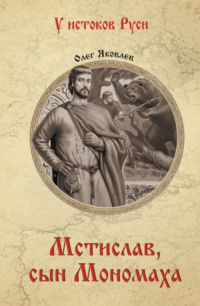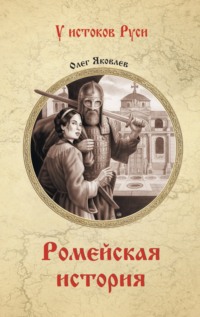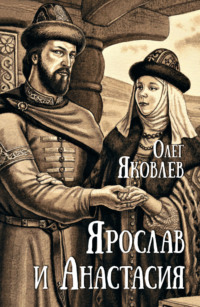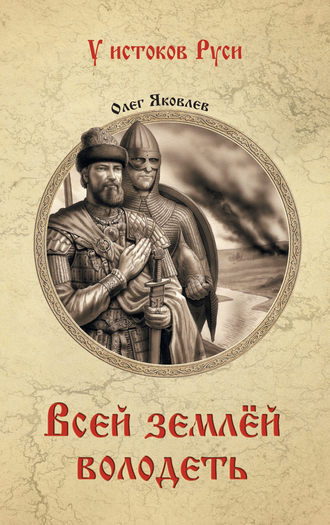
Полная версия
Всей землёй володеть
Всеволод велел позвать Хомуню. Верный сакмагон, мрачный, с глубоким шрамом через всё чело – досталось во время набега Искала – холодно выслушал короткое повеление.
– Проследи за князем Ростиславом. Посмотри, куда он тронется. По степи разошли людей.
Хомуне сейчас нелегко. Всю семью его: жену, детей – убили половцы. Но службу несёт он исправно, на него можно положиться в любом деле.
…Седьмицы не прошло, как Хомуня снова стоял перед Всеволодом, шатаясь от усталости, тяжело, с надрывом, дыша.
– Погрузили Ростиславлевы вои[191] полти[192] мяса на обозы, пошли на полдень, вдоль Днепра, – доложил он.
Начинающие седеть волосы и густая борода обрамляли его желтоватое лицо, изрытое оспинами. Кольчатая бронь и бутурлыки[193] сияли в солнечном свете. Словно архангел Гавриил перед Девой Марией, стоял он перед князем. Воистину, весть принёс благую. Посветлело у Всеволода на душе.
– В Тмутаракань отъехал, – обрадовался он, крестясь. – Ну, хвала Всевышнему. Отвёл от Ростова беду.
Он улыбнулся одними уголками губ.
Глава 21. Спасение Тальца
Задыхаясь от быстрого бега, Талец мчался через засеянное пшеницей поле. Высокие упругие колосья хлёстко ударяли ему по ногам. Пригибаясь, спотыкаясь о кочки, Талец с надеждой и отчаянием взглядывал вперёд: скоро ли? С каждым мгновением приближалась опушка леса; там, в темноте, под кронами сосен, в яругах[194], балках, посреди чащобы – спасение.
Поскользнувшись, он беспомощно растянулся на земле, изодрав посконную рубаху и больно ударив колено. Устало смахнул с чела пот, вскочил; прихрамывая, побежал дальше.
Вот он, наконец, лес. Пот заливал паробку лицо, рубаха вся стала мокрой – хоть выжимай. Талец юркнул в спасительную лесную прохладу, скатился в глубокий овраг, жадно испил воды из громко журчащего ручья.
Теперь можно было немного перевести дух, подумать, осмыслить случившееся.
…День стоял как день, привычно закипала работа. Отец с рассветом засобирался в поле, мать гремела ухватами у печи, сестра и двое братьев копошились во дворе возле конюшни.
– Поехали, Талец! – позвал отец, запрягая в телегу коня.
Паробок забрался на жёсткую солому. Отец тронул поводья, и телега со скрипом выкатилась за ворота. Так происходило изо дня в день, из года в год. Скоро уже, осенью, как обычно, приедут из Чернигова строгие, сердитые тиуны, соберут обильный крестьянский урожай, увезут его в княжеские и боярские житницы, зорко осмотрят кладовые: не утаили ли чего людины, не упрятали ли от их бдительного ока пару мешков с зерном.
Иногда, бывало, наедут бояре в пёстрых кафтанах, оружные гридни в блестящих кольчугах, будут охотиться в окрестных лесах на дикого зверя, остановятся на постой в избах. В такое время жизнь в деревне преображается, хмельной рекой текут меды, смех и веселье наполняют улочки. Но уезжают весёлые шумные гости, и всё возвращается на круги своя: пашня, солёный пот на спинах под палящим солнцем, вечные хлопоты, большие и малые надоедливые работы, идущие нескончаемой чередой – сев, сенокос, жатва, молотьба.
…Уже подъезжали к полю, когда вдруг со стороны села раздались дикие душераздирающие вопли. Ярким заревом полыхнули избы. Посреди дыма и копоти слышались грубые гортанные выкрики, ржание и топот большого числа коней, пронзительный свист.
– Поганые! – крикнул отец.
Талец, вздрогнув, порывисто обернулся. К околице села, к высокой деревянной церквушке с чешуйчатым куполом – луковичкой подлетели всадники в панцирных коярах[195] и в лубяных плосковерхих шлемах, скреплённых железными пластинами. Талец разглядел их лица: жёлтые, скуластые, искажённые злобой, перекошенные в крике.
– Беги, Талец! – Отчаянный отцовый вопль вывел отрока из оцепенения, он спрыгнул с телеги и метнулся к обочине, с ужасом увидев, как отец с пробитой головой, весь в крови падает под копыта, в дорожную пыль. Следом за Тальцем понёсся с копьём наперевес половец. Судьбу юнца решили мгновения. Уже настигал его свирепый степняк, целился, готовился воткнуть остриё копья меж лопаток, когда внезапно рухнула поперёк дороги горящая церковенка. С предсмертным визгом ужаса и боли навсегда исчез половец посреди пламени и обломков. Едким дымом заволокло дорогу. Талец свернул, побежал по полю, раня босые ноги о камни и колючую траву.
Далеко впереди, у окоёма, синей жилкой темнел лес.
«Туда не пойдут!» – подумалось Тальцу.
Он, не переводя дыхания, из последних сил бежал и бежал. Сердце готово было, казалось, выскочить из груди. Сколько времени он бежал так? Гнался ли за ним кто-нибудь? Или забыли о нём степняки, занялись дележом добычи?
Ничего этого Талец не знал. Забившись в густой малинник на дне оврага, он затаил дыхание и беспокойно прислушался. Тишина. Только птицы щебечут на деревьях.
Дрожащими руками он стал срывать с кустов спелые ягоды малины. Есть не хотелось, делал он это почти безотчётно, стараясь заглушить нахлынувшую в душу горечь и страх ожидания неведомого.
В лесу просидел до вечерних сумерек, потом тихонько выполз на опушку, начал медленно, осторожно пробираться краем поля.
Надеялся: а вдруг живы, уцелели мать, братья, сестра, ближники-соседи. Тогда можно будет заново отстраивать хату, налаживать понемногу былую, привычную жизнь. Но мертвенная гробовая тишина встретила Тальца в селе. Догорали разорённые избы и гумна, всюду лежали полуобгоревшие трупы. Страшное зрелище предстало глазам отрока.
Тел матери, сестры и братьев он не отыскал – видимо, все сгорели в пламени пожара. Не было рядом ни единой живой души.
«Всех сгубили, треклятые!» – Талец упал наземь возле пепелища, какое осталось от родной хаты, и горько разрыдался.
Перевернувшись на спину, лежал он долго, с трудом сдерживая слёзы, и смотрел на полное звёзд ночное августовское небо.
Что делать ему теперь? Куда идти? Родных и близких в окрестных сёлах и слободах у него нет, да и сёла те и слободы, невестимо, уцелели ли. Может, тоже похозяйничала в них свирепая орда.
Остался, правда, у него один родич. Мать как-то сказывала, что есть у неё брат, Яровит. Ещё в малых летах забрали его в ученье, чем-то приглянулся он киевскому князю Ярославу, сделал его князь боярином, земли дал, усадьбу имеет Яровит в Чернигове. О нём почти никогда в семье не говорили, так, изредка упомянут, и только. Отец всегда хмуро сдвигал брови, едва заходила о Яровите речь. Но вот как повернула жизнь – придётся теперь, верно, Тальцу искать этого неведомого дядю. А там, как знать: может, примет Яровит его, может – прогонит взашей.
Поутру, взяв в руку сучковатую палку, забросив за плечи котомку со скудным скарбом – собрал у соседки в уцелевшей бретьянице[196] немного еды на дорогу, – в последний раз глянув на родное пепелище и обронив слезу, направил Талец стопы вдоль широкого шляха. Шёл, беспрестанно озираясь, днём больше отсиживался в лесу или крался опушкой, стараясь быть тихим и неприметным. На третий день, уже к вечеру, добрался до берега большой, многоводной реки. Ни души не встретилось на пути – лишь набрёл однажды на разорённую половцами пустую деревню.
Куда идти дальше – не знал, пошёл наугад вдоль берега, вниз по течению. Тревожно, смутно было на душе, уже и голод давал о себе знать – съестные припасы кончались. Решил заночевать в прибрежных камышах, а утром вплавь перебраться на другой берег, где виднелся густой сосновый бор. Там хоть ягоды, грибы удастся раздобыть.
Свернувшись калачиком, подложив под голову котомку, забылся Талец беспокойным сном.
– Эй, отроче! – Кто-то осторожно потряс спящего паробка за плечо. – Ишь, куда забрался! А ну, вставай!
Талец вздрогнул, оторопело вытаращил глаза, с криком вскочил, метнулся в сторону. Судорога страха сжала его сердце.
– Да ты не бойся. Экий пугливый!
В неясном свете предутренних сумерек Талец разглядел тонкую фигурку монашка в долгой рясе, с посохом в деснице. Чуть дальше, возле дороги, стояла крытая холстом телега, на которой сидел, свесив ноги, другой монах. Тучная кобылка помахивала широким хвостом.
– Ну, ступай сюда. Говори, кто ты, откудова будешь, куда путь держишь? Я, Иаков-мних, списатель княжой, иерей, инок печерский, вопрошаю тя.
Талец несмело подошёл к монашку.
Чем-то сразу расположил его к себе этот низкорослый, худенький человек с заострившимся лицом и редкой русой бородёнкой.
С трудом сдерживая слёзы, Талец коротко поведал ему о набеге половцев, разорении села, гибели родных.
В скорби потупив взор долу и вороша посохом траву, Иаков слушал, слегка покачивая головой.
– Куда ж ты топерича? – спросил он, едва отрок замолчал.
– В Чернигов хощу. Дядька тамо у мя быть должон. Бают, боярин важный. Может, приютит. А нет – не ведаю, как и бысть, куда и податься.
– В Чернигов, – задумчиво повторил Иаков. – Вот и мы туда ж. Книги везём ко князю Святославу. Я да Никита, грек-евнух, тож монах, слуга Божий. Со Льтеца идём, с монастыря. От поганых, яко и ты, едва убереглись, в роще за дубами укрылись. Книги вот спасти помог Господь. Поедем с нами, отроче. Садись на телегу.
Тальцу лишний раз повторять было не надо. Чуть не бегом помчался он к телеге и поспешно забрался на неё, сев рядом с евнухом Никитой. Молодой, безбородый грек окинул отрока косым, подозрительным взглядом и хитровато прищурился.
– А как звать твоего дядьку? – спросил он.
Голос у Никиты был тонкий, как у бабы.
– Яровит, Божий человек.
– Гм… Яровит. – Никита заметно насторожился, в тусклых глазах его блеснул недобрый огонёк. – Поганое имя, языческое. А по крещёному как его звать?
– Не ведаю, Божий человек. Я ж его отродясь в глаза не видывал.
– Гм… Иаков, знаешь ты такого боярина? – обратился Никита с едва скрываемой насмешкой к своему спутнику, тоже уже севшему на телегу.
– Слыхал, как же. Был Яровит при князе Ярославе видным боярином. В Чернигове дом имеет, ещё земли где-то возле самых вятичей, в лесах да на болотах. Сказывают, муж смекалистый, посольские дела правил – к уграм ездил, к ятвягам[197], в саму Ромею хаживал.
– Как же можешь ты, безродный раб, такому человеку родичем быть?! Врёшь ты всё! – визгливо прикрикнул Никита и замахнулся на Тальца плетью.
Лицо его потемнело от злости, маленькие чёрные глазки налились яростью и готовы были, казалось, выскочить из орбит.
– Не трожь мальца! Веди себя, как Божьему слуге подобает, брат! Кроток будь, смиренен. – Иаков схватил евнуха за руку. – И не врёт, думаю, ничего парень. А еже[198] что и приврал, дак не нам его судить. Вишь, от поганых он бежал, спасался, родичей всех потерял. А что до Яровита, то ведомо – не из бояр он вышел. За то и недолюбливают его в Чернигове были[199] родовитые, за ровню себе не почитают. А сами же токмо обжорством да пьянством славны. Ты, отроче, – обратился он с ласковой улыбкой к Тальцу, – сиди покуда, отдыхай, гляди на бел свет. Сподобит Господь, довезём тя до Чернигова. Недалече. К вечеру будем тамо. Трогай, Никита.
Телега сдвинулась с места, заскрипела. Кобыла с жёлтой свалявшейся гривой неторопливо, шагом побрела вдоль реки. Никита со злостью хлестнул её плетью.
– Старая кляча! – ругнулся он, но, уловив осуждающий взгляд Иакова, презрительно скривился и умолк.
Кобыла перешла на рысь. Трясясь на кочках и ухабах, покатилась телега по пыльному шляху.
Справа, за курганами алела багрянцем утренняя заря. Лёгкие розоватые облачка медленно ползли по светлеющему небосводу. В рощах пробуждались птицы, отовсюду слышалось громкое щебетание. Унылой чередой потянулись поросшие ковылём и разнотравьем дикие поля.
Солнце выплыло из-за окоёма, ударило в глаза яркими копьями-лучами. Талец зажмурил глаза. По щеке покатилась струйкой слезинка.
– Жаркий день будет, – взглянув на небо, промолвил Иаков.
Талец спросил:
– А книги где, что вы везёте?
– Да вон в ларях. Зришь?
Отрок обернулся назад и изумлённо уставился на два огромных окованных серебром ларя с висячими замками.
– Ты грамоту разумеешь? – добродушно вопросил Иаков.
Талец смутился и отрицательно мотнул головой.
– Научат тя. В Чернигове школа есть. Не токмо бояр – и людинов, и смердов учат. Всяк человек разуметь грамоту должен. Вот книги везём. На русском, греческом, латынском писаны. Евангелие, Деяния апостолов, молитвослов, хронографы разноличные.
– Ветхий Завет забыл, брат Иаков, – провизжал Никита. – Не эта ли книга наипаче иных важна для разумения?
– Что ты мне всё про Ветхий Завет, брат Никита? – Иаков нахмурился, помрачнел, в светлых глазах его вспыхнул неодобрительный огонёк. – Дивлюсь те. Сдаётся, впал ты в ересь жидовскую. Ибо ни Евангелия, ни Апостола, – святых книг, в Благодати Господней нам переданных, – ни честь, ни слушать не хощешь. Боюсь, прельщён ты еси от ворога.
– Дивлюсь и я тебе, списатель. – Безбородый евнух ухмыльнулся. – Из Ветхого Завета – мудрость почерпнёшь, советы, опыт, из поколенья в поколенье переданный. Как и людская жизнь ныне полна грехов, так и там. И страх Божий, и кары, и казни Господни – обо всём сведаешь из этой книги. Весь наш греховный мир, как на ладони, узришь. В том великая ценность Ветхого Завета. Мудрым станешь, как царь Соломон.
Монахи шумно заспорили, с русского языка перешли на греческий, непонятный отроку, Талец с раскрытым от изумления ртом смотрел на них, ожесточённых, одержимых, готовых, казалось, вцепиться друг в друга.
Никита брызгал в ярости слюной; Иаков, гневно сжимая обеими руками палку, отвечал – зло, резко, лицо его раскраснелось от волнения.
Талец немало испугался. Он никак не мог уразуметь, из-за чего вспыхнул этот странный горячий спор, почему монахи готовы побить друг дружку, как какие-то грубые, неотёсанные мужики. У них в селе, бывало не раз, спорили, учиняли драки, ругались – то по пьяному делу, то из-за бабы, но чтобы вот так! Из-за книг?! Отрок удивлённо пожал плечами.
– Такие, как ты, семя зловредное сеют! – заключил Иаков.
Он устало смахнул со лба пот, откинул на спину чёрный куколь и, посмотрев на растерянного Тальца, неожиданно рассмеялся.
– Эй, отроче! Гляжу, перепужали мы тя. Али как?
Талец промолчал, смущённо улыбнувшись.
– Не пужайся. Мы вот поспорим, покричим да отойдём. Монахи ведь, не ратные люди. Верно ли говорю, брат Никита?
Евнух хмуро кивнул.
Дальше ехали молча, Талец с любопытством завертел головой, осматриваясь вокруг. Дикую степь сменили возделанные поля, густо засеянные пшеницей. Вдали видны были работающие крестьяне – мужики в посконных рубахах, бабы в ярких, разноцветных саянах, в платках на головах. В самый разгар вступила жатва. Талец вздохнул и, вспомнив с остротой и горечью всё случившееся в родном селе, вдруг расплакался, уткнувшись лицом в колючую холстину.
Иаков с участием посмотрел на него, но ничего не сказал. Да и что толку тут было говорить, чем мог он утешить юного паробка? Безжалостное время неотвратимо, и Талец ещё сам до конца, наверное, не понял, что с потерей близких ушла навсегда из его жизни золотая пора детства. Что ждёт его впереди? Встреча с безвестным дядькой, а дальше? Неведомо. Многолик и причудлив мир, при всей своей необъятности он тесен, судьбы людские переплетаются в нём порой чудно и дивно, одному Господу известно как…
В полдень остановились у околицы большого, богатого села, монахи наскоро поснидали и накормили изрядно проголодавшегося паробка. Сушёная рыба и чёрствый хлеб сейчас, после нескольких дней трудного пути, показались Тальцу особенно вкусными.
– Ишь, оголодал, – усмешливо заметил Иаков. – Ну да Господь те в помочь. За сим селом большак, а тамо ужо и Чернигов недалече с дядькою твоим. И нам, грешным, конец дороги. Монастырь, княжьи палаты.
Никита достал из сумы немного овса, с руки покормил кобылу, после чего они продолжили путь. Проехали мимо села, в котором наряду с обычными утлыми мазанками и совсем убогими полуземлянками высились добротно срубленные избы, окружённые тыном. Было даже два или три каменных дома.
– Богатое село, княжеское. Когда выезжает кажен год князь Святослав на полюдье, здесь становится. Тут двор у его, тиуны, волостель, – пояснял Иаков Тальцу. – Народец здесь не токмо землю пашет, но и ремеством разноличным пробивается: кузни имеют, скудельницы. Верно, твоё-то село, отроче, невелико было, одни мазанки да землянки, да хаты утлые?
– Тако, – кивнул Талец.
– Верно, непривычно глядеть. Ну, даст Бог, повидаешь бел свет. Никита! Хлестни-ка. Поедем борзее.
Кобыла понеслась вскачь, роняя на пыльную дорогу хлопья жёлтой пены.
Глава 22. Во граде Чернигове
Огромный город с шумными, полными люду площадями, дубовыми стенами на мощных земляных валах, суровыми воинами в булатной броне, охранявшими обитые листами меди тяжёлые ворота, оглушил юного паробка. Весь сжавшись, недоверчиво, но с заметным любопытством взирал Талец на большие дома, нарядные церкви из розовой плинфы, украшенные резьбой, со свинцовыми куполами и золотыми крестами, рассматривал одежды горожан – боярские кафтаны, свиты купцов и видных ремественников, летники и высокие кики[200] жёнок.
Позади остался мост через Стрижень, монашеская телега въехала во внутренние врата. Здесь рядами стояли оружные чубатые воины, все в сверкающих на солнце доспехах.
– Кто таковые?! А, это ты, Иаков! – пробасил здоровенный детина.
Узнав знакомого монаха, он махнул волосатой рукой. – Пропустить! По княжому порученью люди!
Телега остановилась на площади возле боярской усадьбы, обнесённой частоколом из длинных, в несколько сажен высоты, остроконечных дубовых жердей. Из-за огромных деревянных ворот визгливо и зло залаяла собака.
– Вот твово Яровита хоромы, – пояснил Иаков. – Слазь, стучись. Не робей.
Талец несмело шагнул к воротам, тихо постучал. Лай собаки усилился, стало слышно, как кто-то недовольно цыкнул на неё, лязгнула цепь, отворилось сбоку от ворот смотровое оконце.
– Кто тут? Кому чего надоть?! – раздался хриплый, сердитый голос.
– До боярина Яровита мы, – ответствовал за вконец растерявшегося Тальца Иаков. – Передай, добр человек: племянника ему привезли.
Воротник с любопытством просунул в оконце голову.
– Ты, что ль, племянник? – удивлённо спросил он Тальца. – Чегой-то свитка у тя худовата.
– Ты бы, добр человек, кликнул боярина. Да не мешкай. Мы ведь со братом Никитой к самому князю спешим, ждут нас тамо, – молвил Иаков.
За воротами послышался какой-то шорох.
– Кто там? Что случилось, Младан? – раздался другой голос, мягкий и вкрадчивый.
– Да вот, боярин, – отозвался воротник. – Монахи тут. Бают, племянника твово привели. Да парень одет больно худо, и… Чудной какой-то.
– А ну, отворяй скорей!
Врата широко распахнулись. Иаков подтолкнул Тальца в спину. Навстречу им вышел высокий человек лет тридцати с небольшим в наброшенном на плечи лёгком суконном кафтане, под которым виднелась лиловая шёлковая рубаха. Серого цвета шаровары перетягивал золочёный пояс с раздвоенными концами. На смуглом лице незнакомца горели чёрные пронизывающие глаза, лицо отличалось правильностью черт и какой-то особенной, спокойной красотой. Боярин был не худ, но и не толст, носил тонкие усы и густую короткую чёрную бороду, волос на голове у него было мало, на затылке они вились колечками и доходили почти до плеч. В левом ухе его отливала золотом крупная серьга, на пальце смуглой десницы сверкала жуковина[201] величиной с горошину.
– Ты Талец, да? – ласково, с улыбкой спросил боярин паробка.
– Талец. – Ланиты отрока окрасил багряный румянец смущения.
– Тебя видел малым совсем. Года два или три тогда тебе было. Ну, заходи. И вы заходите, люди Божьи. Вот вам по серебренику, молите Господа за нас.
Яровит провёл гостей к крутому крыльцу, кликнул дворского и коротко распорядился накрывать стол в горнице. Монахи кланялись боярину в пояс и просили отпустить их – важное дело имеют, книги везут князю Святославу.
– Книги! – оживился Яровит. – Ну что же, дело доброе. Ступайте тогда, да возвращайтесь только. Покуда будете в Чернигове, становитесь у меня на постой.
– Спасибо, добрый боярин. Храни тебя Господь! – визгливо пропищал Никита.
Монахи отправились восвояси, а Яровит провёл Тальца в горницу.
– Так, говоришь, поганые село сожгли? Отец, мать, братья, сестра – все погинули? Да, верно, так. А может, жив кто остался? Может, поганые в полон увели?
Талец застыл в оцепенении. Как же он не подумал?! А если, воистину, прав дядька?!
– Знать бы, из какой орды были те половцы. Осулуковы или Шарукановы. Тогда послал бы я к ним в становище, поискали бы среди полоняников, – раздумчиво изрёк Яровит.
Они сели за стол, челядинец принёс с поварни жаркое. Голодный Талец с жадностью приступил к еде.
Яровит, улыбаясь, смотрел на худое, измождённое лицо паробка.
– Ты, видно, ни грамоте не учён, ни ремесла никакого не знаешь? Да, упрям твой батька был. Я ведь хотел всю вашу семью в Чернигов забрать. Так нет, говорят. У тебя, мол, Яровит, своя жизнь, у нас – своя. Только позорить тебя своим худородством да сиволапостью будем. Ну, вот что! – Он хлопнул ладонью по подлокотнику кресла. – Жены у меня нет, детей Бог не дал. Ты, Талец, покуда единый наследник мой. Обучу тебя всему, что сам умею. Тебе весь достаток, все вотчины свои передам. Будешь боярином, не последним среди черниговских былей. На том и порешим.
Обалдело, со смешанным чувством испуга и радости смотрел Талец на дядю, усмехающегося в усы, и всё никак не мог понять, серьёзен тот или шутит. Наконец, постиг, что начинается для него совсем иная, новая жизнь. И весь окружающий паробка мир как бы раздвигается, расширяется, беспощадно врываются в его, Тальца, судьбу свежие струи пока ещё непонятного, но прекрасного в новизне своей этого бесконечно огромного мира. И отрок, взирая на дядю, слабо улыбнулся, чувствуя в его словах и жестах поддержку и участие.
Глава 23. Боярин Яровит
На княжеском дворе кипел ожесточённый бой. Вооружённые деревянными «турнирными» мечами младшие гридни – совсем ещё паробки с едва пробивающимся над губами пушком, со страстью наносили друг другу удары. На синяки, кровоподтёки, ссадины внимания не обращали – это было обычным делом. Да и пристало ли воину ныть и жаловаться на пустяковые царапины?! Терпеливо, стиснув зубы, кружили паробки по стоптанной, покрытой кое-где жухлой травой земле. Старшие, встав поодаль, усмешливо и одобрительно кивали головами.
Удалой богатырь Ратша, сбросив остроконечный шишак, молодецки тряхнул льняными кудрями. Всех перемог он в короткой яростной схватке. Побитые боярские сыны и вскормленники черниговской дружины хмуро вытирали кровь с лиц, досадливо морщась, растирали ушибленные места.
Расправив крутые плечи, Ратша горделиво глянул в высокое оконце на верхнем жиле терема. Там виднелась белокурая головка юной красавицы Миланы. Маленькая рука приветливо махнула ему шёлковым платочком.
С шумом раскрылись провозные ворота. Во двор въехал в нарядной свите боярин Яровит. Не спеша спустился с седла, передал поводья одному из гридников, только что «сражённому» Ратшей.
– А что, боярин! Давай с тобою биться! – задорно выкрикнул Ратша. – Не деревянными мечами – харалужными, вострыми! До крови!
В дружине не любили Яровита, его считали человеком умным, но хитрым и далёким от прямоты и искренности. Никогда Яровит не участвовал в их поединках, не гремел железом, не хвалился попусту. Никто не видел его ни на рати, ни на охоте, только в думе княжеской он выделялся и всегда был готов дать дельный совет. Бояре презирали его как выскочку, невестимо какими путями добравшегося до богатства и власти. Да и сам князь Святослав, похоже, не особенно жаловал Яровита, хотя и старался с виду ничем не показать своего недоброжелательства. Но Яровит, немало повидавший на своём веку, проведший месяцы и даже годы в трудных посольских поездках, видевший Эстергом[202] и Прагу, Роскильду[203] и Сигтуну[204], Сауран и Сыгнак, Царьград и Охриду[205], встречавший разных людей и познавший разноличную иноземную молвь, всё подмечал и втайне досадовал.
Чересчур распустил Святослав свою дружину. Слов нет, люди у него храбрые, смелые – такие любому князю завсегда надобны, только вот заносчивы они, спесивы сверх всякой меры. Взять хотя бы этого Ратшу.
– Ну, чего молчишь? – смеялся раскрасневшийся молодец. Подбоченясь, он нагло взирал на холодного Яровита.
– Сором мне с тобой тут, – спокойно ответил боярин. – Чем похвальбой безмерной забавляться да попусту кулаками махать, каким добрым бы делом занялся.
– А что, Яровит, дело ратное – не доброе? – с издёвкой спросил пожилой седатый дружинник Воеслав.
Облачённый в дощатую бронь, он держал в руке сверкающий на солнце булатный шишак.
– Доброе, – кивнул Яровит. Боярин старался не отвечать на колкие насмешки. – Только вот кичиться своей силой – глупо и соромно.