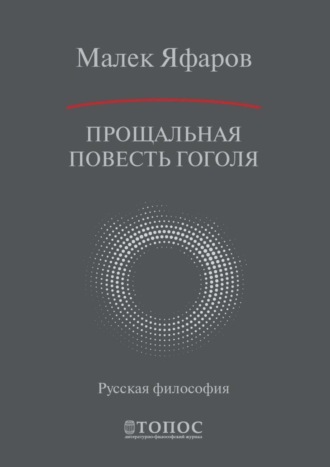
Полная версия
Прощальная повесть Гоголя
Ещё в отрочестве Гоголь, потрясённый смертью младшего брата, начинает волить смерть, не хотеть смерти, а именно волить, то есть направлять своё внимание на смерть, которую ему предъявляет и разворачивает жизнь, стихия творения и становления. Когда, вскоре после смерти брата, умер и отец Гоголя, то у юноши были видения блистательного огненного ангела в виде прекрасной женщины, которые позже он опишет в «Женщине» и во многих других местах, например, в «Тарасе Бульбе» и «Вие». Скорее всего, уже тогда он понял, что это видение смерти и что это видение будет много значить в его жизни, но что именно, ему было тогда еще не понятно.
В Петербурге, через некоторое время после того, как он туда переехал, с ним происходит следующий случай: в некой конкретной женщине, с которой он знакомится, видимо, при странных обстоятельствах, возможно, как Пискарев даже в борделе («Невский проспект»), он узнаёт своё прекрасное видение, что производит на него сильнейшее впечатление: как минимум, он понимает, что у него не может быть семейной жизни, о которой он, как Чичиков или Подколесин, немало мечтал, и, как максимум, что ему предстоит скорая или особенная смерть.
Правильно, конгруэнтно, во всей полноте воспринимать литературу и поступки Н. В. Гоголя можно только с учётом этих очень для него важных и решающих обстоятельств, в результате которых великий писатель начинает понимать, что его призванием станет смерть, точнее, возвращение смерти в культуру жизни, восстановление утерянного феноменом смерти места в целостности русской и даже общечеловеческой культуры, возвращение феномену смерти его действительного места в единстве всего. Смерть как дело любви, как сестра жизни.
Третий раз видение произошло с Гоголем в Вене, когда он уже окончательно понял, какое именно служение, какое подвижничество ему предстоит.
Я хочу пояснить, что на практике как партийное, в том числе коммунистическое, так и церковно-конфессиональное мировоззрения к видениям человека относятся одинаково негативно, хотя и по разным причинам: для церкви видения – это не целостные человеческие переживания (состояния), а экзальтация, прелесть, соблазн, обольщение человека, для идеологии – это индивидуальные извращения, функциональная патология.
5. Служение и литература
Русское и советское литературо- и гоголеведение настаивают на том, что своим истинным и единственно значащим служением Н. В. Гоголь полагал литературное поприще; биограф и критик Ю. Золотусский считает, что Гоголь даже умер поняв, что исписался! обычно такими объяснениями изживаются собственные внутренние проективные представления.
А Гоголь предъявлял в качестве своего служения вполне простые и понятные смыслы:
– служение обычное: быть хорошим человеком среди близких и в обществе, быть хорошим христианином, честно служить, исполнять на своём месте свой общественный долг, будь ты государь или инвалид;
– служение личное, именно и только данного человека; своим служением Гоголь воспринимал то, на что призвала его жизнь: возвращение феномену смерти его подлинного места, для чего требовалось видеть её живую, постоянно в течении всей жизни удерживать во внимании красоту, торжество и величие смерти, чтобы в какой-то момент быть готовым к тому, чтобы увидеть, воспринять, пережить её во всей её полноте и совершенстве, «заживо предстоять вечности», как говорил Н. В. Без понимания этого Гоголь превращается в странного, загадочного, фантастичного человека, а его произведения – только в смех над пошлым, пасквиль, карикатуру и фантасмагорию.
Таким видением смерти Гоголь служит своему народу, потому что мы, русские, отчаянно нуждаемся в возвращении торжества и величия смерти. Страх своей смерти, восприятие смерти как тьмы, как врага живущего и чудовища заставляет каждого русского человека не только просто бояться смерти, но и слишком цепляться за свою жизнь, и это приводит к тому, что люди начинают невольно творить зло. Восстановление утраченного древнего единства жизни и смерти, исчезновение страха смерти и вызываемого этим страхом зла – вот что полагает своим служением Гоголь, полагает не сам, не внешним внушением, а всем единством, всей целостностью своей жизни.
Как только мы открываем то, в чём заключается для Н. В. его служение, вся жизнь Гоголя – его скитания, отказ от имущества и собственности, литература, письма, театр, и, наконец, «прощальная повесть», приобретают глубокий, последовательный, понятный и сопереживаемый смысл. Более того, мы до сих пор, а прошло уже почти два века, не только не начали ту культурную работу, которую начал Гоголь, но даже не знаем и пока ещё не хотим знать того, что она нам предстоит. Если, конечно, мы собираемся жить полной культурной жизнью, которая невозможна без – намеренного, продуманного, осознанного отношения к смерти. Без культуры смерти.
Н. В. Гоголь показал нам, что смерть каждого человека – это «общее дело» всех, что мы, русские, не должны оставлять человека одного в его предстоянии смерти, в страхе, мы должны начать новый культурный опыт – «живого предстояния вечности», живого опыта предстояния смерти. Пока мы не развернёмся в эту сторону, над нами будет довлеть ужас смерти и неизбежно сопутствующий ему приоритет отдельности своей жизни, а это пагубно и для русской культуры, и для русского человека в онтологическом смысле.
6. Вера
В нашем литературоведении Н. В. Гоголя принято наделять неким стандартным набором качеств «настоящего художника»: ранней серьёзностью и взрослостью, мнительностью, скрытностью, фантасмагоричностью, экзальтацией (особенно религиозной), противоречивостью. Здесь помогло бы удержаться в рамках достоверности внимание к тому, что этот человек сумел заставить народ веселиться и смеяться, и даже император, критики и наборщики в типографии не избежали тёплого обаяния его «Вечеров…» Такая радость никак не могла быть порождением сумеречного духа. Недоумение у гоголеведов не возникает потому, что для них именно такой – странный, скрытный, неврастеничный человек и есть образ настоящего художника, гения.
Партийное и особенно советское литературоведение должно быть весьма благодарно разработанному Белинским представлению о том, что творчество и человек отделены друг от друга и потому в критике стало возможным так интерпретировать жизнь писателя, чтобы рассматривать его творчество отдельно от него самого, игнорируя черты, которые не вписываются в «нужную» тенденцию. Отделив человека от того, что он делает, совкритика закрыла себе понимание таких важных вещей, как уникальность веры Гоголя. Когда не отделяешь его человеческую жизнь от того, что он делал и писал, то как раз и видишь совершенно нормальное, последовательное возрастание, взросление человека в той вере, в какой он родился и воспитывался. Пережитые смерти брата и отца ускорили и углубили его развитие в вере, а сопровождавшие эти события видения – осложнили.
Для меня очевидно, что процесс действительного воцерковления, насыщения, сначала по необходимости, ритуальных действий соответствующим содержанием проходил у ребёнка обычным образом, как у всех, кто рос в православном мире, в православной семье. Поэтому в отношении Н. В. Гоголя к вере не было никаких странностей и непонятностей: он с детства был православным, насколько сначала ребёнок, а потом юноша, а потом молодой человек и, наконец, взрослый, зрелый человек может быть православным; в его духовном развитии нет сбоев, нет каких-то специальных особенностей естественного накопления опыта верующим человеком.
Даже его видения вполне органично вписываются в его религиозные переживания, для Н. В. эти видения не были чем-то выходящим за пределы его и других веры! Он никогда не воспринимал это как ересь и сектантом себя не считал. Наоборот, наличие несомненных свидетельств того, что его вера жива и даёт свои плоды, ещё больше укрепляло его дух; здесь нет никаких противоречий, всё очень последовательно и понятно. Постепенно Гоголь всё больше подчиняет свою жизнь проясняющемуся для него способу служения своим соотечественникам.
Другое дело, что эти соотечественники могут совершенно не понимать служения Гоголя, более того, не только не понимать, но наверняка даже осуждать, в том числе и церковь; однако, это не становится для него решающим аргументом, поскольку и его литературные и публицистические произведения были восприняты этими же самыми людьми совершенно не в том смысле, какой в них вкладывал сам писатель: дело было не в том, что в его произведениях было что-то не так, а в том, что явно что-то не так было с самими людьми!
Н. В. Гоголь видел, что изъян был в человеческом сознании: как они не понимают «Миргород» и «Ревизора», так они не воспримут и «Прощальной повести»; он был очень трезв в оценке того, как «прочтут» эту повесть современники, поэтому служил им вполне бескорыстно, не надеясь получить от них точно понимаемого признания и примирения, что, конечно, очень хотелось бы такого человеку, который чуждался всякой вражды в личном общении с людьми.
Почти всех его героев хоронят без сочувствия и многих даже без обрядов (кстати, это в книге Юрия Манна «Поэтика Гоголя» подмечено верно). Если вспомним философа Хому Брута, то, хотя он и сделал то, что мало кому под силу – отпел смерть как чудовище, но в результате никто ничего не заметил и даже о месте этом забыли. А ведь именно панночка-смерть выбрала Хому-Гоголя для этого священнодействия! Когда стало приближаться время исполнения этого служения, живого предстояния Ангелу Смерти, Н. В. всё больше внутренне концентрируется, готовя себя к предстоящему подвигу; люди замечают изменения в нём, но в абсолютном большинстве воспринимают поведение Гоголя как чрезмерную экзальтированность, что подхватили наши гоголеведы, которых мне хочется назвать «гоголеводами».
Я утверждаю, что без понимания решающего служения Гоголя, его прощальной повести, его подвижничества, невозможно адекватно судить о его отношении к вере.
7. Смерть или «Прощальная повесть»
Подвиг русской земли, шедевр русской культуры – «Прощальная повесть» Н. В. Гоголя осуществлена им решительно и в то же время удивительно просто; это не был спонтанный порыв, всё было тщательно подготовлено. Анонсирование «Прощальной повести» Гоголь разместил в своём «Завещании», которое открывает опубликованную им в 1847 году книгу «Избранные места из переписки с друзьями». «Завещание», обращённое ко всем соотечественникам, обеспечивало автору максимально возможное ожидание всеми «Прощальной повести».
В самом «Завещании» он назвал «Прощальную повесть» «своим лучшим произведением», ещё более повысив градус внимания и интереса; объяснил, что это не поучение, не пример для подражания, а его служение (наследие, наследство) всем русским людям, что повесть нельзя прочесть, но можно услышать только сердцем, что он её не выдумал, что она родилась сама в сокровенных истоках русской культуры и русской породы, в которой все русские – родственники. В заключение Н. В. написал, что «Прощальная повесть» может явиться только по смерти, значит, до исполнения сказать об этом больше ничего нельзя и закреплением, подтверждением его повести-служения служит именно его смерть; да и в самом названии – «прощальная» уже заключен этот смысл: своей «повестью», то есть смертью, Гоголь прощается со всеми своими соотечественниками. Завещание написано сразу после «венского случая», который русские гоголеведы считают болезнью писателя, но мне очевидно, что основным содержанием этих событий было видение, которое, похоже, окончательно удостоверило Гоголя в том, какое именно служение ему предстоит и, возможно, даже со знанием его срока. Состояние и видения Н. В., о которых рассказал ходивший за ним русский купец, не порождение болезни; само видение так сильно потрясло его глубиной, величием и торжественностью открывшегося ему «замысла», «сюжета» его «сокровища», как называет он свою «Прощальную повесть», что он физически изнемогал под избыточностью этого впечатления.
Прощальная повесть – не литература, а если и литература, то только в смысле литература жизни, а не жизнь литературы, это повесть самой жизни Гоголя, поэтому полагать литературу самым важным делом для него, как это делает абсолютное большинство наших критиков, значит самого существенного в этой жизни не видеть. Так Игорь Золотусский внушает нам, что «судьба его – быть прихлопнутым обложкой недописанной книги». Какое презрение и слепота «главного» биографа Гоголя!
С момента «венского видения» жизнь Н. В. неминуемо наполняется переживанием и подготовкой к предстоящему служению, подвигу, в котором литература занимает довольно отдалённое место; предыдущие исследователи правы в том, что «Прощальная повесть» относится к «Избранным местам из переписки с друзьями», но только в этом, очень ограниченном смысле, не более того. Насколько объемна, тотальна, как говорят сейчас, предстоящая великому человеку задача, настолько он стремится расширить свой и других кругозор во взгляде на жизнь в целом.
«Избранные места…», как и вообще все свои литературные, драматические, публицистические, научные и эпистолярные произведения Гоголь рассматривает лишь как часть, элемент более всеохватывающего служения людям. И действительно, культурная задача восстановления торжества и величия феномена смерти, восстановление разорванного континуума русской культуры, в котором смерть превратилась в чудовище, которое преследует человека, гораздо более для всех значительна, существенна и грандиозна, чем любая литература, театр или публицистика.
Мы не знаем, было ли четвёртое и последнее видение, которое определило окончательный срок «Прощальной повести», но, скорее всего, оно было, косвенным свидетельством этого служит изменение решения Н. В. ехать на свадьбу сестры, посещение им Оптиной пустыни и отмеченные многими перемены в его поведении. Сейчас мы всего не знаем, но и этого вполне достаточно; Гоголь оставил нам всё, что нужно. Привести в исполнение задуманное и то, что готовил десятилетия, он должен был обязательно на людях, хотя, конечно, ему намного легче было бы сделать это в уединенном месте, но, как и Остапу Бульбе, ему пришлось смотреть на смерть живым на людях, в обществе, так, чтобы его намерение было засвидетельствовано, пусть даже неосознанно, без понимания (или даже с пониманием того, что он – сумасшедший).
Конечно, «Прощальная повесть» – не демонстрация намеренной смерти, ни в коем случае, принародность была её условием, но не содержанием; люди должны были видеть, зафиксировать, пусть не понимая, то, что потом, в будущем, на которое только и надеялся Н. В., станет людям понятно. Содержанием этого великого действа было удерживание живого, полного любви внимания на смерти во всей её полноте, величии и ужасе! Гоголь знал и предвидел всю степень страха, который предстоит ему испытать, так как ему придётся иметь дело со всеми теми чудовищами, семена которых он посеял в течение своей жизни и которые, тысячекратно усиленные, предстанут и будут терзать его как его собственные порождения. По сравнению с этим ужасом предстояния порождённым им самим монстрам, то, что его мучили непонимающие его люди (и друзья, и доктора), пытавшиеся насильно его лечить, было гораздо терпимее для него, имеющего очень большой жизненный опыт непонимания себя окружающими. В качестве некоторого своего утешения Н. В. Гоголь в последнем варианте «Тараса Бульбы» описал, что смерть Остапа, которого мучают и пытают враги, видел его отец – Тарас Бульба; сам он такого утешения не получил: ни отца, ни твердого понимающего его человека рядом с ним не было. Соотечественники и друзья, «Прощальная повесть» Гоголя живёт в нашей русской культуре, живёт в нас, не как литература, а как тот жизненный опыт, который мы ещё в себе не знаем, но который сегодня начинает приоткрываться нам во всей своей красоте, ужасе, величии и простоте.
Произведения Н. В. Гоголя
1. «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831—1832)
Переживание и восприятие жизни как торжества, великолепия, упоения, сладострастия – это прямое наследие древней цивилизации, проявленное в русском человеке совершенно невольно, естественно, само собой, по привычке. Это матричное состояние стало субстратом ранних лет Н. В. Гоголя и задало поэтику его мировосприятия; оно же стало основой написания «Вечеров».
Пафос здесь не в лирических отступлениях, не в карнавальности, не в комизме, не в сатире, не в фантастичности или, наоборот, повседневности сюжетов и персонажей, на чем настаивают наши литературоведы, он явно – в торжестве и величии жизни, полноте «одной и той же жизни» (Б. Пастернак), жизни всего. Творение, сущее не озабочено отдельным, оно наполняет существующее собой естественно, невольно и непринужденно, от избытка. Здесь не место мелочности и измерениям. Жизнь не прикидывает, не спрашивает и не требует; заставлять и выбирать ей чуждо также. Она наполняет всё до краёв, по максимуму, без ограничений и условий, предельно; не отделяя хорошее от плохого, высокое от низкого, малое от большого, красивое от безобразного, наполняя собой всё сущее.
Поэзия Н. В. Гоголя – это музыка безусловной и бескрайней жизни, величия и торжества творения, взламывающего любые опрокинутые на него человеком границы, как бы тот ни пытался убежать и скрыться от этого.
Сущее не преследует человека, не связывает его обязательствами и не стесняет ограничениями. Русская поэзия в том, что живой человек свободен, свободен абсолютно и безусловно, жизнь-эгрегор от него ничего не требует и не навязывает, она наполняет человека собой, даром и ничего не спрашивая взамен. Художник замирает в восхищении перед грандиозностью поступи жизни, перед её «великим безразличием» ко всему, к абсолютно всему, что она собой наполняет.
Жизнь везде, всегда, во всём – «одна и та же жизнь»! Эта наполненность не может не веселить! Этот триумф не может не восхищать! Эта беспредельная свобода и человека, и всего сущего окрыляет и наполняет русского богатырской силой.
Каждое слово Н. В. Гоголя пронизано этими высокими чувствами. Без понимания этого – глубокого, древнерусского восприятия и переживания стихии жизни, этого «мирового эфира», истинное понимание Гоголя невозможно; без «торжества жизни» теряется решающая основа творчества и самой жизни великого русского писателя.
Н. В. Гоголь – поэт старого, древнего, русского «света»; светящейся внутренней сути как действующий причины наличного, актуального, всё ещё явленной в «дрязге существования». Именно поэтому его влияние на Россию было так сильно: каждый, от императора до наборщика типографии, читая Гоголя, узнавал себя «молодым, живым, весёлым человеком». Каждый русский переживал, узнавал себя русским, даже не отдавая себе отчёта в том, что с ним происходит.
Мы так уже привыкли к таким описаниям, что проскакиваем мимо них как замыленных. Да, поэтичного, да, вдохновенного, да, торжественного, но в то же время – слишком привычного сентиментального словесного описания, требующего для своего восприятия от читателя, как нам кажется, некоторого воображения, некоторой несовременно развитой впечатлительности.
Сегодня такая литература не воспринимается нами непосредственно, живьём, как есть, иначе бы и мы, и критики, обратили бы внимание на то, что описание Н. В. Гоголем и летнего дня, и летней ночи порождено не его воображением, не его чувствительностью, не тонкостью и поэтичностью его впечатлительности, а совершенно другим, более всеобъемлющим и глубоким, что мы как раз можем и должны чувствовать в себе во время чтения как происходящий сдвиг, как оживающее в нас восхищение этим миром, всем, что ни есть в нём.
Это рождающееся в нас восприятие и переживания мира как живого целого находится очень глубоко и нелегко приходит в движение, но, когда приходит, не заметить его невозможно даже для человека невосприимчивого и толстокожего.
Это всё ещё живущий в нас дух древней русской культуры – восприятие и переживание мира как живого необъятного величия и торжества – действительная живая основа нашей души. Удивительная способность Гоголя передать, выразить, запечатлеть, насколько это вообще возможно человеку, несомненно в полноте испытываемое им самим, – восприятие и переживание единства всего сущего, живого единства «всего что ни есть», стала настоящей причиной того, что каждый русский человек, читавший сам или слышавший читаемые ему повести Гоголя, невольно! переполнялся оживающим в нём древним русским наследием – радостью, веселием, торжеством.
Впечатление – сильное, последствия – разные, уникальные. Как именно потом этот русский читатель воспринимал себя таким «невольно ожившим», во время чтения и после него, это важно, но не первостепенно; первым же и решающим является то, что он невольно оживал как русский, как принадлежащий континууму русской культуры. Даже современный читатель, оснащенный внушительным арсеналом всевозможных средств обращения с текстом и с самим собой как читающим, не может избежать этого, оживая так же, как и русский человек начала XIX века, хоть незначительно и почти для себя незаметно и неощутимо. По крайней мере, пока он ещё культурно русский, то есть живущий в доминирующих матрицах русской культуры, в которой одной из основных является именно матрица единства всего живого, триумфа самой жизни как демиурга. Современники Н. В. Гоголя, не имевшие ещё нынешнего объёма опыта чтения и в этом смысле более восприимчивые и, следовательно, более беззащитные, гораздо легче, глубже, основательнее, можно сказать даже – полностью, попадали под влияние его прозы, невольно и нечаянно для себя воссоздавая это уникальное целостное наследие нашей культуры.
Понимание этого существенно и обязательно для литературоведов. Н. В. сам это очень хорошо знал и неоднократно говорил о том, что его основной жизненный, научный, общественный, публицистический и литературный интерес заключается именно в глубоком, тщательном и всестороннем изучении, раскрытии и оживлении! древней, старой культуры, «русского старого света». Это в полной мере стало базовым содержанием его жизненного служения.
Безупречен язык Гоголя. Так смущающий наших литературоведов отрывок целен и совершенно недвусмыслен: странное и неизъяснимое чувство охватывает того, кто наблюдает вольное и невольное обращение всего, в том числе даже, казалось бы, уже почти бесчувственных старушек, а не только молодого, смеющегося, живого человека, к единству и согласию. Сила общего культурного действа захватывает всех.
Н. В. Гоголя и волнует, и интересует вольное и особенно невольное обращение, вовлечение всего в стихию единства и согласия, в стихию народного, старого (древнего) действия, события.
Тогда, когда заканчивается объединение всего в общее, когда тает единство и согласие, человек остаётся в одиночестве, ему становится пусто и глухо.
И всё же ткань русской жизни растянута от торжества и величия до мрака и ужаса и только в единстве этой протяженности сохраняет свой смысл и целостность. Жизнь прекрасна и удивительна, но и ужасна и отвратительна.
Н. В. Гоголю, пережившему раннюю смерть самых близких, это слишком знакомо.
Без мрака нет света, без ужаса нет радости, без безобразия нет красоты, без колдовства нет молитвы, без печали нет любви, без смерти нет жизни; все едино и сохраняется только в этом единстве.
Отчуждение даже одного феномена необратимо меняет все, тем более всё искажается отчуждением феномена смерти и связанных с ним – пустоты, мрака, тоски; человек отделяется и начинает бояться смерти, «бежать ее», закрывать глаза на темное и страшное.
С потерей смерти как феномена в нашей ментальности потерялась и цельность, сдвиг смерти в тень затемнил и феномен жизни, человек стал избегать полноты её экзистирования, подчиняя её контролю. Н. В. Гоголя это удивляет и огорчает.
Автор «Вечеров на хуторе близ Диканьки» – это человек, который полностью, на максимуме, на пределе возможностей, пережил все градации прекрасного и одновременно – безобразие, мрак, ужас одной и той же жизни. Эта полнота неизбежно меняет личность, опыт сгущается и становится основой нового состояния.
Н. В. Гоголь с грустью осознаёт, что время полноты детства, время нечаянной, невольной захваченности древней традицией, или, как говорит Толстой, время «привычного от вечности», время свободного, непринуждённого, «бесцельного полёта» (Блок) уходит, оставляя в душе пустоту, скуку, тяжесть и печаль.
Такова судьба каждого русского человека: невольная соединённость со всем живущим неотвратимо меняет его, человек зреет и осознаёт свою отдельность, безвозвратную отделенность от единства всего.
«Как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии! Как томительно жарки те часы, когда полдень блещет в тишине и зное и голубой неизмеримый океан, сладострастным куполом нагнувшийся над землею, кажется, заснул, весь потонувши в неге, обнимая и сжимая прекрасную в воздушных объятиях своих! На нем ни облака. В поле ни речи. Все как будто умерло; вверху только, в небесной глубине, дрожит жаворонок, и серебряные песни летят по воздушным ступеням на влюбленную землю, да изредка крик чайки или звонкий голос перепела отдается в степи. Лениво и бездумно, будто гуляющие без цели, стоят подоблачные дубы, и ослепительные удары солнечных лучей зажигают целые живописные массы листьев, накидывая на другие темную, как ночь, тень, по которой только при сильном ветре прыщет золото. Изумруды, топазы, яхонты эфирных насекомых сыплются над пестрыми огородами, осеняемыми статными подсолнечниками. Серые стога сена и золотые снопы хлеба станом располагаются в поле и кочуют по его неизмеримости. Нагнувшиеся от тяжести плодов широкие ветви черешен, слив, яблок, груш; его чистое зеркало – река в зеленых, гордо поднятых рамах… как полно сладострастия и неги малороссийское лето!»



