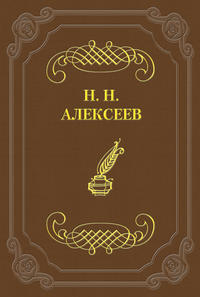полная версия
полная версияРозы и тернии
Когда Кэтти исполнила его требование, он не спеша открыл Евангелие от Матвея, перевернул несколько листков и, поднявшись с кресла, торжественно прочел:
– «А я говорю вам: не клянись вовсе! Ни небом, потому что оно – Престол Божий; ни землею, потому что она – подножие ног Его: ни Иерусалимом, потому что он – город великого Царя. Ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше: да, да, нет, нет»…
Старик закрыл Библию, положил на стол и промолвил:
– Вот мой ответ. – Потом холодно добавил: – Уже поздно… Иди спать, Кэтти!
Внучка безмолвно поцеловала его и направилась к двери. Выходя из комнаты, она прошептала:
– Пусть же и мое «да» будет «да»!
IV. Прерванная беседа
В большой комнате одного из лучших лондонских домов, отведенном для русского посольства, медленно прохаживался, мягко ступая по ковру, устилавшему пол, Павел Степанович Белый-Туренин.
Князь Алексей Фомич сидел тут же в кресле с резною спинкою, задумчиво опустив голову. Оба молчали.
Павел, прохаживаясь, с легкой усмешкой поглядывал по временам на своего приятеля, приостанавливался, будто собираясь что-то спросить, но отдумывал и продолжал прохаживаться. Князь Щербинин не замечал улыбки Павла; вряд ли он даже помнил о его присутствии, его голова была полна дум, и, по обыкновению, поэтический ум молодого князя перерабатывал эти думы в образы. Воображение рисовало ему далекие поля родной Руси; он видел знакомую, полузанесенную снегом усадебку. Вон по гулким от мороза ступеням крыльца сбегает закутанная в шубку боярышня. Тянет ее к памятным местам: идет она в сад, где теперь обнаженные деревья низко клонят ветви от тяжести насевшего на них инея. Дуб-великан гордо возвышает свою побелелую от морозного налета макушку и, насквозь пронизанный косыми лучами зимнего солнца, кажется старцем седым, величавым среди внучат-малолеток. Здесь, в то время, когда шумели на дубе узорные листья, часто встречалась она с милым. Как теперь здесь пусто и печально! Тих сад – словно заснули деревья в эту студеную пору, чтобы не чувствовать злых вьюг и метелей и проснуться тогда, когда вновь теплый, ласковый ветерок качнет их вершины, а солнце вызовет на свет божий зеленую пушистую почку… Отчего и ты, сердце девичье, не замрешь так до поры счастливой, а бьешься тоскливо в груди и слезы на очи вызываешь? Видит князь Алексей, как выпала крупная слеза из глаза боярышни и покатилась по щеке, слегка разрумяненной от мороза. И чувствует он, что и его сердце сжимается тоскливо и к глазам слезы подступают…
Тяжело вздохнул он всею грудью…
– Полно тебе! Чего ты хмуришься все, что день осенний! – не выдержал наконец и промолвил, услышав этот вздох, Павел Степанович.
– Да ведь и веселиться не с чего! – ответил, не поднимая головы, Алексей Фомич.
– Веселиться – не веселиться, а уж одно то занятно, что страна диковинная!
– Мне бы на Русь поскорей.
– Гмм!… – пожав плечами, пробурчал Белый-Туренин. – На Руси-то еще насидимся. Да и что там? По мне, так здесь много лучше.
– Вот тебе на!
– А, ей-ей, здесь лучше! Перво-наперво, свободней – что хочешь, то и делай, никто тебе слова не скажет, вестимо, если не богопротивное что, а потом… Да вот, видал ли ты в Москве что-нибудь похожее на то, как королева Лизавета в Лунд въезжала?
– Что говорить? Хорошо! На трубах, это, гудят так, что дух замирает, огни блещут среди тьмы ночной, и князи да лорды эти самые едут на конях чинно. Латы звенят да серебром либо золотом отливают, шеломы блестят, перья на них развеваются…[12] Красиво и за сердце хватает, а все ж…
– Вот видишь! – не дал ему докончить Павел. – А ты все нос вешаешь! Тут что ни шаг – то диковинка. Глазей только! А в Москве что? Тоска смертельная! Да и народ хороший. Одно скверно…
– Что?
– Да что басурмане они. Вон намедни в соборе ихнем бискуп служил… И благолепно, и все такое, а не то, что у нас… Еретики – известно! С православными где ж равняться! А так народ ладный.
– На Русь тянет.
– Ты все свое! Меня так нет, хоть еще год.
– А про жену забыл?
– Ну, что жена! Коли по бабе скучать, что и будет.
– Видно, не бывало у тебя зазнобушек!
– Да и не будет – потому глупство одно.
– Ой ли?
– Право слово, глупство!
– Смотри, брат! Приглянется тебе какая-нибудь девица, хоть и женат ты – иное говорить будешь!
– Приглянется? Так что ж? Приглянулась мне тут недавно одна, на улице встретил – я ведь день-деньской по городу шатаюсь, не сижу, как ты, сиднем, – краснощекая такая, полногрудая. Из крестьяночек, кажись. А надо сказать, что я говорить маленько по-здешнему выучился.
– Ну? Когда успел?
– Успел? Слава богу! Без мала полгода здесь уж мы. Плохо говорю, а все ж кой-как могу что надо сказать. А сам все понимаю, что мне говорят. Ну так вот, приглянулась мне. Я с ней рядком пошел и начал прибирать, что в ум пришло, а потом легонько за стан ее обнял…
– Ай, греховодник! – улыбаясь, проговорил князь. – Вернемся в Москву – скажу жене твоей. Задаст она тебе!
– Погоди, погоди! Послушай, что вышло. Я ее легонечко обнял, а она меня тоже легонечко по щеке – хлясть! – досказал Павел и расхохотался.
Засмеялся и Алексей.
– Ну и что же ты?
– Ну и ничего! Отошел подальше от нее. Что… это? Слышишь?
С улицы долетал глухой шум.
– Да. Кричат чего-то, – ответил Щербинин, прислушиваясь.
Шум рос. Слышались яростные крики, бряцание и лязг оружия.
– Бой, что ли, там идет? – в недоумении проворчал Павел. – Надо пойти поузнать, – добавил он, бегом бросаясь к дверям.
В это время из соседней комнаты поспешно вошел Микулин. Он был в шеломе и с саблей. Несколько вооруженных слуг следовали за ним.
– Братцы! Берите сабли да идите за мной следом! – вскричал он.
– А что такое? – в голос спросили приятели.
– В городе бунтарят. Граф какой-то супротив королевы мятеж поднял. Пойдем биться за королеву.
– Я готов, – сказал Павел, прицепляя саблю к кушаку и надев шапку. – Любо подраться!
Князь Алексей тоже не замедлил. Все гурьбой поспешили на улицу.
V. Битва
На улицах кипела битва. Чернь, вооруженная топорами, вилами, кольями и чем попало, матросы с короткими остроносыми ножами в руках, торговцы, кто со шпагой, кто с старым ружьем – все перемешались, все потрясали оружием, неистово кричали:
– За королеву! За королеву!
На этот крик им отвечали немногочисленные голоса, вырывавшиеся из там и сям рассеянных групп: «Эссекс! Эссекс!»
– За королеву! – завопил Микулин по-русски.
– За королеву! – ответили по-русски же следовавшие за ним и вмешались в сечу.
Сразу было видно, что силы неравны: с одной стороны, чуть не все наличное население Лондона, с другой – горсть мятежников. Но эта горсть страшна своим отчаянным мужеством. Им ясно было, что дело Эссекса проиграно, оставалось только дороже продать свою жизнь. Они так и делали и рубились, кололись без устали, кидаясь один на десятерых и хрипло выкрикивая: «Эссекс!»
Кроме того, они все были несравненно лучше вооружены, чем бившиеся против них люди. Только войска королевы могли поспорить с ними в вооружении, но действовать этим войскам мешала слишком усердная толпа, представлявшая из себя не более как сброд, хотя и многочисленный и не робкий, но слишком беспорядочный и малоподвижный. Серая кричащая беспорядочная толпа казалась морем, отряды мятежников – утесами среди бурливых волн. Вмешавшись в толпу сражающихся вместе с Микулиным, князем Алексеем и другими, Павел Степанович, сам того не замечая, постепенно отделился от них. Он пробирался туда, где бой был наиболее жарким, откуда неслись наиболее яростные крики. Это ему удалось сделать после немалых усилий. Он увидел небольшой, человек из семи, отряд мятежников. Закованные в латы, полные презрения к наступавшей на них беспорядочной толпе, мятежники бились как львы. Прижавшись плечом к плечу, они стальной стеной встречали противников; то и дело поднимались их длинные дворянские шпаги и, сверкнув тусклым блеском, вонзались в тело врага, буравили кости своим твердым как камень и острым как игла граненым клинком и вновь поднимались, чтобы через мгновение опять опуститься. Вопли ярости и проклятья неслись со всех сторон, обезумевшие от бешенства матросы и рабочие кидались десятками на врагов, подставляя свою широкую, ничем не защищенную грудь, падали смертельно раненные, бормоча ругательства или молитву, а стальная стена обрекших себя на смерть латников стояла по-прежнему плотной, непоколебимой, ощетинившейся давно окрашенными кровью клинками, и ответом яростным воплям нападавших было только глухое: «Эссекс! Эссекс!»
Среди бойцов выделялась фигура старика. Он был без шлема и панциря. Длинные седые волосы, падавшие на плечи, слегка шевелились от ветра, густая борода казалась еще белее от контраста с темным одеянием старика, широким и длинным, неудобным для битвы.
Единственным оружием седого бойца был огромный меч, и он им так работал, что Павел залюбовался.
– Ай, старче! Вот рубится! Ну, молодчинище! – бормотал Белый-Туренин в восхищении.
Сердце молодого боярина было полно жаждою битвы, но не такой, какая велась здесь, где только старались достать друг друга концом шпаги или зубцами вилы; ему хотелось рукопашной битвы, такой, чтобы вот схватиться с врагом грудь на грудь, сдавить его в медвежьих объятиях так, чтоб косточки противника затрещали, или сечься саблями один на один да приговаривать: держись, братику, немчин аглицкий! – а потом просечь булатом его буйную головушку вместе с шеломом пернатым.
– Не по-нашему бьются, не по-нашему! – бормотал Павел, все более и более протискиваясь, вперед, и когда очутился в первом ряду, на шаг от мятежников, вдруг, рявкнув по-английски во всю мочь своих легких: «За королеву!» – отбил своей саблей в сторону направленные на его грудь клинки шпаг латников, кинулся на их стальную стену и прорвал ее. С радостным воплем кинулась за ним толпа. Ряды мятежников были смяты, разбиты. Каждый из них теперь должен был биться отдельно от другого.
Началась рукопашная схватка…
VI. Жестокость и милосердие
– Дорвался-таки! – воскликнул Павел, когда начался рукопашный бой, и старался отыскать себе достойного противника.
«Со стариком лихим разве побиться?» – раздумывал он и направился было к тому месту, где бился старик, когда ему преградил путь один из мятежников. Это был высокий, стройный мужчина; широкие плечи говорили о его силе, а мрачно сверкающие глаза не сулили добра его противнику.
– А! Вот и ворог есть! Что ж! Побьемся! Чай, потом еще и со стариком подраться успею, – проворчал Павел Степанович, встречая своей саблей шпагу противника и отбивая удар.
– Не бывать тебе больше в битвах, варвар! – глухо промолвил противник боярина, готовясь нанести новый удар.
– А это мы посмотрим еще! – кое-как ответил ему по-английски Павел.
Англичанин горячился и наносил удар за ударом, шпага его так и мелькала в воздухе, но боярин, улыбаясь, отбивал удары. Он, казалось, забыл об опасности и только забавляется боем. На лице противника выступили крупные капли пота, а Белый-Туренин чувствовал еще себя вполне свежим.
– Э! Не пора ли кончать? – промолвил он после почти четвертьчасового поединка и сильным ударом вышиб саблю из рук англичанина. Тот, вне себя от бешенства, кинулся на Павла.
– А! Вот-вот! Это по-нашему! – воскликнул боярин, оставляя свободно висеть саблю на петле, которая надевалась на руку, и раскрывая свои объятия врагу, словно другу.
Мятежник был силен, но все же уступал в силе боярину; кроме того, был более утомлен, чем Павел; зато он превосходил Белого-Туренина ловкостью и умением бороться. Он извивался в сильных руках Павла, несколько раз чуть не выскользнул из его объятий и, ловким поворотом, едва не поверг боярина на землю. Бывший вначале хладнокровным, Павел Степанович начал теперь мало-помалу разгорячаться, и злоба начала клокотать в его груди.
– Врешь, брат! – воскликнул он после одного из ловких маневров англичанина. – Видали мы и не таких! И на медведей хаживали!
С этими словами он, сжав одною рукою своего противника так, что слышно было, как хрустнули кости, другою схватил его за горло и стиснул, как клещами.
Противник боярина застонал, пошатнулся. Лицо его налилось кровью, глаза вытаращились. Он отнял свои руки от туловища Павла, взмахнул ими в воздухе, будто хотел за что-то схватиться, вдруг захрипел и рухнул на землю.
– Вот как по-нашему! – с жесткой усмешкой проговорил боярин, переводя дух. – Теперь к старичку, – продолжал он, снова схватываясь за саблю и отходя от бившегося в предсмертных судорогах своего недавнего противника.
Он нашел старика занятым боем с каким-то молодым матросом. Легкая сабля матроса была плохим оружием против огромного меча седого бойца. Можно было заранее предсказать исход поединка. Павел хотел выждать, когда старик окончит бой: нападать вдвоем да еще на старика ему казалось позорным. Пока длился поединок, он отдыхал и следил за бойцами. Он невольно проникся уважением к старцу.
Молодой матрос, красный от утомления, едва переводивший дух, казался таким ничтожным против величавого старика, гордого, спокойного, работавшего тяжелым мечом, как легкою шпагой. Лицо старика было бледно, но признаков утомления не было заметно на нем, только крепко сжатые губы доказывали, что бой ему стоит немалых усилий. От бледности ли лица или от напряжения морщины казались очень глубокими.
– Сколько ему лет? – задал себе вопрос Павел.
Поединок между тем уже, по-видимому, оканчивался. Сабля почти вываливалась из рук ослабевшего матроса.
Старик собирался нанести решительный удар и занес меч.
Но тут произошло нечто неожиданное.
Бледная заплаканная девушка с распущенными золотистыми волосами спешно пробралась сквозь толпу сражающихся.
Казалось, это ангел слетел с неба, чтобы прекратить братоубийственный бой. Никто из бойцов не помешал ей – все сторонились, охваченные чем-то вроде суеверного страха.
Она увидела старика, кинулась к нему и остановила его поднятую с мечом руку.
– Деда! Деда! – заговорила она дрожащим голосом. – Опомнись! Довольно! Пойдем из этого ада! Нет! Не вырывай руки! Я не пущу… Я не отстану от тебя… Я подставлю свою грудь под удары врагов… О, пойдем, умоляю тебя, учитель! Дед!
Старик бессильно опустил руки и пробормотал с удивлением и смущением:
– Кэтти! Зачем ты здесь? Иди отсюда скорее!
– Не уйду, не уйду! – говорила девушка, покрывая поцелуями его руку.
Старик в волнении забыл о своем противнике, но не забыл тот о нем. Сперва молодой матрос был тоже озадачен появлением девушки, но быстро опомнился. Злобное пламя зажглось в его глазах. Он быстро взмахнул саблей и опустил ее на голову ученого Смита, проговорив:
– Вот тебе, старый бунтовщик!
Алая струя крови выбилась из-под седины волос старика. Он зашатался. Кэтти отчаянно вскрикнула и хотела его поддержать. Но тяжесть тела деда была ей не под силу; тело давило ее, увлекало к земле вместе с собой.
– Господи! Сжалься! Неужели злодеи здесь все? О, добрые люди! Помогите! Помогите! – стоном вырвалось у нее.
Это слышали двое ближайших к ней: матрос-убийца и Павел. Матрос не пошевельнулся и с торжествующей улыбкой смотрел на изнемогающего врага. Павел отнесся иначе. Он сразу забыл свои кровожадные планы и бросился на помощь. Увесистым ударом кулака он далеко отбросил подлого матроса, пустив ему вдогонку крепкое русское ругательство, потом своими руками, способными разгибать подковы, поднял Смита, как легкую ношу, и ломаным английским языком спросил у Кэтти:
– Покажи, куда нести.
– О, благодарю тебя, добрый человек! – воскликнула она. – Сюда, сюда! Неси за мной!
И она стала поспешно пробираться через толпу сражающихся. И опять все ей давали дорогу и удивленными взглядами провожали ее и этого великана-иноземца, несущего на руках, как младенца, истекающего кровью старика.
Кэтти шла быстро. Павел едва поспевал за нею со своей ношей.
О чем он думал в это время?
Он думал о том, как все дивно устраивает судьба! Пошел он биться и хотел поединоборствовать с этим самым стариком, а вместо этого тащит его на своих руках, будто болящего отца родного.
Потом он посмотрел на Кэтти и подумал, что между басурманками есть куда какие красивые. Вот хоть бы эта.
«Что ангел!» – мысленно сравнил он Кэтти.
И как будто чтобы доказать справедливость такого сравнения, луч солнца проглянул с серого февральского неба и облил светом девушку, и ее златоволосая голова показалась молодому боярину в этот миг окруженной золотым сияньем.
Шум битвы постепенно затихал вдали.
– Сюда! – сказала Кэтти, отворяя дверь своего жилища.
VII. Смерть старого ученого
Тусклый свет зимнего дня проникал в комнату сквозь узкое, острое кверху окно и ложился посредине ее неширокою полосою.
В полумраке, у противоположной окну стены, стояла узкая кровать. На ней лежал старик Смит. Бледное, с закрытыми глазами, лицо его, испещренное сетью глубоких морщин, было полно того спокойствия, которое могло быть принято за спокойствие смерти.
Кэтти и Павел хлопотали над ним. Павел поддерживал голову старого ученого, а Кэтти, тихо плача, промывала холодной водой рану старца.
– Господи! Да жив ли он? – с тревогой проговорила девушка, видя, что ее дед не подает признаков жизни.
– Жив! – уверенно ответил боярин. – Я слышу, как под моими руками бьются жилки у него на висках.
Холодная вода оказала свое действие. Раненый пошевелился и застонал.
Белый-Туренин осторожно опустил его голову на подушку.
– Довольно, – промолвил он, делая знак Кэтти, чтобы она оставила свою работу, – сейчас очнется…
Как будто в подтверждение его слов старик открыл глаза.
Внучка наклонилась к нему. Мутный взгляд деда скорбно уставился на ее лицо.
– Кэтти! Бедная! – чуть слышно промолвил он.
– Ах, деда, деда! Зачем ты? – невольным упреком вырвалось у девушки среди рыданий.
– Долг… свершен… и совесть моя спокойна… Тебя жаль, Кэтти! Одинокой… останешься! – В глазах старца блеснули слезы.
– Ты не умрешь, деда! Ты не умрешь!
– Нет, внучка, нет!.. Зачем обольщать себя… напрасно? Я уже умираю…
Девушка грустно поникла головой.
В это время Смит увидел Павла.
– Кто это? – тихо спросил он у внучки.
– Москвитянин… Он вынес тебя из боя…
– Благодарю!.. – прошептал умирающий, смотря на боярина.
– Не за что, старче!.. – ответил Павел.
Смит не спускал с него глаз.
– Красавец… и молод… – прошептал он, будто в раздумье, и тревога выразилась у него на лице. – Кэтти! Помни!.. Останься жрицей… науки… Не стань рабой, не бери над собою господина…
– Учитель! Я помню твои наставления.
– У тебя светлая головка, Кэтти… Бог много дал тебе, много и спросится… Я сделал что мог, воспитал, как умел, зажег в твоей душе искру… Не затуши ее, раздуй в яркое, светлое пламя.
Когда ученый говорил это, голос его окреп и легкий румянец вспыхнул на бледных щеках. Кэтти с радостью наблюдала за этой переменой.
Но через мгновение прояснившийся взор старика потух, снова мертвенная бледность покрыла лицо.
Он замолк и закрыл глаза.
– Возьми Библию, Кэтти… Хочу слышать слово Божие… – прошептал он спустя некоторое время.
Девушка дрожащею рукою взяла Библию и открыла Евангелие от Иоанна.
Торжественно зазвучали великие слова в тихой комнате, произносимые трепещущим, полным скорби голосом Кэтти.
Павел опустился на колени и склонил голову, тихо молясь.
Умирающий лежал неподвижно.
Скоро глубокий, протяжный вздох вылетел из его груди.
Павел взглянул на него, тронул лоб старца и перекрестился.
– Царство небесное! Отошел!
Кэтти, рыдая, припала к холодному лицу деда…
VIII. Как открыла кэтти, что выше науки
Жутко и тоскливо стало Кэтти в знакомом ей с детства жилище, когда похоронили ее деда. Все еще было полно им – вон чернильница так и осталась не прикрытой крышкой с той поры, как он в последний раз работал за своим столом; вон развернутый манускрипт, над которым еще так недавно склонялся старый ученый с глубокою думой на лице… Все осталось по-прежнему – казалось, вот-вот старик войдет, подвинет кресло привычным жестом, опустится на него и, спокойно сосредоточенный, примется за свои любимые занятия. Но нет его, и пусто в доме, и от привычных вещей веет тоскою.
Особенно тяжелы были для Кэтти первые дни. Горе было таким жгучим, что, казалось, ничто не может утушить его. Разум мутился от боли душевной; милый образ умершего неотступно стоял перед глазами, и вся душа трепетала от мучительного желания, чтобы этот фантом, этот призрак без плоти и крови, облекся в телесную оболочку, явился опять любящим и погладил своею морщинистою рукой голову внучки, склонился к ней с кроткой, знакомой улыбкой и промолвил ласково:
– Не горюй, моя милая Кэтти!
Но призрак оставался призраком; он только манил к себе, только заставлял больно сжиматься сердце, вызывать слезы из глаз. И лились они, слезы, обильно, лились «ручьем», и, казалось, конца им не будет, век их, горючих, не выплакать. А конец настал раньше, чем можно было ждать. Настал тогда, когда в замершую в отчаянии душу проникло живое, теплое слово. Это сумел сделать москвитянин Павел, этот грубый «варвар, полудикарь», каким считали русских англичане того времени. Он положил свою тяжелую руку на плечо девушки и сказал как умел:
– Не убивайся, Катеринушка, – так переделал он на свой лад имя Кэтти, – на все Божья воля! Помолись лучше Ему, Милосердному, и укрепит Он тебя…
Как ни переломал английскую речь Павел, девушка поняла, и сердце ее отозвалось на эти простые, но глубокие слова.
Случилось это дня три спустя после погребения старого Смита. Молодому боярину жаль было покидать «сиротинку», как он говаривал про себя, свою недавнюю златокудрую знакомку, у которой глаза были «что васильки», а слезы, на них блестевшие, – «что алмазы». Он заходил навещать ее, но не пытался утешать до поры до времени. В широкой, могучей груди боярина билось чутко сердце; он понимал, что надо дать время улечься «горюшку злому», что надо дать ей время «слезами его выплакать». Когда же, по мнению Павла Степановича, горю была отдана достаточная дань, он попытался как мог унять слезы «красной девицы-сиротинки».
И попытка удалась.
Правда, сперва Кэтти заплакала как будто еще горше, чем прежде, но зато потом ей полегчало, и она впервые, еще сквозь дымку слез, внимательнее взглянула на «москвитянина». Горе не помешало ей заметить, что этот высокий, стройный богатырь-иноземец куда красив, а взгляд его добр и приветлив.
Вечером этого дня она в первый раз попробовала приняться за работу. Сначала работа не шла, потом наладилась. Тоска одиночества уже не так терзала ее, как раньше: что-то говорило ей, что в красавце москвитянине она нашла себе верного друга. И она не ошиблась. Павлу Степановичу, любившему прежде целыми днями шататься по лондонским улицам, разглядывая всякие диковинки, с некоторых пор эти прогулки перестали нравиться. Вместо этого он в свободное время спешил навестить «сиротинку-Катеринушку», глаза которой при его появлении вспыхивали удовольствием и очень ласково смотрели на гостя. Постепенно посещения боярина вошли настолько в обыкновение, что, если ему не удавалось прийти почему-либо, Кэтти чувствовала беспокойство и грусть. Когда же он являлся, Кэтти встречала его ласковой улыбкой; они садились к столу, за которым в былое время работал Смит, и начинали бесконечные беседы. Павел, сделавший значительные успехи в знании английской речи, рассказывал девушке о Руси, о дремучих, протянувшихся на много верст лесах, таких густых, что в них царит полумрак и в полуденную пору; о глубоких реках; о Москве с ее церквами и монастырями; о вере православной; об обычаях; о забавах и потехах молодецких.
Кэтти попробовала учиться русскому языку. Он ей показался очень трудным. Первыми словами, которые она заучила, были «милый» и «кароший». Павел ощущал какую-то особенную нежность в сердце, что-то вроде умиления, когда уста Кэтти со своеобразным акцентом произносили эти слова.
Однажды Кэтти, беседуя, взяла руку Павла.
– Ух, какая большая, сильная рука? – сказала она и вдруг с удивлением добавила: – Что это? Кольцо? Ты женат?
И она чувствовала, что это открытие ей неприятно. Будто кто-то незнакомый стал между нею и этим милым москвитянином и не пускает его к ней, тянет к себе.
Смутился и молодой боярин.
– Да, женат… – тихо ответил он, опустив голову и не глядя на Кэтти.
– Ты любишь сильно ее? – чуть слышно, неровным голосом спросила девушка.
Павел Степанович поднял голову и взглянул на Кэтти. Она была бледна. Пальцы ее рук перебирали складки одежды и дрожали. На ее глазах были слезы. Он встретился со взглядом девушки и столько тоски прочел в нем, что его сердце дрогнуло. Ему вдруг мучительно жаль стало эту скорбящую красавицу; он почувствовал себя будто виноватым перед нею. Что-то сжимало ему горло. Хотелось упасть перед нею на колени и молить, чтобы простила… в чем? Он сам не знал, в чем именно, в чем-то нехорошем. Хотелось крикнуть, чтоб смахнула она эти слезинки со своих глаз, потому что поворачивают они сердце в его груди.