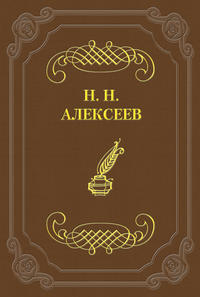полная версия
полная версияРозы и тернии
Но он этого не сделал, и на вопросы дьяка, предложенные после окончания чтения: «Деньги принял? Кабалу волей дал?» – встряхнувшись, ответил:
– Получил… По своей воле.
– Впиши в книгу, – приказал дьяк подьячему, а сам вывел пером на оборотной стороне кабалы:
«Лета 109 маия в 8-ой день перед диаком, перед Пятым Кокошкиным, заимщик сказал: денги взял и такову служилую кабалу на себя дал. И в книги записана. Диак Пятой Кокошкин».
– Ну, вот и делу конец! – сказал дьяк, вставая. – Служи господину своему верой и правдой.
Слова дьяка что ножом резнули по сердцу Никиту.
«Холоп!» – пронеслось у него в голове.
– Магарыч с тебя! – шепнул послух Антип.
Это напомнило новому кабальному о деньгах.
«Эх! Хоть денег четыре рубля есть!» – подумал он и вспомнил, что еще не сосчитал их.
При счете он с ужасом увидел, что денег до четырех рублей не хватает. Он бросился за Елизаром Марковичем, успевшим незаметно выйти из приказа.
– Что тебе, касатик? – нежно спросил старик, когда Никита догнал его и окликнул.
– Денег не хватает…
– Как так? Нет, деньги все, родной, все! Посчитай хорошенько.
– Четырех рублей нет полностью.
– Ах, четырех-то точно нет, точно…
– Да как же это? Ведь я за четыре рядился?
– Так оно и выйдет. Ты то разочти, что из твоих рублевиков подьячему два алтына дадено.
– Да разве из моих?
– Из твоих, из твоих, касатик!.. Да дьяку четыре алтына…
– Того не легче!
– Да. Ну, и себе малость я взял за труды и хлопоты.
– Сколько же ты взял?
– Немножко совсем – с каждого рублевика по два алтына…
– Стало быть, восемь алтын?! – воскликнул с ужасом парень.
– Да, восемь. Чай, не много? Я не корыстен, нет, не дам Богу ответ… Да! Ну, вот видишь, сочти все, так и выйдет… Я и грошиком твоим не попользовался, все, что требуется, тебе отдал… Да, не взял греха на душу. А ты сегодня гуляй – по обычаю, завсегда первый день кабальному на гульбу дается. С денежками, чай, и гулять веселей? А? Ах ты, хороший паренек! Гуляй, гуляй!
И, ласково ухмыляясь, Елизар Маркович отошел от холопа.
Никита злобно посмотрел ему вслед.
– Ну что ж, магарыч-то будет? – спросил Антип.
– Как не быть! Будет! Пойдем в кружало, выпьем… Эх, выпьем! – сдавленным голосом проговорил Никита и повернул с Антипом к ближайшему кабаку.
Когда вечером того же дня изрядно охмелелый Никита шел, с ярко-красным только что купленным платком в руке на свидание с Любой, в его кармане лежал всего один рубль, кое-как спасенный им для матери.
XIII. Горе кабального
Когда Никита не совсем твердыми ногами приближался к обычному месту свиданий с Любой – к берегу Москвы-реки, он издали заметил, что девушка уже его поджидает. Она стояла неподвижно и смотрела в его сторону. Никита вынул красный платок, помахал им и крикнул:
– Иду, иду! Подарочек тебе несу!
Люба встретила его словами:
– Что долго не шел? – Потом, взглянув на платок, спросила: – Это что?
– Чай, видишь, плат! В подарочек тебе… Купил! Бери, бери, лебедушка моя!
– Ты подгулявши, Микита?
– Так, маленечко… Бери плат-то.
Лицо Любы покраснело от удовольствия, когда она взяла от Никиты платок и повязала свою голову.
– Что за раскрасавица-девица! – воскликнул парень.
– Спасибо, родной, за подарочек! Пойду к обедне в праздник, надену его, – все мои подруги от зависти позеленеют! Что за плат! Ишь, разводы-то какие на нем! – говорила Люба, сняв платок с головы и разглядывая его.
– Носи, носи, лебедушка! Вспоминай Микитку своего!.. – сказал, обнимая девушку, Медведь.
– Моего ль милого да не вспомню? Эх ты, сказал тоже! Вот и видать, что хмелен.
– Точно, хмелен малость.
– Где угостился?
– На свои денежки, родная, на свои.
– Откуда добыл? – быстро спросила Люба.
– Ох! Не спрашивай! Потому и напился, что тяжко мне, ест кручина злая сердце ретивое!
На лице Любы выразилось удивление и испуг.
– Украл, что ль? Может, убил да ограбил? – вскричала она.
Никита замотал отрицательно головой, пробурчал:
– Нет, не то совсем! – и вдруг залился пьяными слезами. – Тяжко мне, тяжко! – завопил он, ударяя себя в грудь. – Где ты, воля моя, волюшка? Прогулял я тебя, непутевый! О-ох, горе мое горькое!
– Толком говори! Откуда денег взял? – с сердцем промолвила Люба.
– Говорю, с волюшкой своей расстался! Продал ее! В кабалу пошел за четыре рубля! Да!
Глаза девушки расширились от ужаса.
– В кабалу?
– Да… К князю Фоме Фомичу Щербинину. Тяжко мне, зазнобушка моя, приласкай меня, горемычного, отгони тоску мою лютую!
Она с гневом оттолкнула его:
– Прочь, холоп!
– Чего ты, Любаша? – опешил тот.
Люба молча кинула ему подаренный платок:
– Получи свое добро!
– Да что же это?
– А то это, – вся дрожа от гнева, заговорила девушка, – что не водить мне дружбы с холопом! Лучше быть подругой татя, грабителя дорожного, чем с подлым рабом целоваться-миловаться! Никогда я полюбовницей быть не хотела, думала женой стать законною, не иначе, а теперь всему конец! Ни женой, ни полюбовницей твоей не бывать!
– Господи! Люба! Любаша! Да за что осерчала? Ведь мое холопство к тебе не пристанет? – бормотал Никита.
– Ах, пристанет! Али не ведомо тебе, что жена раба по мужу рабыней становится?[16] Не знаешь этого? А я холопкой век не буду!
Она быстро отошла от него.
– Люба! Голубка! – кинулся следом за нею Никита, с которого от потрясения разом соскочил весь хмель. – Не уходи! Не покидай! Прости!.. Нужда заставила, видит Бог! Матери хотел помочь… Любаша! Лебедь! Лебедь! Зазнобушка моя! Я выйду из холопов, кину назад деньги им… У меня есть остаток, дополню еще и отдам четыре рубля… Люба! Милая! Не беги от меня!
Девушка обернулась, не останавливаясь, и промолвила:
– Не хочу милым своим иметь холопа! Выйди из кабалы, тогда иной сказ.
– Тогда опять люб стану?
– Да. Да не выйти тебе из кабалы – продал себя навек!
– Выйду, Люба! Как ни на есть, а выйду! Милая! Обожди маленько, дай взглянуть на тебя, дай до ручки твоей губами коснуться!
– Обожди до той поры, пока вольным станешь! – насмешливо проговорила Люба и бегом пустилась от несчастного парня.
А Никита постоял, посмотрел вокруг себя растерянным, помутившимся взглядом, потом подбежал к валявшемуся на земле красному платку, поднял и швырнул его в реку.
«И самому разве следом? – мелькнуло в голове у Никиты, но эта мысль тотчас же сменилась другой: – Пойду, отдам деньги остатние, умолю боярина отпустить меня на волю!»
* * *На другой день, поутру, когда князь Фома Фомич, собираясь уехать со двора, садился на коня у своего крыльца, Никита пробился сквозь толпу княжеских челядинцев, кинулся в ноги господина и обратился к нему с просьбою:
– Смилуйся, князь-боярин!
– А! Новый кабальный! Что тебе! – спросил Фома Фомич.
– Смилуйся! Отпусти на волю!
– Что?! На волю?! – изумился князь.
– Да! Вот два рубля… Еще два добуду, принесу… Ей-ей, принесу! Порушь кабалу, пусти на волю!
– Ха-ха-ха! – раскатисто рассмеялся князь. – Вот дурак холоп! Да разве ты того не знаешь, что принеси ты и все четыре сейчас, все равно не быть тебе на воле?
– Как так?!
– Уж скажу тебе, дурню, то, что ныне мальцу всякому ведомо… Чай, и вы все знаете, – кинул он остальным холопям, – об указе царя блаженной памяти Феодора Иоанновича?
– Как не знать! Все знаем! – гаркнули те.
– Один, значит, олух выискался такой. Ну, слушай в оба! Царь Феодор Иоаннович указ дал[17], чтобы все холопы кабальные служили своему господину до дней его, господина их, скончания. Буде и уплатят долг – все равно должны служить. Зато, коли боярин их помрет, так кабальные без всяких уплат на волю уходят… Ну а я еще помирать не собираюсь скоро, так тебе придется изрядно послужить!
– Я не знал сего, видит Бог! Князь-боярин! Милостивец! Освободи!..
– Э! полно, дурак! Надоел! Пошел прочь!
– Князь, батюшка!
– Дайте-ка ему по загривку хорошенько, молодчики! – крикнул Фома Фомич и, стегнув коня, поехал к воротам.
Холопы с насмешливыми возгласами стали пинать несчастного парня кто куда мог, в силу боярского приказанья, но получили такой урок от Никиты, что у них отпала охота потешаться над ним: близкий к отчаянью, силач парень так сильно шмякнул о землю несколько ближайших к нему насмешников, что кости их хрустнули, а потом, повернувшись к толпе и махая дюжими кулаками, так грозно прорычал: «Убью!», что холопы поспешили подобру-поздорову поскорей убраться от него.
И, пока они бежали стремглав от него, Никита уже забыл про свой гнев. Горе нахлынуло на него. Он ударил шапку в землю, бросился сам лицом вниз и зарыдал, как младенец.
– И чего убиваешься? – послышался над ним сладкий голос старого ключника. – Плачет, что красна девица! Полно, молодчик! И чего горевать? Что тебе в воле-то? Голод и холод. А тут ты будешь жить припеваючи: ни тебе о крове заботиться, ни тебе хлебушки промышлять. Работишка у нас тоже не ахти какая… А, чего не дай бог, пошлет Господь по душу князь Фомы Фомича, опять вольным станешь. А он, на, плачет. Эх ты! На людей-то погляди: хуже тебя, что ль? А все в холопстве живут, не жалятся… И ведь сам хотел в кабальные. Я по доброте своей устроил, а теперь он ревет ревмя, что дитя малое, и, пожалуй, на меня же гневается. Перестань, молодчик! Поди-ка лучше работать, как другие, а то за тебя и мне еще от боярина попадет. Да ну же, ну! Перестань, милый! Послушайся старого! А я ж тебя, ей-ей, как сына родного люблю.
Никита приподнял голову и так взглянул на старика, что Елизар Маркович вздрогнул и поспешно отошел, бормоча:
– Э-эх! Делай людям добро! После тебе ж злом заплатят… Ну да Бог им судья! Я не злоблив…
XIV. Коршун и голубка
Разговор с Никитой Медведем сперва рассмешил, а потом рассердил князя Фому Фомича, и он, выезжая за ворота с несколькими провожатыми холопями, сурово хмурил свои седые брови. Однако вскоре лицо его прояснилось, даже улыбка шевельнула губы, и он, гикнув по привычке, оставшейся с молодости, поскакал, насколько мог его конь, по глубокой дорожной грязи.
Куда ехал старый князь? В усадьбу Шестуновых. С некоторых пор он стал езжать туда очень часто – через день, через два. Лука Максимович так свыкся с этими посещениями, что, если случалось почему-либо Фоме Фомичу не приезжать в вотчинку Шестуновых дня три-четыре, боярин посылал справляться, здоров ли старый князь. Казалось, между Шестуновым и Щербининым завязалась тесная дружба. В силу таких дружеских отношений и будущего родства князя принимали в доме Луки Максимовича, как своего, он свободно допускался даже на «бабью» половину дома и, что греха таить, любил бывать в ней, причем своей собеседницей избирал не почтенную Марфу Сидоровну, как подобало бы, а Аленушку. Любил он также, чтобы, когда Лука Максимович с ним «баловался» медком или закусывал, жена и дочь хозяина принимали участие в их полупирушке. Сперва это смущало строгого хранителя обычаев Луку Максимовича, хотя он не отказывался исполнить желание гостя, потом он постепенно привык к этому и зачастую вызывал к столу «баб» даже сам, не дожидаясь обычной фразы Щербинина.
– А что ж хозяюшку с дочкой не кликнешь? Кажись, я не совсем чужак, и скрываться им от меня нечего.
Нравились ли Аленушке беседы с будущим свекром, об этом Фома Фомич мало заботился – достаточно было того, что они нравились ему. А что эти беседы старику нравились, это было видно по его вдруг начинавшим искриться глазам, по тем шуткам и прибауткам, которыми он начинал пересыпать свою речь.
В тот раз, о котором идет речь, Фома Фомич, прибыв в усадьбу Шестуновых, не застал дома ни хозяина, ни хозяйки.
– Раным-рано на богомолье уехали боярин с боярыней. Сказали, к обеду вернутся. Быть скоро должны, – сказал встретивший князя шестуновский холоп.
– Ладно. Обождем… – ответил князь, по-видимому, очень мало опечаленный такою вестью. – Пусть ко мне боярышня выйдет – посидим в светлице, поговорим…
Аленушка сидела в своей горенке, когда Панкратьевна доложила ей, какой гость прибыл в усадьбу и что он в светлице ее ожидает.
Боярышня поморщилась.
– Опять он, этот старик! Кабы не отец Алеши, ни за что не пошла б к нему, – промолвила она, лениво поднимаясь.
Фома Фомич встретил ее очень приветливо:
– А! Вот и раскрасавица моя! Пришла посидеть со мной, старым… Ишь, все хорошеет да хорошеет! И откуда, скажи ты мне, у тебя красота берется такая?
Боярышня только смущалась от этих слов.
– Что князь Алексей Фомич прибудет, чай, теперь скоро? – спросила она – этим вопросом она почти каждый раз начинала свой разговор с будущим свекром.
Старик досадливо сдвинул брови.
– Ты все свое! – протянул он недовольно. – Будто не о чем другом спросить.
– Да о чем же другом? Про жениха спрашиваю…
– Ну, уж и жених твой! – презрительно сказал старик.
Эти слова задели Аленушку за живое.
– А чем же он худ?
– Хоть и сын мне, а прямо скажу: вахлак! Совсем на молодца не похож. Таким ли я был в его годы! Эхма! Вспомнить любо! Да и теперь я, даром что уж пожил немало, а двух таких парней перещеголяю. Ей-ей! Хоть на травле, хоть в битве… Ты смеешься? А? Ишь какая! И не грех? А зубки-то, зубки! Что жемчужины! Нет, не такого тебе мужа надо, Аленушка, как он!
– По мне лучше не надо.
– Потому, что еще разумом ты – дитя малое. А что, к примеру молвить, за такого старичка, как я, пошла бы ты замуж?
– Да у меня есть жених, иного не нужно.
– Знаю, что есть. Ну а если б не было, так скажем, а посватался б старичок, пошла бы?
– Коли матушка с батюшкой приказали б, пошла бы.
– Ты – дочка хорошая… А по доброй воле, стало быть, не пошла?
– Слезами обливаючися под венец стала б, не токмо что…
– И напрасно, напрасно! – быстро заговорил Фома Фомич. – Со стариком счастливей была б. У молодого ветер в голове. Сегодня любит, а завтра другая приглянулась – он и разлюбил…
– Ну, Алеш… то бишь Алексей Фомич не таков! – воскликнула боярышня.
– Все они на один покрой! Да ты-то почем знаешь, что Лешка не таков? Раз всего и видела, а уж и душу его выведала. Али, может, виделась с ним? А? Тайком? Да? Где-нибудь во садочке зеленом? Что ж молчишь?
Аленушка сидела красная как кумач.
– Нет… – пробормотала она.
Князь слегка насупился:
– То-то, нет! Ох, девицы, девицы! Глаз за вами нужен зоркий! – Потом он продолжал в прежнем тоне: – А ты напрасно стариков лаешь, напрасно! Вышла б замуж за старика – не житье было б, а масляница! В парче да в бархате ходила б, пила, ела на золоте…
– А зачем мне парча да бархаты?
– Не нужно тебе нарядов дорогих? Ах ты, родная моя! Ты то подумай – теперь ты кралечка, а одень тебя в ткани золотые – прямо раскрасавицей станешь! Этакая ты красота, этакая!.. – говорил, захлебываясь, старик. – Ангел просто!.. Золоташка моя!
– Ой, боярин! – вдруг вскрикнула боярышня.
– Чего ты? Это, что я поцеловал-то тебя? Так ведь я по родству… А она испугалась! «Ой, боярин!» – кричит… Ну, как не сказать, что прелесть, а не девица? Лебедь сахарная!
Он опять потянулся было ее поцеловать, но она отстранилась.
– Не хочешь? Ну, не буду, не буду! Погоди, когда-нибудь вдосталь нацелую зато, хе-хе!
Дверь скрипнула.
– Лука Максимыч с Марфой Сидоровной прибыли, – доложил холоп.
Фома Фомич, как по волшебству, принял самый невозмутимый вид.
– Вот и отлично! Я и то их заждался!
Аленушка воспользовалась приходом слуги и убежала к себе наверх.
Вечером этого дня между Лукою Максимовичем и Фомою Фомичом был какой-то таинственный разговор, после которого хозяин, выйдя вместе с гостем из комнаты, чтоб проводить его до крыльца, как-то смущенно моргал глазами, а старый князь, распрощавшись с Шестуновым и усевшись на коня, шепнул ему:
– Пока что ничего не сказывай!
На это Лука Максимович поспешно ответил:
– Ладно! Ладно!
По отъезде гостя такой же таинственный разговор произошел между Лукой Максимовичем и его женой, а на другой день, поутру, Марфа Сидоровна приказала холопкам поспешить с шитьем приданого.
– Алеша, что ль, прибудет скоро? – дрогнувшим от радости голосом спросила Аленушка.
– Да… Нет… Так… Лучше поспешить… – смущенно пробормотала мать.
Растерянность матери не укрылась от зоркого глаза боярышни и, странное дело, заставила тревожно забиться ее сердце.
«Ах, приезжал бы скорей желанный мой!» – все чаще и чаще с этого дня стала мелькать тоскливая мысль в голове Аленушки.
XV. Мужний приказ
К июлю месяцу шитье приданого уже заканчивалось.
«Вот приехал бы теперь Алешенька – хоть сейчас свадьбу играть», – думала Аленушка.
По мере приближения работы к концу все сумрачнее становилось лицо Марфы Сидоровны, и дочка ее даже не раз подмечала, что боярыня украдкой смахивала слезы. Когда же Аленушка спрашивала о причине грусти, Марфа Сидоровна только отмахивалась и бурчала:
– Э-эх! Знала б ты, дитятко!
Однажды Лука Максимович, отведя в сторонку жену, спросил:
– Ну, что приданое?
– Да уж конец, почитай, работе, – ответила боярыня.
– Ну, надо теперь сказать Ленке…
– Просто уж и не знаю как!
– Пустое! Ну, всплакнет маленько.
– Нет, я знаю ее – добра-добра и послушна, а уж если упрется, так что хошь делай, не поддастся…
– Я по-свойски с ней тогда, с глупой, поступлю: таких оплеух надаю, что света не взвидит!
– Ничего этим не возьмешь. Силком придется везти в храм, а она так вопить будет, что сором на всю Москву!
– Гмм… Как же быть?
– Ума не приложу?
– Вот напасть! И вздумалось ему, старому… Ты уж как-нибудь устрой так, чтобы мирно все, тишком да ладком.
– Загадку загнул!
– Уж устрой, пораскинь умом – вы, бабы, на всякие хитрости доки.
– Да я, ей-ей, не знаю, как и приступить.
– Э! Что толковать! Должна устроить! А не устроишь – твои бока моих кулаков отведают! Чай, вкус-то их не забыла? Вот тебе и весь сказ мой!
Промолвив это, хмурый, как осеннее небо, Лука Максимович круто повернул от жены, а Марфа Сидоровна только развела в раздумье руками.
– Вот так горе мое горькое! Что хочешь, то и делай! Бе-е-да! – проворчала она.
XVI. Два разговора
– Едет! Несет нелегкая! Чтоб хоть седьмицу еще помедлил!.. Тогда б – милости просим! Уж все дело сварганено! А теперь ни то ни се!.. Эх, черт! – сердито ворчал князь Фома Фомич, расхаживая, что зверь по клетке, по своей опочивальне.
Голова Елизара Марковича просунулась в дверь.
– Князь Алексей Фомич прибыл! – сказал ключник.
– Пошел к лешему на рога вместе со своим Алексеем Фомичом! И так знаю, что легок бес на помине, так и сынок мой! – гаркнул старик и затопал ногами.
Елизар Маркович скрылся, а через минуту дверь широко распахнулась, и в комнату вбежал Алексей Фомич.
– Здравствуй, батюшка милый, – воскликнул он, бросаясь обнимать отца.
– Чего ты, словно пес с цепи сорвавшийся, кидаешься? Ишь, измял всего! И ласки-то какие-то дурацкие! Ну, скажи: здравствуй, батюшка! Подойди поцелуй руку, а то на! На шею вешается, чуть не хнычет, как баба! – проговорил старик, отстраняясь от сына.
Алексей смутился, опустил руки и пробормотал:
– С радости я.
– Ну, велика радость! Не десяток годов не виделись.
– Все же времени немало…
Старик не отвечал и молча шагал по комнате.
– Как невестушка моя здравствует? – спросил молодой князь, радостное настроение которого как рукой сняло.
– Какая невестушка? – будто не понял старик.
– Да Аленуш… Да Алена Лукьянична… Как же какая?
– А! Здорова, ничего себе.
– К Шестуновым, отдохнув малость, съезжу.
– И незачем совсем.
– Как так?
– Так. А то поезжай, погляди, как тебя там примут, хе-хе!
Молодой князь так и встрепенулся:
– Господи! Серчают они на меня, что ль?
– Серчать не серчают, а только ведь им с тобою не пиво варить.
Алексей удивленно посмотрел на отца:
– Да ведь я – жених их дочки, кажись.
– Ну-ну!.. – с сомнением процедил старый князь.
– Ась? – промолвил Алексей Фомич и насторожился.
– Э! Чего тянуть! Надобно разом кончать! Совсем ты ей не жених…
– Батюшка! Что ты! – вскричал Алексей.
Отец не обратил внимания на этот полный отчаяния возглас сына и продолжал:
– Другой жених лучше тебя выискался.
– Кто?
– Я!
Алексей отступил на шаг:
– Зачем, отец, шутки шутить?
– И не до шуток мне. Я женюсь на Аленушке.
Молодой князь тяжело опустился на скамью.
– И она доброй волей идет за тебя? – пробормотал он.
– И даже очень по доброй воле! Тоже ведь рассчитала, что лучше быть всего богатства моего хозяйкой, чем быть твоею женой да из рук свекровых смотреть. Она – девка умная, хе-хе!
Сын вдруг поднялся с лавки.
– Не верю! – вскричал он.
– Гмм… – пожал плечами старик, – поди спроси ее хоть сам, коли сумеешь повидаться.
– И спрошу, и спрошу! Быть того не может, чтоб она за старика такого своей охотой шла, чтоб променяла на деньги!.. А тебе, старому, стыд и срам на девице молодой такой жениться! Да! В деды ей ты годен.
– Алексей! – грозно крикнул отец.
– Ладно! Не кричи! Не больно и я труслив! – воскликнул, сверкнув глазами, Алексей Фомич и выбежал из комнаты.
– Ишь, взбесился! Что белены объелся!.. Ну да ничего! Обойдется, – проворчал старик и крикнул холопам: – Эй, кто там! Одеваться давай! Да коня седлайте! В Шестуновское еду!
В это время Алексей Фомич уже скакал сломя голову к усадьбе Луки Максимовича.
* * *Между тем, пока князь Алексей Фомич беседовал с отцом, в шестуновской усадьбе произошло следующее.
– Поди-ка ко мне, Аленушка, потолкуем малость с тобой, – сказала Марфа Сидоровна дочери.
– О чем, матушка? – подходя к ней, спросила та.
– А вот сейчас узнаешь… Пойдем сядем…
– Знаешь ли, милая ты моя, – начала боярыня, когда она и дочь уселись на лавочке, – в иную пору такое бывает в жизни нашей человечьей, что просто хоть беги к реке да топись – кажись, жить моченьки нет, а смотришь, прошел годик-другой, и все повернется как лучше не надо, и печаль былая в радости обернется… Потому, какая бы печаль ни была, никогда отчаиваться не след, а нужно на волю Божью положиться – Господь Бог устроит все по воле Своей. А отчаянье – грех великий, об этом и в Писании Святом есть…
Такой приступ матери не обещал ничего доброго, и Аленушка с тревогой спросила:
– А что случилось, матушка?
– Погоди, дай срок, все скажу… К примеру, возьму я себя… Ты не гляди, что теперь я толстая стала и старовата – не век была такой. Была у меня тоже коса не хуже твоей, вот этакая, – боярыня широко раздвинула руки, показывая длину косы, – и толстенная такая; румянец играл тоже во всю щеку – румян, бывало, никаких не надобно… Да! Ну, и сердце девичье в груди билось… А известно, какое у девиц сердце – чуть взглянет молодец на молоденьку очами огневыми, оно и забьется, и запрыгает. Пришла пора, забилось оно у меня от очей молодецких. В церкви у обедни я с ним встречалась. Ну, понимаешь, тоска меня берет! Ночей не сплю, а если и засну, так во сне мне мой красавчик мерещится… А ему поворот от ворот. «Есть уже, – говорят, – у нас другой женишок, не тебе чета, богатейший». А надо сказать, что в ту пору за меня точно сватался боярин один старый-престарый, вдовый да богач на Москве первейший. Вестимо, кто своей дочери враг? Меня за него с превеликой охотой отдавали. Мне не хотелось, плакала я тайком, убивалась, думала руки на себя наложить. Ан, все повернулось словно в сказке! Пошел мой богач жених в баню париться да и упарился – сверзился с полка телом мертвым… Отец с матерью мои горевали, а я радовалась. Молодчик же мой тут как тут! «Тогда, – говорит, – не хотели выдавать за меня, выдайте теперь». Ну, помялись, помялись маленько да и выдали за него – молодчик этот мой муж теперешний и твой отец – Лука Максимович.
– А!
– Да! Видишь, как Бог устрояет!
– Премудро!
– Истинно так! Посему падать духом не след, и ты не падай, что б я тебе ни сказала, а подчинись воле родительской: отец с матерью тебе зла не желают.
– Матушка! Да говори, бога ради!..
Марфа Сидоровна мялась.
– Видишь ли, тебе замуж за Алексея Фомича идти нельзя, – вдруг выпалила она.
Аленушка ахнула.
– Боже мой! Да почему же?
– Потому… потому, – заминалась боярыня, и вдруг ее осенило: – Потому, что он женат!
– Женат?! – не веря ушам, вся холодея, переспросила боярышня.
– Да. Женат… В заморской земле женился, отцу весть уж давно прислал… А сегодня он уж, должно, в Москве с женой молодой.
– Господи! Это Алешенька, мой милый, мой соколик, женился!.. А я ждала его, тосковала! О-ох, горюшко! – плача, говорила Аленушка.