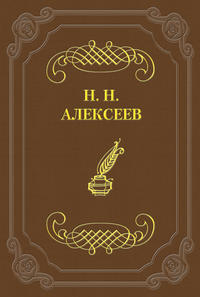полная версия
полная версияРозы и тернии
Перед столом, в низком, обитом кожею кресле, сидел старик. Он был одет в широкую, длинную, темного цвета одежду. Белая как снег борода падала на его грудь.
Против обычая того времени, на голове старика не было завитого парика, да он и не нуждался в нем: его заменяли природные серебристые, падавшие на плечи волосы. Бледное, худощавое лицо обладало тою величавою красотою старости, где каждая морщина, перерезающая чело, есть могила многих годов сомнений и страданий. Стан уже заметно согнулся под бременем лет, но, несмотря на это, старец не казался дряхлым, и его впалые, окруженные морщинами, как сетью, глаза, еще сохраняли остаток огня молодости.
Этот старец был ученый богослов, филолог, математик и алхимик в одно время. Звали его Петр-Иоганц Смит.
Можно было бы ждать, что мы в тот момент, о котором идет речь, застанем ученого Смита склоненным над какою-нибудь древнею рукописью или за производством математических исчислений, или, наконец, с любопытством наблюдающим, как плавится на огне небольшого горна по особому способу составленная смесь нескольких разнородных металлов.
Ничем подобным Смит не занимался. Наоборот, он занят был такою работою, которая не шла ни к его учености, ни к его летам: старик на маленьком оселке усердно оттачивал тяжелый заржавленный меч. По временам он прерывал работу, пробовал лезвие, покачивал головой и вновь принимался за старое.
Он так был поглощен своим занятием, что не слышал, как отворилась дверь и в комнату вошла молодая девушка.
Удивление выразилось на ее лице, когда она увидела, чем занят старец. Она неслышно подошла к Смиту и, быстро наклонясь, поцеловала его седую голову.
Старик слегка вздрогнул и обернулся.
– Ах, плутовка Кэтти! Ты заставила немного струхнуть своего старого деда! – с улыбкой сказал он.
– Испугала? Правда? Прости, дедушка, я не думала тебя испугать, – промолвила Кэтти, потом добавила: – Что это ты делаешь?
На лице старика выразилось смущение.
– Гмм… Как видишь, точу меч… Нужно мне…
– Для опытов?
– Гмм… Да… для опытов. – И повторил, глубоко вздохнув: – Да, для опытов.
– Какой он тяжелый! – сказала Кэтти, попробовав поднять меч за рукоять.
– Рыцарский меч моего отца… Он не так уж тяжел, я им могу свободно владеть… Смотри!
И Смит, привстав, махнул несколько раз в воздухе мечом.
– Ух, какое страшное оружие! Им, пожалуй, можно пополам перерубить человека!
– Подобные случаи бывали.
– Для каких опытов он тебе нужен?
– Так… нужен… Долго объяснять. – пробормотал старик, опуская глаза под пристальным взором девушки.
Кэтти покачала головой.
– Дедушка! Ты от меня что-то скрываешь! – с упреком проговорила она.
Смит плотно сжал губы и ничего не ответил.
– Деда! Я угадала, не так ли?
Ученый положил на стол меч, откинулся на спинку кресла и серьезно взглянул на девушку.
– Присядь, Кэтти, мне надо с тобой поговорить, – промолвил он.
Девушка пододвинула к столу стул, обитый кожей, как и кресло Смита, и опустилась на него.
Кэтти была несколько похожа лицом на своего деда. У ней был такой же, как у него, правильный, резко очерченный, строгий профиль, такие же глубокие, задумчивые глаза. Лицо ее отличалось тою белизною, которая свойственна многим дочерям Альбиона. Волна белокурых, слегка рыжеватых волос, падавшая на плечи, не закрывала высокого лба, перерезанного легкой морщинкой.
Эта морщинка на юном лице – правда, едва заметная – придавала серьезный характер физиономии девушки и говорила, что много дум скрывается в прелестной головке молодой англичанки. Кэтти рано приучилась мыслить.
Ее отец, сын ученого Смита, умер в то время, когда она была младенцем, мать пережила его только двумя годами. Ни братьев, ни сестер, ни других родственников, кроме деда, у ней не было. Старик и ребенок остались одни в целом мире. Дед взял ее на свое попечение и воспитал по-своему. Он удалил ее от всякого общения со сверстницами, заперся вместе с внучкой в каменном ящике с толстыми стенами, именуемом лондонским домом, и, вместо игрушек, сунул ей в руки латинскую азбуку, сказав: «Учись и играй!»
Молодой ум требовал пищи; девочка с жаром принялась за ученье и десяти лет знала латынь не хуже иного католического монаха.
Постепенно Смит посвятил ее и в другие отрасли знаний, и к семнадцати годам она стала ему незаменимой помощницей в его ученых трудах. Девушка-ученый привыкла к скучной затворнической жизни; у ней не было иных мечтаний, кроме тех, как бы поглубже проникнуть в волшебный храм знания. Когда старый Смит с вдохновенным взором говорил ей о том, чего добьется наука, или, посвящая ее в свои труды, завещал ей не бросать после его смерти начатого и продолжать работу вместо своего «учителя», как он называл себя, глаза Кэтти горели каким-то фанатическим блеском. Смит часто говорил ей о жизни, которая кипела за стенами их жилища, и называл эту жизнь пошлой и мелочной, борьбою земных ползунов из-за пустой соломины. Он умолял ее не выходить замуж…
– Помни, Кэтти, – говаривал он, – что только наука и поэзия есть жизнь! С чем сравнишь ты восхищение, которое овладевает тобой, когда, после долгих усилий, подмечаешь, наконец, до той поры скрытый закон природы? Ведь эта победа большая той, какую одерживал Цезарь над толпой каких-нибудь несчастных галлов. Ты, слабый человек, раб и порожденье той грубой материи, которая всегда держит тебя в своей власти, силою своего духа победил враждебную природу, узнал, наперекор ей, то, что она так строго охраняла для того, чтобы ничтожный раб не превратился в ее господина!.. Что доставит тебе большее наслаждение, чем поэзия? Разве ты не чувствуешь, как сладостно успокаивается твое сердце под плавный стих гекзаметра? Разве музыка стиха не ласкает твоего слуха, а воображение не рисует тебе картин и образов, ярче и лучше которых не найти в серой действительной жизни? Если Бог просветил твой разум, одарил чуткой душой, способной воспринимать вдохновение поэта, то не иди в толпу мелких, ничтожных людишек, затворившись от них в стенах твоего жилища, чтобы их пошлость не омрачила твоего чистого наслаждения, и воскликни вместе с Горацием: «Odi profanum vulgus et arceo!»
Ты не должна, Кэтти, выходить замуж… Ты не должна попасть под власть грубого владыки. Что даст он тебе? Несколько минут чувственных наслаждений, заставляющих упасть человека на уровень животного, а потом?.. Потом он сделает тебя нянькой своих детей, истощит твое тело, иссушит душу прозою обыденной жизни! Нет, Кэтти! Пред тобою есть лучший жребий! Останься девственно-чистой, как жрица Весты, и храни, как она, священный огонь!
Слушала девушка подобные речи и соглашалась с ними, и вся была полна желанием последовать наставлению деда, но в ее уме, привыкшем думать строго логично, мелькали вопросы: почему сам дед не сделался чистым жрецом науки и искусства? Почему он женился и имел семью и ниспадал, как он выразился: «до уровня животного»? Она не могла ясно разрешить это противоречие, но иногда ей казалось, что дед оттого так проповедует, что сам уже прожил жизнь и устал от нее, а будь он юным, то… то, верно, не досказал бы, по крайней мере, половины своей вдохновенной проповеди.
И странное дело! На Кэтти – «девственную жрицу священного огня» – после нескольких минут подобного раздумья точно холодком веяло от огромных фолиантов и математических вычислений.
– Да, я должен с тобой поговорить… – повторил Смит, когда его внучка села.
– Я слушаю, учитель, – ответила Кэтти.
III. Рассказ деда
Старик некоторое время молчал, собираясь с мыслями, потом тихо начал:
– Кэтти! Моя милая девочка, моя дорогая ученица! Я много раз говорил тебе, что надо бежать от той шумной жизни, которая кипит за стенами нашего жилища, а теперь… теперь я с краской стыда говорю, что должен поступить несогласно с тем, что внушал тебе… Кэтти! Я должен покинуть наше тихое жилище, должен в последний раз выступить в жизнь!
Девушка удивленно взглянула на него.
– Ты должен? Ты, который независимее самой королевы потому, что никакие житейские путы тебя не связывают?! Кто или что может заставить тебя? – воскликнула молодая ученая.
Смит грустно покачал головою.
– Может, Кэтти, может! До тех пор, пока дух заключен в этой бренной оболочке, которую зовут телом, нет истинной свободы. Ты спрашивала меня, зачем я оттачиваю меч… Затем, чтобы выйди из дому с ним в руке и забыть свои мирные занятия для кровавой битвы. Мои мышцы еще крепки, мои руки еще не ослабели. Я к бою готовлюсь, Кэтти!
– Учитель! Твоя ученица отказывается понимать, – прошептала девушка. – Ты идешь в бой! В этом есть что-то такое, чего не может постичь мой разум! Мирный ученый, старец, согбенный годами, превращается в свирепого воина! И превращается по доброй воле, ничем не побуждаемый к этому…
– Нет, не по доброй воле, Кэтти! Не по доброй воле! – быстро прервал ее дед.
– Что же заставляет тебя?
– Долг!
– Долг?
– Да. Слушай… Я тебе расскажу все, и ты поймешь, что твой старый учитель не по доброй воле поступает наперекор своим убеждениям.
– Мне приходится вспомнить далекое и тяжелое время, – говорил старик взволнованным голосом. – Твой отец, мой дорогой Чарли, которого Господь захотел отозвать к себе, потому что он был слишком чист для нашего мира, был в ту пору еще мальчиком семи лет. Уже и тогда я чуждался света и, отдавшись научным занятиям, жил с Генриэттой – твоей бабушкой, которая в то время была женщиной во цвете лет, – и с Чарли, вдали от города, в уединенной хижине на берегу быстрой речки. Жизнь наша текла мирно и тихо. Мы все работали. Я занят был своими рукописями или по целым дням бродил по полям, отыскивая редкие или целебные травы, Генриэтта занималась хозяйством, и даже маленький Чарли не бездействовал – он тогда с жаром начинал изучать латынь. Неподалеку от нас находилась бедная, маленькая деревенька. Ты знаешь, как простой народ глядит на людей, посвятивших себя науке: ученый в глазах простолюдинов не более как знахарь, продавший Сатане свою душу. Так они смотрели и на меня. Я, разумеется, только смеялся над этим и, не стараясь их разубеждать, так как это только подлило бы масла в огонь, хотел победить их неприязнь своими действиями и, когда узнавал, что в деревеньке кто-нибудь тяжело заболел, спешил подать помощь больному – я имел некоторые познания во врачебной науке, и у меня был собран изрядный запас разных целебных трав и кореньев. Однако бороться с предрассудками не так-то легко: неприязнь ко мне не уменьшалась, и даже спасенные мною от смерти больные не становились моими друзьями. Быть может, впрочем, в конце концов я и одолел бы недоверие поселян, если б тут не вмешался злой дух в образе женщины, по имени Иоганна. Женщина эта была родом из той же деревни и служила у меня в доме прислугой. Она была груба, зла, завистлива и ленива до крайности. Генриэтта долго билась с нею, но наконец должна была ее удалить. Иоганна покинула мой дом с угрозою отплатить «проклятому знахарю и всей его нечестивой семье». Я не придал значения этой угрозе и, взяв на место ушедшей служанки молодую крестьянку Урсулу, зажил по-прежнему.
Прошло два месяца. В это время в деревне начался сильный падеж скота. Откуда он был занесен – неизвестно, потому что нигде в окрестностях о море не было слышно. Самая болезнь была в высшей степени странная: лошадь или корова вдруг начинала чрезвычайно много пить – до того, что брюхо раздувалось, потом животное начинало метаться и, после нескольких неистовых припадков бешенства, слабело и через сутки, много двое, издыхало. Мне хотелось узнать, не могу ли я как-нибудь помочь горю бедных крестьян и остановить мор, если уж не спасти заболевших животных. Однако, когда я приехал в деревню, меня там встретили так враждебно, что пришлось с грустью в сердце удалиться. Целая толпа крестьян проводила меня бранью и проклятиями, а голос, в котором я узнал голос Иоганны, выкрикнул мне, что никто не нуждается в советах и помощи продавшего дьяволу душу знахаря! Что пусть я лучше уберусь, пока цел, а добрые христиане сами найдут средство избавиться от напущенного на них лихими людьми зла.
Когда я вернулся домой и рассказал об этом Генриэтте, она побледнела.
– Петр! Я боюсь, как бы не случилось чего-нибудь дурного! Иоганна так зла! Недаром же она угрожала нам, – сказала мне жена.
Но я поспешил ее успокоить, хоть у меня на душе далеко не было спокойно: слишком зловеще смотрели на меня крестьяне. Я даже подумал, не уехать ли в город, но меня удержала мысль о том, что нужно было бросить на произвол судьбы мои книги и рукописи, отказаться от занятий и променять простор полей и чистый воздух на духоту и тесноту города. Я предпочел положиться на волю Божию.
Несколько дней прошли без всяких тревог. Я радовался, что не поспешил с отъездом, не бросил своего чудного уголка из ложного страха.
Был ясный, тихий летний вечер. Чарли только что улегся спать, а я с Генриэттой тихо беседовал, прохаживаясь по саду, смотря, как догорают последние краски заката.
В это время прибежала Урсула, белая как снег.
– Мистер! Мистрис! Беда! – крикнула она нам.
– Что случилось? – спросил я тревожно.
– Прибежал мой брат предупредить. Крестьяне, вся деревня, идут сюда с вилами, с топорами. Их ведет Иоганна. Она наговорила, что вы изводите крестьянский скот своим колдовством. Они хотят вас убить. Бегите скорее, скройтесь куда-нибудь!
Среди того душевного спокойствия, которое навеял на нас тихий вечер, весть эта поразила нас как громом. Мы потерялись. Гэнриэтта в отчаянии заломила руки, я стоял, словно прирос к земле. Только мысль о сыне заставила нас прийти в себя. Мы кинулись к нему в спальню. Урсула еще раньше этого куда-то скрылась. Чарли крепко спал, подложив под щечку худенькую ручку. Мы его разбудили, начали натягивать на него одежду. Он сперва не понимал, что случилось, отбивался и старался опустить голову на подушку, потом, увидев мое бледное лицо и заплаканные глаза матери, горько заплакал в испуге. Мы спешили, но, как назло, все из рук валилось. Наконец мальчик был одет, и мы кинулись к выходу.
Глухой топот многих ног, говор и крики долетели до нас.
Мы в ужасе переглянулись.
– Поздно! – прочел я в широко открытых глазах Генриэтты.
Действительно, было поздно; толпа уже окружала дом.
Тогда я плотно запер двери и снял со стены вот этот самый меч. Окна были слишком высоко от земли, а у крестьян вряд ли были припасены лестницы; в дом могли проникнуть только через двери.
Я решился защищаться – иного средства спасения не представлялось.
Скоро в дверь постучали.
– Эй, вы там! Отворите, что ли! – послышался голос Иоганны.
Мы не отвечали.
– Отворяйте лучше добром! Не то двери выломаем, а до вас все равно доберемся! – продолжала она.
– Что вам надо? – спросил я.
– Мы хотим спросить у тебя совета, как скотинушку нашу лечить! – со смехом ответила Иоганна.
– Если так, зачем же вы пришли целой толпой, с топорами и вилами? – сказал я, будто не поняв насмешки.
– Да чего с ним долго толковать! – послышался чей-то мужской голос. – За тобой мы пришли, чернокнижник, хотим узнать, не полегчает ли нашей скотинушке, если мы выпустим черную кровь из тебя, из твоей подруги бесовской да и из маленького чертенка заодно. Ну, отворяй! Нечего разговаривать!
– Разбойникам честные люди дверей не отворяют.
Вопли ярости были ответом на мое замечание, и удары топоров посыпались на дверь. Она затрещала.
Я прижал к груди Чарли и Генриэтту и обнажил меч. В это мгновение я впервые изведал предвкушение смертельного боя. Ужасное это чувство, Кэтти, недостойное разумного существа, но в нем есть поэзия! Зверь, более или менее глубоко спящий в каждом человеке, просыпается, и ты чувствуешь, как бьется сердце в грудной клетке, словно рвется наружу, и кровь приливает к голове: красная пелена заслоняет зрение, и ты весь полон желания крови, теплой красной человеческой крови; ты задерживаешь дыхание, как зверь, подстерегающий добычу, и пальцы руки судорожно сжимают рукоять меча, словно впиваются в него.
Дверь быстро подалась. С треском рухнула на пол одна из досок, и тотчас вслед за ее падением плотная, приземистая фигура крестьянина протиснулась в сени через образовавшееся отверстие.
Со свистом прорезал мой меч воздух и опустился на голову врага и рассек от темени до шеи. Несколько капель теплой крови брызнуло мне в лицо. Генриэтта в ужасе закрылась руками, Чарли вскрикнул и испуганными глазами смотрел на струю крови, вытекавшую из головы убитого. Только я остался хладнокровен. Меч уже был занесен, и я ждал врага. Что было дальше, я помню, как сквозь сон. Я помню, что все чаще и чаще стали мелькать передо мною неуклюжие фигуры крестьян, что все чаще поднимался и опускался мой меч, помню, что кто-то нанес мне страшный удар в голову и я пошатнулся. Что последовало за этим, я могу только угадывать.
После этого я могу ясно припомнить все лишь с того момента, когда я увидел прямо над собой мерцающую звезду. Я попробовал приподняться и не мог – руки и ноги были связаны, попытался приподнять голову, осмотреться по сторонам, и не был в силах – голова моя была словно налита свинцом, и при малейшем напряжении я испытывал ужаснейшую боль.
Кругом слышался говор и смех. Откуда-то доносились плач, мольбы и стоны – мне казалось, что это плакала Генриэтта. Тогда-то наконец я понял, что лежу на земле крепко связанным, в полной власти врагов, что сын и жена разделили со мной печальную участь.
Глухое отчаяние наполнило мою душу. Мне хотелось крикнуть от той душевной муки, которую я испытывал; слезы сдавливали горло… Но я удержался: я не хотел проявить слабость духа перед этими злодеями. Потом это чувство прошло и заменилось полной апатией. Крики жены уже не трогали меня, как не возмущали и злобно-насмешливые возгласы моих тиранов.
Я уставился на ту трепетную звезду, которая сияла надо мной, и мне казалось, что она подвинулась ближе ко мне и лучи ее проникают в мою душу и приподнимают от земли, тянут в потемневшую синеву вечернего неба.
– А теперь, колдун, мы тебя немножко припечем! – раздался надо мной гнусливый, насмешливый голос Иоганны, и много рук подняли меня, понесли, и через минуту я почувствовал, что меня опускают на груду хвороста.
Вспыхнуло легкое пламя.
– Подпаливай не сразу весь костер! Зачем ему, нечестивцу, поблажку давать? Мы его помаленьку поджарим… – говорила Иоганна.
Я понял, какая страшная, мучительная смерть меня ожидает. Ты не можешь представить, каким ужасом наполнилась моя душа, – чтоб понять это, нужно самому пережить! Я не был трусом, но я был молод, полон силы… Мне так хотелось жить, Кэтти!
Твердость меня покидала, я готов был наполнить воздух криками о пощаде, но при трепетном пламени только что загоревшегося костра я увидел такое зрелище, от которого уста мои онемели.
Я увидел Генриэтту и Чарли. Бледные, трепещущие, они стояли обнявшись среди толпы хохочущих злодеев. И я видел, как чьи-то руки отняли сына из объятий матери… Приходилось ли тебе видеть, как орлица защищает своего детеныша?
Так Генриэтта защищала своего сына.
Она кинулась на этих сильных людей – одна против сотни! С горящими глазами, с волосами, развеваемыми ветром, освещенная трепетным, слегка красноватым отблеском пламени, эта разгневанная женщина-мать была страшна. Даже сами злодеи в первый момент растерялись, и Генриэтта успела на миг снова заключить Чарли в свои объятия. Но только на миг… Его опять вырвали у ней.
– Чего ждете? Чего мешкаете? Свяжите их, окаянных, вместе, если им этого так хочется, да скиньте, раскачав, с крутого берега в реку. Посмотрим, подхватят ли их бесы! – закричала Иоганна.
Это предложение было встречено веселыми криками – видно, оно пришлось по душе. Чарли и Генриэтту повергли на землю и связали вместе веревками, как спеленали. Потом подняли высоко над своими головами.
Лицо Чарли было обращено ко мне. Он не кричал, мой бедный мальчик, но в его взгляде, устремленном на меня, я прочел такую мольбу, что не знаю, как у меня в то время не разорвалось сердце от жалости. Но что мог я сделать, несчастный?
Я рванулся. Мои узы затрещали, но не порвались – злодеи выбрали крепкие веревки!
В то же время огонь добрался до меня и в первый раз лизнул мои ноги…
Но что значили физические страдания в сравнении с душевною мукой? Я закрыл глаза и зашептал молитву…
Послышался чистый, близкий топот многих коней, звон оружия, и голос Урсулы, который мне показался голосом ангела, громко проговорил:
– Вот они, злодеи, которые убивают моих добрых господ!
Я открыл глаза.
Десятка два вооруженных мечами и копьями всадников врезались в толпу. Крестьяне завыли в страхе и, не думая обороняться, бросились врассыпную.
Через минуту мой костер был потушен, и я, освобожденный от пут, поддерживаемый под руки двумя воинами, покачиваясь, стоял на обожженных ногах и обнимал плачущих – теперь уже от радости – сына и жену. Волнение наше было так сильно, что в первое время мы даже позабыли поблагодарить нашу спасительницу Урсулу, приведшую помощь, и того, кто, тронутый ее мольбами, поспешил спасти нас. При свете факела я увидел его мужественное, благородное лицо. Пернатый шлем прикрывал его голову, обнаженный меч еще блестел в руке, и как ко всему этому не шли или, наоборот, от этого были еще прекраснее те слезы, которые выкатились из его глаз, когда он взглянул на Генриэтту, Чарли и на меня, еще бледных, еще трепещущих от пережитого потрясения, плакавших и смеявшихся в одно время.
Он не ждал, когда я рассыплюсь в благодарностях, тихо отдал приказ перевезти меня с семьей в его замок и оставить там, пока не заживут мои страшные язвы от ожогов, боль от которых я только теперь начал чувствовать. Потом он медленно тронул коня.
Тогда я опомнился.
– Да вознаградит тебя Бог! – крикнул я. – Если когда-нибудь тебе или потомкам твоим встретится надобность в верном человеке – и голова, и руки ученого Петра-Иоганна Смита – твои!
Он обернулся и промолвил, улыбаясь:
– Хорошо! Я принимаю твой дар и для себя, и для моих потомков. Помни обещание!
Много лет прошло с тех пор, Кэтти. Уже давно нет в живых ни Генриэтты, ни Чарли, ни моего великодушного спасителя – я всех пережил! Нет в живых и его сына, но есть внук. Этого внука зовут Робертом Девере, графом Эссексом. Он был любимцем королевы, а теперь впал в немилость. Он горд – этот Эссекс. Он оскорблен королевой и хочет отомстить ей. Хочет с горстью воинов кинуться на улицы Лондона, произвести мятеж. Это ему не удастся, он идет на верную гибель: граждане станут грудью за свою королеву, и его воины потонут в массе противников. Я говорю, у него слишком мало воинов: каких-нибудь несколько сотен. Ему будет полезна каждая новая пара рук. Мне кажется, что теперь настала пора исполнить то обещание, которое я дал деду этого Эссекса. Я отточу меч и стану в ряды его воинов. Прав ли я, Кэтти?
Девушка отрицательно покачала головой и промолвила:
– Нет, не прав!
– Я не ожидал этого услышать… – пробормотал старик.
– Ты не прав, дед. Эссекс – бунтовщик, ему нельзя помогать.
– Не мне рассуждать об этом! Я знаю одно: внук моего спасителя в опасности.
– Кроме того, твоя жертва будет напрасна: что значат твои слабые руки против десятков сильных и крепких рук врагов?
Ученый сделал легкое движение, собираясь возразить, но внучка продолжала:
– Дедушка! Милый! – Она приподнялась и обняла его. – Неужели тебе не жаль покинуть свою Кэтти? Подумай – ведь только ты один у нее остался? Ни отца у ней, ни матери, только ты ей опора и наставник. Дорогой мой! Ведь ты на смерть идешь! Зачем ты хочешь заставить страдать свою Кэтти? Или ты недоволен ею? Она плохо работала, не слушалась твоих советов? Или тебе надоели мирные, ученые занятия? Вспомни, как мы здесь, вот в этой самой комнате, проводили за работой без сна долгие ночи; как мы вместе страдали, когда наши опыты не удавались, как вместе радовались удаче! Ты всему этому хочешь положить конец? О мой деда, деда! Не покидай своей внучки, повесь меч на прежнее место, где он висел, и оставь ржаветь в ножнах. А если ты не послушаешь меня, если пойдешь в бой, тогда… Ах, я не знаю, что сделаю! Я, кажется, последую за тобой в битву, заслоню собою твою грудь от свирепых врагов. Ты ведь любишь свою Кэтти? Ты ведь и сам страдаешь? Да? Так зачем же все это? Деда, ты привык размышлять: подумай и согласись со мной, что долг, который тебя заставляет действовать, есть долг ложный.
Смит грустно покачал головой:
– Нет, Кэтти! Нет, моя милая, любимая внучка, я не вижу, что он ложный. Мое сердце обливается кровью, но я должен сдержать обещание.
– Дедушка! Ведь ты только обещал, ты не давал клятвы… – промолвила взволнованная Кэтти, хватаясь как утопающий за соломинку.
Старик почти сурово посмотрел на нее.
– Подай Библию… – приказал он, указывая на толстую книгу, лежавшую на противоположном конце стола.