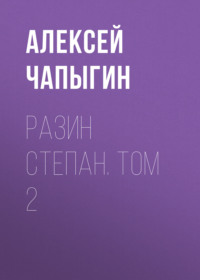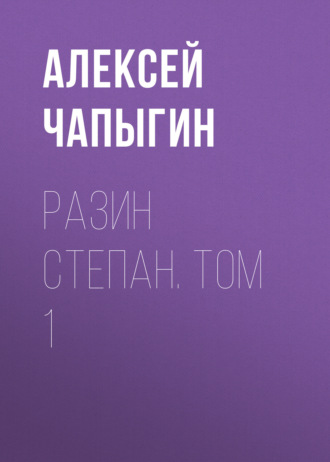 полная версия
полная версияРазин Степан. Том 1
– Горбун! Окунь столетний! Он – мой голубь-голубой. Степа, ты ведь мой?
– Твой, Ириньица, – с тобой я твой!
– Снеси меня на постелю.
– Сиди!
– Снеси, – говорю! Или сорву с себя платье, нагая побегу по Москве и буду кричать: «Я та, которую он взял от червей могильных, я та, и он тот, кого я люблю больше света-солнышка!..» Степа, снеси…
– Не вяжись, Ириньица! Дед говорит, я хочу знать…
– Она помеха и буйна. Сполни, не отстанет…
Казак встал, поднял женщину, разомлевшую от водки и меда, снес, положил на кровать.
– Ляжь – побью!
– Бей! Люблю… бей, а побьешь – сзади побегу, битой любимым еще слаще любить.
– Усни – приду скоро!
Ушел, а женщина примолкла и, видимо, спала.
И странно, когда гость прошелся по горенке, у него стало от хмеля мутиться в голове, ясные глаза налились кровью, а большая рука легла на рукоять тяжелой сабли. Перед ним кривлялся маленький седой горбун, на нем позвякивало железо. Казак забыл, что еще так недавно слушал горбуна, который сидел и говорил ему неслыханное; он топнул тяжелым сапогом и повелительно крикнул:
– Пляши, сатана!
Юродивый завертелся по горнице, горб его, подбрасывая крест, ходил ходуном, моталась седая борода, каким-то ржавым голосом старик напевал:
Жили-были два братана,Полтора худых кафтана,Голова на плахе,Кровь на рубахе.Мясо с плечСтали сечь.Ой, щипцы да клещи,Волоса да кожа,—Неугожа в кровиПокосилась рожа!Зри-ка, жилы тащат.Чуешь? – кости трещат.И тихо-тихо продолжал:
Две сулицы…Три сафьянных рукавицы…Дьяк да приказной,Перстень алмазной…Чет ударов палача —Бьют сплеча!Сруб-от в мясе человечьем,Тулово с увечьем…Кости, кости,—Ворон летит в гости,Кровью политый воз,Под пятами навоз,Идут в кровь, как в воду,—Честь сия от бояр народу!Аминь…– Дьявол! Худо пляшешь!.. – Гость было сбросил саблю на скамью, выдернул ее из ножен, и тяжелые сапоги с подковами лихо застучали по горнице. Он свистел, припевая:
Гей, Настасья,Эй, Настасья,Отворяй-ка ворота!Распахни и со крыльцаПринимай-ка молодца.У тебя ль, моя Настасья,У тебя ли пир горой,Воевода под горой.До полуночной поры,Гей, точите топоры!..Воеводу примем в гости,Воронью оставим кости…Ай, Настасья!Гей, Настасья!..Вторя свисту казака, сабля посвистывала, описывая круги. Старик испугался блеска сабли и разбойных посвистов, залез под стол. Казак, сделав круг по горнице, приплясывая, вернулся к столу. Неожиданно тяжелая рука с саблей опустилась на стол. Дубовый стол, разрубленный вдоль, зашатался и крякнул, доска распалась от удара – сабля глубоко врубилась в прочный дубовый столешник. От треска, стука и звона посуды, брызнувшей искрами со стола, проснулась пьяная женщина, приподнялась на постели, спросила:
– Дедко, где звонят?..
Испуганный юродивый, привыкший к шуткам, не мог не пошутить, ответил:
– У Спаса, Ириньица!
По полу валялись огарки сальных свечей и дымили; колеблясь, светили только лампадки у образов.
Притопнув ногой, казак с размаху воткнул саблю в стену, сабля, сверкая, закачалась. Сам он сел на скамью, тер лоб и ерошил кудри. Старик выполз из-под стола, собирал огарки свечей, битую посуду, яндовы[11] и чаши. Сдвинув разрубленную доску, расставил посуду; заглянул в кувшин с медом, устоявший и целый:
– Оно еще есть, чем кружить голову и сердце бесить… – и робко сказал гостю: – Я, гостюшко, такие песни не мочен играть…
Гость сидел, свесив голову, рвал с себя одежду, бросал на пол. Старик осторожно, как к хищному зверю, подполз, стащил с гостя тяжелые сапоги, приговаривая:
– Водки, вишь, на радостях глупая жонка добыла с зельем табашным… Бьет та водка в человеке память.
Казак встал тяжелый, глаза потухли, а рот на молодом лице кривился, и зубы скрипели. Старик быстро исчез с дороги. Казак прошел и рухнул на кровать. Юродивый прислушался. Казак, приказывая кому-то во сне, громко засвистал.
– Пала молонья, гром прогрянул…
Старик нашарил дверь из горницы, но скоро вернулся, и его валяные тупоносые уляди[12] прошамкали в прежний угол: он сел допивать уцелевший мед.
– Эх, молодец молодой, грозен! Да не тот жив, кто по железу ходит, а тот, вишь ты, жив, кто железо носит… из веков так.
4Сумеречно и рано. Перед Кремлем в рядах идет торг. Стоят воза со всякими товарами. Площадной дьяк с двумя стрельцами ходит между возов в длиннополой котыге[13], расшитой шнурами; на голове бархатный клобук, отороченный полоской лисицы. Дьяк собирает тамгу[14] на царя, на церкви и часть побора с возов – на монастыри: Звенят деньги.
Впереди рядов, ближе к Кремлю, палач – в черной плисовой безрукавке, в красной рубахе, рукава рубахи засучены – приготовился сечь кнутом вора.
Преступник в синих, крашенинных портках, без рубахи стоит пригнувшись, дрожит… В ранней прохладе от тощего тела, вспотевшего от страху, идет пар. На впалой груди на шнурке дрожит медный крест.
– Раздайсь, люд! – кричит палач, бородатый парень, которого еще недавно видели приказчиком в мясных рядах. Он неторопливо сдвинул на затылок валяную шляпу, зажал в крепких руках, почерневших от крови, кнут и передвинул крепкую нижнюю челюсть: зашевелилась окладистая борода. Ворот рубахи у палача расстегнут, виднеется на широкой волосатой груди шнурок креста. – Ты, голец и тать[15], спусти из себя лишний дух!
Палач шевелит кнут, распутывая движением руки на конце кнута кисть из воловьих жил.
– Тимм! Тимм! Тимм! – звенят в воздухе литавры.
Народ расступается, иные снимают шапки:
– Боярин!
– Царя с добрым днем чествовать!
– Эй, народ, – дорогу!
Через площадь проезжает боярин, черная борода с проседью. Боярин бьет рукояткой кнута в литавры, привешенные к седлу, лицо мрачное, на лице густые черные брови, из-под них глядят круглые ястребиные глаза; он в голубой бархатной ферязи[16], от сумрака цвет ферязи мутно-серый, на голове клобук, отороченный соболем.
Боярина по бокам и сзади провожают холопы. Огонь факелов колеблется в руках челяди, мутно отсвечивая в драгоценных камнях ферязи боярина и на жемчугах, заплетенных в гриве коня.
– Воевода-а!
– То хто?
– Князь Юрий Олексиевич!
– Ен Долгоруков – тот?
– Тот, что народу не любит…
– С дороги, людишки!
Свищет кнут… После десяти ударов преступник шатается. Кровь густо смочила опушку портков.
– Стоя не осилишь – ляжь! – спокойным голосом, поправляя рукава распустившейся рубахи, говорит палач.
Преступник охрип от крика; он покорно ложится, ослабел и только шевелит губами. Бородатый дьяк с гусиным пером за ухом, обросшим волосами, как шерстью, с чернильницей на кушаке, считая удары, подал голос:
– Полно-о!
Подвели телегу. Помощник палача в черной рубахе, перетянутой сыромятным ремнем, поднял битого, взвалил на телегу. Преступник моргает слезливыми глазами и чавкает ртом:
– Пи-и-ть…
Палач делает шаг, не глядя, грозно кричит на толпу:
– Раздайсь! – и щипцами откусывает преступнику правое ухо.
Toт, не чувствуя боли, шепчет внятно:
– Пи-и-ить!..
Дьяк машет мужику в передке телеги, говорит битому:
– Не воруй! Левое ухо потеряешь…
– Поглядели бы, крещеные, что уволок-то парень! Курицу-у…
– Да, суды… тиранят народ!
5Недалеко от битого места дерутся две бабы. У них в руках было по караваю хлеба. Теперь хлеб затоптан в песок, а бабы, сорвав с головы платки, таскаются за волосы, шатаясь, тычутся в толпу.
Дьяк со стрельцами подходит не торопясь. Бабы лежат, лежа, держат одна другую за волосы, плюются и языки высовывают.
– Эй, спустись, кошки!
Бабы не спускаются.
– Робята, разведите их дале розно да в зад коленом, – говорит стрельцам дьяк и идет в толпу.
Он обошел ряды возов и, не видя того, с кого можно взять тамгу, исчез. Толпа шатающихся праздно прибывает. В толпе появился татарин. На худощавом рябом лице горят зоркие глаза; татарин – в синей ермолке, в серой чалме, в желтом бархатном зипуне, в зеленых чедыгах с загнутыми носками, с мешком в руке.
– Купим соли, урус? Купим соль! – и трясет мешком.
Народ лезет к татарину, покупая, дивится, что дешево:
– Да где ты добыл, поганый, соль?
Татарин запускает в мешок большие руки, пригоршнями мерит соль, а берет за фунт грош…
– У нас на Казань нет бояр, нет Морозов, нет Плещеев, на Казань соль три пригоршни – грош… А был на Казань князь, татарский князь, соль дорожил – народ не давал, рубили ему башка, соль дешев стал!..
– Православные, ино татарин правду сказывает!
– Кабы Плещееву завернуть голову, то соль была бы…
– Морозову…
– Морозову заедино!
К татарину протолкались сквозь толпу два человека в длинных сукманах, в черных, похожих на скуфью шапках:
– Пойдем-ка, поганый, с нами!
Татарин на всю площадь крикнул:
– Гей, люди московские! За добро и правду к вам меня истцы берут.
– Пошто? Где истцы?
– Бей псов боярских!
– Гони! Лу-у-пи сатану-у!
Один из истцов быстро выдернул из-под полы сукмана тулумбаз[17], но татарин не дал ему ударить сполох. Пистолетом, спрятанным в длинном сборчатом рукаве, стукнул по голове истца, – черная шапка вдавилась в череп, истец упал. Другой побежал, призывая стрельцов, но его схватили тут же и, свалив, забили до смерти сапогами. Синяя тюбетейка и повязка свалились с черных кудрей татарина…
Народ теснился на площадь. Ловили и избивали истцов, – истцы исчезли.
Кто-то закричал:
– Поганый ты, свой ли, все едино – веди на бояр!
Смуглый, в черных кудрях, в татарской одежде, крикнул на всю площадь:
– Народ! Гож ли я в атаманы?!
– Гож! Гож!
– Пойдем, – веди-и!
– Веди! Будет им нас грабить!
– Имать Морозова-а!
– Молотчий, веди-и!..
– К тюрьме-е! Колодников спустим.
– Бояр солить – идем!
6По Москве во всех больших церквах бьют сполошные колокола. Воет медный звон, будто тысячи медных глоток.
– Зашевелились попы-ы, на Фроловой башне звон!
– Не бойсь! Стрельцы с нами-и, пущай фролят…
– Морозов усохутился[18] – сбежал!
В Кремле трещит прочное резное крыльцо боярина Морозова. Серой лавой лезет толпа с топорами, с кольем, с палками. Крепко запертую дверь выдавили плечами. В толпе изредка мелькают лица холопов Морозова.
В расписной сумрачной прихожей с окнами из цветной слюды встретил грозную толпу седой дворецкий в синем доломане, с протазаном[19] в руках.
– Куда, чернядь? Смерды, чего надо? – и размахивал неуклюжим оружием. Протазан задевал за стены, плохо ворочался в старых руках. Старик отчаянно закричал: – Боярыня! Матушка! Пасись беды…
– Брось матушку, пой батюшку!
К старику подскочил крепкого вида ремесленник в сером фартуке, ударил по древку протазана коротким топором, и оружие, служащее для парадов, выпало у дворецкого из рук.
– Пе-ес!
Старик стоял у дверей в горницы, растопырив руки, мешал проходу. Тот же человек схватил старика поперек тела, выбежал с ним на крыльцо и сбросил вниз. Толпа хлынула в горницы. От тяжеловесного топота дрожал пол, скрипели половицы, раздался хряст дерева, стук топоров. Вырвали окна; резные рамы трещали под ногами, слюда рвалась, липла к сапогам.
– Узорочье – товарищи-и!
Разбили крышку ларя, окованного серебром, но там оказались кортели, кики, душегреи. Пихали в карманы, роясь в ларе, боярские волосники, унизанные жемчугом и лалами[20].
– Во где наша соль!
Все из ларя выкидали на пол, ходили по атласу, а золотую парчу рвали на куски. Кичные очелья[21] били о подоконники, выколачивая венисы и бирюзу.
– Соли, бра-а-таны!
Наткнулись на сундук с кафтанами, ферязями – стали переодеваться: сбрасывали сукманы и сермяги, наряжались наскоро, с треском материи по швам, в ферязи и котыги. Сбрасывали с ног лапти и уляди, обувались в чедыги узорчатого сафьяна, а кому не лезли на ноги боярские сапоги, швыряли в окно:
– Гришке юродому гожи!
Одевшись в бархат, ходили в своих валяных шапках и по головам лишь имели сходство с прежними холопами и смердами. Одни переоделись, лезли к сундуку другие:
– Ай да парень! Одел боярином!
– Отаман – в парчу его обрядить!
– Тут ему коц с аламом[22], с кружевом!
– Не одежет – чижол!
– Эй, ты! Как тебя, отаман?
– Одейся!
– А ну, нет ли там турского кафтана?
– Эво – бери-и! На ище колпак с прорехой, с запоной.
– Пускай буду я, как из моря, с зипуном…
Иные в толпе не переобувались, ходили в своих неуклюжих сапогах, – то были осторожные:
– Ежели бежать надо, так одежу кинуть, а сапоги свои…
Херувимы, писанные по золоту среди крестов, спиралей, голубых и красных цветов, неподвижно глядели на гостей, не бывалых раньше в покоях царского свояка.
– Эй, други-и! Винца ба!
– Соскучал за солью ходить, хо-хо-хо, бражник…
– Сыщем вино-о!
– Гляньте – птича!
– Диковина – лопочет по-людски!
– На кой ее пуп! Не диво, кабы сокол!
Иные обступили клетку тянутого серебра, совали в клюв зеленому попугаю заскорузлые пальцы:
– Долбит, трясогузая!
– Щипит!
– Бобку нашли, младени? Шибай на двор!
Выбросили клетку с птицей в окно. Коротко сгрудились перед тяжелой дубовой дверью с узорами из бронзы на филенках, нажали плечами – не поддается.
– Подай топоры!
Стук – и вылетели дубовые филенки.
– Тяни на себя-а!
Дверь сломана, – хлынули в горенку, мутно сияющую золотой парчой вплоть до сводчатого потолка. Окна завешены. На вогнутых плафонах, с узорами синими и красными, фонари из мелких цветных стекол на бронзовых цепочках; в фонарях горят свечи. Под балдахином из желтого атласа кровать, на кровати – растрепанная и очень молодая женщина.
– Сестра царицы!
– На пуп нам ее, – тут девки есть!
На низких табуретах, обитых алым бархатом, в головах и ногах боярыни – две девицы, обе русые, в голубых сарафанах. Толпа смыла обеих. Скоро и буйно сорвала с девиц шелковые сарафаны, сбороздила заскорузлыми руками девичьи венцы с жемчугом, растрепала волосы. Больная баярыня с усилием поднялась над подушками и слабо крикнула:
– Не надо!
– Хо-хо-о! Не будь ты сестра царицы, мы б тя…
Девицы онемели от ужаса, стиснув зубы и закатив глаза, вертелись в грубых руках, падали, но их подхватывали. Тяжелый вошел в горенку, отбросил занавес окна – летнее солнце хлынуло в сумрак. Раздался голос, слышанный ранее на всю площадь:
– Зазвали в атаманы – слышьте слово! Девок насилить – или то работа? Сечь топорами – наша правда!
Послушались голоса. Девиц помятых, растрепанных кинули на кровать боярыни, как снопы соломы. Шиблись обратно в другие покои – срывали со стен многочисленные образа, разбивали киоты, сдирали серебряные ризы с лалами и жемчугом. Доски образов кидали в окна.
Атаман остался в спальне. Тяжело ступая, шагнул к кровати. Больная боярыня, закрывшись до подбородка атласным одеялом, сидя на постели, дрожала.
– Слушай! Я тебе грозить не стану – скажи добром, где узорочье?
Морозова подняла голубые глаза и снова с дрожью зажмурилась:
– Отведи глаза, не гляди!
– Глаза?
Он шагнул еще ближе, почти вплотную, и слышал, как, забившись под одеяло, всхлипывали девицы. Одной рукой приподнял Морозову за подбородок, другой тяжело погладил по мокрым от недуга и страха волосам, но в голове его мелькнуло: могу убить?
– Не боярин я… Огнем пытать не стану – добром прошу…
Чуть слышно боярыня сказала:
– Подголовник… тут под подушками…
– Ино ладно!
Он выдернул тяжелый подголовник, отошел, стукнул, отвернувшись к окну, ящик о носок сапога и, выбрав в карманы драгоценности, пошел, не оглядываясь, но приостановился, слыша за собой голос боярыни:
– Не убьют нас?
Ответил громко на слабый голос:
– Нынь же никого не будет в хоромах!
– Не спалят?
Сказал голосом, которому невольно верилось:
– Спи… не тронут!
За дверями спальни Морозова еще раз слышала его:
– Гей, голутьба! Вино пить – на двор.
Терем вздрогнул – по лестнице покатилось тяжелое. Со двора в окна долетал отдаленный громкий раскат голосов, стучали топоры, потом страшно пронеслось в едином гуле:
– Вин-о-о!
Под землей, в обширном подземелье, подвешены к сводчатому потолку на цепях сорокаведерные бочки с медами малиновыми, вишневыми, имбирными. Сотни рук поднялись с топорами, били в днища:
– Шапки снимай!.. Пьем!..
Долбились, прорубались дыры в доньях, из бочек забили липкие душистые фонтаны.
На полу стало мокро, как в болоте; потом хмельное мокро поднялось выше.
– Шли за солью – в меду тонем!
Мокро было уже по колено.
– Ву-ух! Бу-ух!
– Энто пошто?
– Бочки с водкой лупят!
Опять голос хмельной и басистый:
– Уторы не троньте-е! Днища бей, дни-и-ища!
– Пошто те днища-а?..
– Днища! Или брюхо намочите, а в глотку не попадет!
– Должно, товарищи, то бондарь, – бочку жаль?
– Бей! Хватит водки-и…
В подвале появились люди в серых длинных сукманах, в черных колпачках, похожих на поповские скуфьи.
– Робяты-ы! Истцы зде…
– Бей сотону-у!
Ловили подозрительных и тут же кончали. Какой-то посадский по бедности носил сукман, шапку утопил, стоял на коленях по груди в хмельном пойле, крестился, показывая крест на шее и руки грубые.
– Схо-о-ж, бей!
– Царева сотона вся с крестами!
Бродили по подвалу, падали, расправлялись топорами, но их расправа кончилась скоро: зеленым огнем запылала одна бочка сорокаведерная, потом другая, тоже с водкой, третья, четвертая, и зеленое пожарище поползло по всему подвалу, делая лица людей зелено-бледными.
– Истцы жгут?
– Лови псов!
– Спасайсь, тащи ноги-и!
Вылезли на двор, но многие утонули и сгорели в подвале. Толпа живых была сильна и буйна. Нашли карету, окованную серебром, сорвали золоченые гербы немецкой чеканки.
– Морозову от царя дадено!
– Царь бояр дарит колымагами, а нас жалует столбами в поле!
– Козой да кнутьем на площади.
– Кру-у-ши!
Изрубили карету в куски. Беспокоясь, пошли из Кремля.
– Убыло нас.
– Посады зазвать надо!
Под горой у Москворецкого моста встретили новую толпу.
– На-а-ши здесь!
Тут же под горой стояла кучка людей в куцых бархатных кафтанах, в черных шляпах с высокими тульями, при шпагах. На желтых сапогах длинные кривые шпоры. Кучка людей говорила на чужом языке, показывая то на толпу, то на кабаки, где трещали разбиваемые двери и звенела посуда.
– Робяты-ы, побьем кукуя!
– Царю жалятся, а сами живут за нас!
– За них немало людей били кнутом!
– Меня за кукушу били!
– Меня тоже-е!
– Эй, топоры, зачинай!
Грянул голос:
– Или я не атаман? Народ, немец не причинен твоей беде… Мститесь над боярами!
– Правда!
– Подай судью-у!
– Плещея беззаконного!
– Их, братаны, Гришка юродивой выметал, метлы ходил – давал, – «чисто мести по морозу плящему»[23].
– Чистова дьяка би-и-ть!
– С головой, урод горбатой!
Соляной бунт
1Набат над Москвой ширится, полыхают над старым городом красные облака; жестяные главы на многих церквах стали золотыми.
– Стрельцы тоже по нас!
– Их тоже жмали – метятся!
Нашли палача. Палач не посмел перечить народу.
– Ходил твой кнут по нас – нынь пущай по боярам ходит!
Палач пошел в Кремль; за палачом толпа – кто потрезвее. Стрельцы – те пошли во хмелю.
– Подай сюда Плеще-е-ва-а!
– Самого судить будем!
В деревянном дворце царя, видимо, решили судьбу царского любимца.
На обширном крыльце с золочеными перилами стоял матерый ширококостый молодой царь в голубом кабате с нарамниками[24], унизанными жемчугом. Близ царя – воевода Долгорукий – в черной бороде проседь, из-под густых бровей глядят ястребиные, желтые глаза. Князь одет по-старинному в длиннополом широком плаще-коце, застегнутом золотой бляхой на правом плече. Сзади царя – кучка бояр.
Перед царем, кланяясь в землю часто и униженно, сверкая лысиной, ползал на коленях пузатый боярин с пухлым лицом и сивой бородой. Черная однорядка волочилась за ним, слезая с плеч.
– Государь! Государь! Служил ведь я тебе и родителю твоему – себя не жалел! Попомни услуги, – пошто даешь меня на поругание холопам? Гож я, гож еще! Тоже и буду служить псом верным и службу где дашь – туда отъеду, и какую хошь службу положи…
Царь отвернулся, молчал.
Сказал Долгорукий резко и громко:
– Вор ты, судья! За службу кара.
– Бью и тебе челом, князь Юрий!.. Молви за меня государю слово, за душу мою постой, а я…
Круглые глаза князя глядели сурово на судью.
– Лазал перед государем с оговором – нынь «молви»!
– Ой, князь Юрий! Пошто мне тебя хулить, ой, то ложь, князь!
– Подай сюда Плещея-а!
Долгорукий молодо и звонко сказал:
– Палача сюда!
Плещеев, подавленный, уткнув лицо в полу однорядки, плакал.
На крыльцо поднялся палач. Облапив, понес Плещеева вниз по ступеням, но обернулся, спросил:
– Провожатый дьяк – кто?
– Казни судью! Вина его ведома.
Долгорукий отошел в глубь крыльца.
– Бояре, родные мои, кровные, молю, молю, молю! – закричал Плещеев и, встав на ноги, упирался.
Стрельцы, помогая палачу, пинали Плещеева.
Царь и бояре видели, как волокли Плещеева. Царь плакал. Кто-то из бояр сказал:
– Допустим смерда к расправным делам – не то увидим!
Бояре придвинулись к перилам, глядели, охали, а в то время на крыльцо по-кошачьи мягко вбежал человек в сером сукмане, пал перед царем на колени, заговорил, кланяясь:
– Не осуди, государь! Дай молыть слово…
Царь попятился, но сказал:
– Говори!
– Не стрельцы мутят народ, государь, а пришлый детина, коего рода – не ведаю; приметаны его – ширококост, лицо в шадринах малых, голос – как медяный колокол!
– Уловите заводчика!
Царь отошел к дверям в сени. Человек в сукмане хотел незаметно юркнуть с крыльца, но его уцепили за полу, из-под полы истца вывернулся и покатился вниз по ступеням тулумбаз. Старый боярин в синей котыге с тростью в руке держал истца за полу, шел с ним вниз и говорил:
– Уловите заводчика, справьте государю угодное… В кабаках водку огнем палите – к водке бунтовщик липнет. Да примечайте которого…
– Наших, боярин, много посекли бунтовщики в погребах боярина Морозова…
– А за то и посекли, что дураки! Дураков и бить. Киньте сукманы, шапки смените, людишками посадскими да смердами оденьтесь…
Истец хотел идти, но боярин держал его. Старик вскинул волчьи глаза, прислушался к говору бояр и тихо заговорил:
– Ежели ты, холоп, еще раз полезешь на царские очи, то будешь бит батогами, язык тебе вырежут воровской! Твое есть сей день счастье, что палач поганил, по слову Юрия князя, крыльцо! Иди – ищи.
Не смея нагнуться поднять тулумбаз, истец быстро исчез.
– Государь выдал! – крикнул палач, ведя Плещеева.
Много рук подхватили палача и судью за воротами Кремля, а на площади заухало тысячей глоток:
– Наш теперя-а!
Толпа бросилась к палачу, на нем затрещала рубаха, свалилась шапка, тяжело придавили ногу. Палач толкнул от себя судью:
– Сгоришь с тобой!
Толпа подхватила судью; сверкнули топоры, застучали палки по голове Плещеева.
– В смирной одеже!
– Сатана-а!
– Бархаты, вишь, дома-а!
Платье Плещеева в минуту расхватали, по площади волокли голое тело.
– А наши дьяка ухлябали!
– Назарку Чистова сделали чистым!
– Тверская гори-и-т!
– Мост Неглинной гори-и-т!
– Большой кабак истцы зажгли.
– Туды, робяты-ы! Сколь добра сгибло-о!
2В сумраке резной и ясный, как днем, стоял Василий Блаженный. Зеленели золотые главы Успенского собора. Кремлевская стена, вспоминая старину конца Бориса и польского погрома, вспыхивала, тускнела и вновь всплывала, ясная и мрачная.
Раздвинув набухшие, отливающие сизым облака, стояло прямое пламя над большим царевым кабаком.
Пестрая толпа с зелеными лицами лезла к огню. На людях тлели шапки, и казалось, не народ, а бояре выкатывают из пламени дымные бочки с водой. Народ, в бархатных котыгах и ферязях, бил в донья бочек топорами.
– С огня, братаны!
– Пей, товарыщи!
– Сгорит Москва!
– Али пить станет негде?
– Гори она, боярская сугрева!
– Слушь, браты, сказывают, царь залез в смирную одежу-у?
– Так ли еще посолим!
Пили, как в подвалах Морозова. Дерево на мостовой, политое водкой, загорелось. Горела и сама земля. На дымной земле валялись пьяные. Свое и боярское платье горело на людях. Люди ворочались, вскакивали, бежали и падали, дымясь, иные корчились и бормотали. По ногам и головам лежащих прошел кабацкий завсегдатай поп-расстрига, плясавший по кабакам в рваном подряснике. С кем-то другим, таким же пьяным, они тащили обезображенный труп Плещеева. Расстрига, мотаясь, встал на головни, на нем затлелась рваная запояска, задымились подолы рясы…