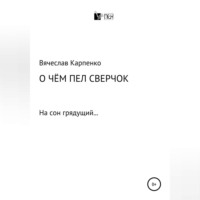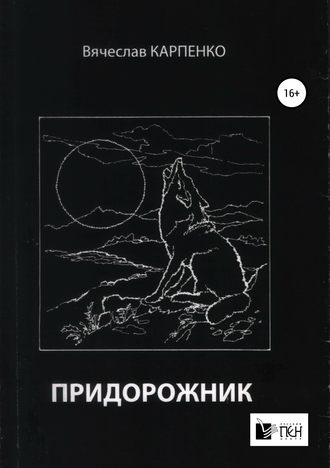
Полная версия
Придорожник
Пока хозяин закуривал новую сигарету, а потом, вспомнив, открывал форточку, девушка толкнула друга, показала глазами. Юноша тоже увидел на приемнике среди того же пепла – обручальное кольцо.
– Золотое… – сказал он шепотом.
– Брошено, – шепнула Валька и обвела взглядом комнату.
– Лежит просто, – одними губами сказал Валюша, его встревожил ее поспешный вывод, в голосе девушки слышалась тревога.
– Бро-ошено… – зашептала огорченно Валька и выпрямилась.
– Осмотрелись? Знакомиться принято… лучше позже, чем… – голос по-прежнему скрипуч и равнодушен, но рука у локтя Валюши – добрая.
– Валю…лентин!
– Тебя, забияка?
– Валь… Валентина!
– Ха-ха-ха… ха-кха-хо… Ну, сюрпризы – как знааменье… Ха-ох-хо!
Беспечный и громкий хохот так не вязался с настроением этого человека и с самой комнатой, что Валька, как тогда на остановке, ухватилась за рукав юноши и совсем по-бабьи прикрыла рот ладошкой. А хохот, освобождаясь, рвал прокуренный серый воздух, колебал холодный поток, текущий от распахнутой форточки.
– Ах-ха… вот ок-казия, братки, во-от смех-ху! – не мог остановиться хозяин, – одни Вальки… нет, кто поверит… Ух… Одни Вальки собрались!
И теперь уже хохоча втроем и удивляясь совпадению, принялись они хлопотать по квартире, сталкиваясь, мешая друг другу и смеясь оттого еще пуще.
И Валька выгнала мужчин на лестницу: «Ровно десять минут курить… не меньше, но не больше!»
И Валентин Григорьевич, подмигнув тезке – «хоть отчества различают», – ушел вниз. И вернулся, когда Валька уже перевешивалась в нетерпении через перила, готовясь звать погромче. Он вернулся, сам смущаясь неожиданным удовольствием: тащил горбатенькую, измятую сосенку. «Пусть и без игрушек…»
Поставили ее меж тремя чемоданами. Сосенка блестела каплями стаявшего снега и одним боком была красавицей. «Это ведь как взглянешь», – философствовала, весело пьянея, Валька.
– …А вы почему, Валь Гри, решили прыгнуть? Ведь ждали же вас где-то, правда?! – Валька нагорланилась и наплясалась, а теперь уселась с ногами на диван и пыталась противиться сну. – Вы моряк?
– Рыбак я… капитан даже, вот!.. Ждали… да не там, где дожидаться надо… С моря трудно ждать, девочка. У тебя, что, Валюша – ты уж прости! – Валюша-Валентин, курево кончилось? Что куришь-то? Выпьем… напоследок.
– …Хочешь сигару? Натуральная гавана… из Гаваны… ха! Я их одному другу-любителю все возил… почти каждый рейс… да бог им судья! Ты кем будешь?
– Технологом по обработке. Не хочу я курить, Григорич.
Валька ткнулась носом в плечо Валюши.
– Ложись, забияка. Ложитесь – пятый час. Вон в той комнате, там в шкафу белье из прачечной. Пора отдыхать. – Капитан поднялся с кресла, голос его снова заскрипел.
…На улице шел снег. Крупными, мягкими хлопьями, как и положено в такую ночь. Где-нибудь дежурил Дед Мороз: самый настоящий, добрый, дарящий. Тем, кто в него верил, снились добрые сны. Даже, если сон застал кого-то на борту качаемого волнами судна. И пробуждение сулило подарки.
Шел сонный снег.
По улице еще никто не проходил, и снег ложился ровно, сглаживал прошлогодние следы, которые походили на шрамы.
Окна спали в доме. И в других домах – во всем городе, или почти во всем. Светилось в доме только одно окно, потом в нем – погашенном – светилась кошкиным глазом точка сигареты. Погасла, и она.
…Валька проснулась легко… За окном сверкало дерево, укутанное снегом. Сверкал в Вальке вчерашний день, а наступивший новый казался совсем розовым. Она щелкнула юношу по носу.
– Вставай, лежка! Где наш Дед Мороз?
– Ты ведь не уедешь… останешься теперь – со мной? – зашептал он. – Мы придумаем что-нибудь, нам надо теперь – вместе…
Он хлопотливо одевался, стесняясь. И побежал умываться, но сразу из другой комнаты крикнул: «Иди скорее!»
Валька босиком зашлепала следом.
Валька никогда не видела ананас, даже издалека. Читала, знала, что – есть. Даже запах по книге знала – земляничный. А – не видела и не держала.
– Ананас, – сказал Валюша.
– Тебе, – сказал.
Ананас лежал на прибранном столе. Чемоданов не было, и книги стояли на полках. И брошенного среди пепла кольца – тоже не было. Ананас был теплый даже на взгляд. Под ним лежала записка. Голос записки был скрипуч, словно у открывающейся двери.
«Ухожу в рейс. Надолго. Вам должно быть хорошо. Ключи на приемнике. Оставьте их у себя – у меня есть вторые. Квартира оплачена вперед, и никто не придет. Ананас делите сами».
– Пополам, – сказала Валька.
Они вышли в снег. Было здорово, снежки сами скатывались, и Валька сразу попала точно. А Валюша скатал один, но бросать не захотелось. Он подхватил ее на руки.
– …И ведь даже фамилии не подписал, – перестал вдруг юноша кружить смеющуюся Вальку.
– Дед Мороз! – сказала Валька и положила голову ему на плечо. – Идем домой, ты ведь тоже есть хочешь?..
7
«А ты ещё имеешь смелостьПо луже топать каблуком.И в горле боль, но ты, как птица,Поёшь…»(Л. Мартынов).Медвежонок был игрушечный, с черной тряпошной шерстью, с нелепо раскоряченными тупыми лапами, подшитыми, будто валенки, кожей. Нос у него сморщился, казалось, что он принюхивается к собственному запаху и даже недоволен им. На самом деле медвежонок привык к своему захватанному мазутными руками телу, привык и к солярному духу, пропитавшему его давно и накрепко.
Если бы даже у игрушки этой была память, то и тогда медвежонку было б нелегко припомнить, каким он был прежде. И вернула бы память не к черному плюшу, из которого его кроили, а к хрустящему восторженному смеху мальчугана, что кормил медвежонка кашей. Однажды ложка попала зачем-то в круглый веселый глаз, манная капля прокатилась к носу, да так и засохла шрамом, вздернувшим курносую пуговку еще сильнее.
Но у Мини – так звали медвежонка, когда он не ходил еще в море – не существовало памяти и до сегодняшнего дня он вполне довольствовался своим висячим положением над серой подушкой с грубым черным клеймом почти посредине, прихлопнутым рукой явно небрежной и равнодушной. Раньше, когда на эту койку еще приходили письма, Мини по конвертам сразу узнавал ту же руку: место для штампа всегда выбиралось самое неожиданное – на лице, на самом ярком цветке. И хотя хозяин радовался и таким конвертам, Мини казалось, что ставит штампы один и тот же. человек. Но Мини был только медвежонком, да и то – игрушечным…
Сейчас медвежонку оказалось бы не до рассуждений, будь он даже живым, Серая подушка под ним ерзала, сухо клацали стальные крючки, на которых болтались зеленые потертые шторы, что отделяли коечный мир медвежонка от остальной каюты. Когда шторы с визгом съезжались в одну сторону, Мини мог видеть, как болтается в прикрепленном к переборке подстаканнике консервная банка из-под сгущёнки. Банка та издавна служила в пепельницах и была полна мелких, спаленных до фильтров окурков. Снаружи доносились удары, от которых все резче клацали крючками шторы, все раздраженней дергалась банка, все чаще выпрыгивали из нее обожженные фильтры сигарет, а пепельное облако все гуще оседало на полку внизу, стекая затем неслышными серыми ручейками куда-то ниже…
Мини уже, конечно, встречался со штормом. Но сейчас его неправдашние глаза были растерянны: он раскачивался на своем шнурке в такт нарастающим снаружи ударам, пока не стал колотиться по дну верхней койки. Мах – удар, еще мах – еще удар; ра-аз – бах! – два-а – бах!..
Иногда при толчке снаружи совсем грубом, от которого поскрипывала переборка, Мини несмело жаловался тем единственным звуком, который зашили ему в животе. Ай-ма-а!.. Но медвежонка никто не слышал. Каюта была пуста и гулка.
Шла «Флора» – тайфун. Какому потерянному безумцу привиделось впервые в этом коварном буйстве женское имя?..
Средний рыболовный траулер «Мерефа» задыхался и карабкался на темную водяную гору в бесплодной надежде, что гора окажется единственной; а добравшись – стремительно и длинно скользил по спине этой горы, сливая с себя потоки и постанывая. К новой волне, которая поднималась где-то в небе…
И хозяину было не до жалоб Мини, маленького неправдашного медвежонка с манным шрамом на переносице и растерянными глазами. Хозяин его, второй механик «Мерефы», скользил по рифленому железному настилу, с тревогой вслушиваясь в надрывное хрипение главного двигателя.
В вентиляторе давился брызгами холодный ветер, но механик все не мог выкроить время, чтобы отвернуть раструб вентилятора, который он еще утром сам направил жерлом к носу траулера.
Сейчас лучшая музыка для всех на борту – ровный гуд двигателей. Этот рокот удерживает на плаву их жизни, поэтому механик часто прикладывается тыльной стороной ладони к тем местам, где за крышками скрываются подшипники. Можно быть спокойным: масло почти не нагрелось, как кстати промыли они всей машинной командой коллектор и сменили масло позапрошлой ночью!.. Черт его знает, сколько еще штормовать придется, дури в этой «Флоре», хоть отбавляй, хоть молись на нее. За весь февраль всего пять промысловых дней, что за напасть такая!..
Было около четырех ночи. Конец вахте, и механик чаще посматривает на хронометр.
Траулер вдруг швырнуло резко и зло. Механик поехал к компрессору, с трудом удерживаясь на ногах, вцепился в трубу охлаждения. Двигатель взвыл и начал набирать обороты: там – в этом кипящем море – винт оголился и молол воздух. Механик бросился к регулятору, но судно уже выровнялось и теперь потащилось куда-то вверх.
Он свистнул в штурманскую.
– Вы что – сдурели там! Пятьдесят пять крен! Двигун запороть хотите, м-мать вашу…
– Н-не уд-держал на в-волну рулевой, Виталич. Лаг-гом встрет-тил, м-муд-дрец! Мне здесь с-стекло выдави-ило, – штурман от злости заикался там, на другом конце переговорной трубы.
– Шуточки… Третьего пойдешь будить, моего тоже толкни!
– Д-добро!
Через полчаса он сдал вахту третьему механику и поднялся в рубку. Сменившийся матрос пристраивал на место разбитого стекла фанеру. В рубке было свежо, и второй штурман задыхался на верхнем этаже витиеватого мата. Вахтенный штурман стукал ногтем по барометру и улыбался довольно беззаботно и выспанно – он был совсем молодой.
– Вот! Вот с-смотри на него, В-виталич! Не может руля в руках удержать, стервец непросоленный. А в штурмана ведь мет-тит!
– Зачем же практикантов к рулю в такую погоду ставить. Давай помогу заколотить…
– Пусть сам уродуется, не манную кашу лопать!
– Брось, Аркадий, чего теперь-то психовать. Пусть отдыхает, у меня лучше получится. А то вон Серега твой задубеет здесь за вахту, весь твой псих у него боком выйдет…
Море в последний раз свистануло брызгами, потом стало чуть тише: фанера приглушила рев.
– Радетель ты наш! – штурман кивнул сменщику, взял механика под локоть. – Не укачала девушка-Флора? К утру кончится. И не девушка уже – столько времени от Кубы шла, всю Атлантику измочалила, а все силищи, не приведи бог… Покурим в салоне?
– Нет… наверх поднимусь. Соляром прокоптел, хоть воздуха вдохнуть свежего.
– Смотри там, наверху: у нас как-то рыбмастер вышел на крыло покурить – только его…
По мокрому трапу механик вскарабкался на верхний мостик. Вот здесь ветер дул настоящий, нужно было согнуться, чтобы устоять перед ним. И вокруг было только море, море, море.
Траулер напряженно подрагивал где-то изнутри, и было странно, что эта точка сопротивляется и выстаивает в такой коловерти. Механик, удерживаясь за леера, раскачивался вместе с траулером, завороженный дрожанием судна, напряжением волны, которая все не могла перевернуть траулер, пропастью, куда летел он, чтобы на следующей волне вновь вырваться – вверх.
Небо было совсем чистым. И очень черным, прямо неестественно по-театральному черным. И звезды казались вырезанными из фольги и приклеенными.
А под траулером терзалось живое море.
У моря были глубокие глаза, в которые смотрел сейчас механик, и руки-волны казались мягкими и зовущими. «Боишься!» – ласково-насмешливо звали глаза, раскидывая руки. «Не боишься?», – спрашивал ветер, когда мостик с механиком взлетал по гребню волны так высоко, что хоть – отцепляй любую звезду. «Боишься…» – шептала пена, когда судно с человеком, сжимающим леера, летело в пустоту.
Ему стало тревожно. Не страшно, чего бояться моряку, когда надежно работает двигатель и судно послушно штурвалу… Но он представил, как далека отсюда земля, и тоска по берегу прервала дыхание, потому что глаза у моря показались знакомым-знакомые, такие до боли знакомые, что механик уже судорожно вцепился в мокрые, обжигающие солью и холодом леера и наклонился – к самым глазам.
Каким-то немыслимым нутряным усилием он заставил себя оторваться, вырваться из этого наваждения. И спустился в каюту.
Там было тихо, лишь Мини, его замусоленный тряпочный медвежонок-талисман, несмело жаловался и смотрел растерянными глазами, раскачиваясь на своем шнурке.
А потом медвежонок сидел на маленьком столике, навечно привинченном к переборке, и уже с любопытством и нежностью смотрел на человека, да ерзал по столику, чтобы придвинуться ближе к листку бумаги – наверное, хотел заглянуть в листок. Но Мини читать не умел, поэтому моряк писал письмо, доверяя бумаге свое наваждение и свою тоску.
Какие только письма не пишутся в море, когда Атлантикой играет тайфун с женским именем Флора, а волна смотрит на моряка знакомыми, далекими-далекими глазами… Прочитают ли они те строки, в которые заглядывает игрушечный медвежонок Мини с манным шрамом, вздергивающим и без того курносый нос его?..
Море все плавнее раскачивает траулер. И черный игрушечный медвежонок привычно пахнет соляркой, согревая щеку уснувшего рядом механика…
8
«Все тихо и молчит,и вот луна взошла…»(Ф. Тютчев)Поздним вечером ко мне постучалась женщина.
Переехал я в эту квартиру совсем недавно и еще никого не знал. Впрочем, лицо женщины было мне знакомо: запомнилось в несколько случайных встреч на лестничной площадке. Совсем короткие волосы придавали ее лицу мальчишечье выражение, если видеть мимоходом, выглядела она совсем молоденькой. Да и фигура у нее была подростковой, чуточку даже угловатой. Ей не шла помада, делавшая рот меньше и жестче. Потому что губы тоже были подростково припухлые, и непонятно, зачем их нужно скрывать этим жестким помадным рисунком.
И только глаза возвращали ей возраст, быть может, увеличивали. В них стоял некий грустный вопрос, ни к кому не обращаемый, плыли отрешенность и холод, от которых становилось неловко. Хотелось скорее пройти мимо: видимо, сказывался простой инстинкт самосохранения, или обыкновенный бытовой эгоизм, называй, как хочешь, – человеку, который сталкивается с подобным взглядом, является чувство неосознанной вины, взваливать же эту вину за здорово живешь на себя вовсе не хочется.
Но я быстро забывал этот взгляд чужого человека, помочь которому ты не способен. Да и не знаешь – как, не знаешь даже, нужно ли – помогать. Иногда ведь и грусть и боль – достояние столь же сладкое, что и радость. Страдание очищает и приподнимает человека над обыденностью, и это более интимное, более хранимое достояние: радостью человек охотно поделится, боль и грусть сильный человек не понесет на люди, это свое… А незнакомая женщина производила именно такое впечатление – человека, который привык самостоятельно распоряжаться своей судьбой.
Она попросила о помощи.
Ей необходимо позвонить. Прежде всего, узнать время прилета самолета. Я не расслышал, из какого города он летел, понял только – самолет пролетный и сядет на полчаса.
За окном шумели проходящие машины, потрескивала неоновая реклама. Ее свет окрашивал падающий снег в розовое. С непривычки снег мог показаться искрами, несущимися с большого пожара. Эти неправдашние искры-снежинки, на которые я так любил смотреть и которые примиряли меня с этим приоконным неоном, почему-то не показались женщине, которая вошла в комнату, закончив телефонные хлопоты. В руках у нее была телеграмма.
– Какой… безобразный снег, – она передернула плечами и прислонилась к дверному косяку так резко, словно желала нарочно ощутить реальную жесткость дерева. – А снег этот нельзя… потушить?..
Наверное, ей было необходимо выговориться, а может, даже выплакаться, и если бы здесь было купе вагона, а я не был бы соседом, с которым завтра придется здороваться, то так и случилось бы. Странно, однако, мы склонны порой случайно встреченным людям открывать такое сокровенное, чего не доверили б и самому близкому…
– Мне ужасно неловко… да и не знаю, как вы отнесетесь к такой навязчивости. Только мне не к кому сейчас обратиться, а вы… – она определенно знала, как я отнесусь к любой ее просьбе. Разве можно отказать в чем-то женщине, когда она постучалась поздним вечером, и когда у нее усталые глаза, и когда за окном несется откуда-то багровый снег?..
Предложить ей сесть? Кофе?
– И не беспокойтесь, ради бога. Просто мне очень нужно быть в час в аэропорту… а вызвать такси можно от вас. Если…
Я стал сбивчиво говорить, что нет никакого беспокойства, что я сегодня один и все равно буду поздно работать, что рад буду хоть чем-то быть ей полезным – соседи же… И все это – стараясь не натолкнуться на отсутствующий взгляд, не выдать своего интереса к ней. Потом – больше для того, чтобы как-то подтвердить свою готовность быть полезным – предложил отвезти ее самому.
– Это было бы самое лучшее, – сразу сказала она. – Нам ведь хватит сорока минут на дорогу?.. Двадцати? В половине первого буду готова.
И вышла, бросив резкий, что-то свое будто зачеркивающий, взгляд на горящий за окном снег.
Когда мы садились в машину, снег перестал идти, хоть небо и было еще затянуто низкими облаками. Было тускло и тихо. Доехали мы молча. Ее рука лежала на колене, открытом полой черной шубы. Колено обтягивал тонкий чулок, а в руке подрагивала все та же телеграмма, зачем-то взятая ею с собой. Казалось, молчаливая моя соседка так и не выпускала этот листок из руки с той минуты, как получила: словно конец нити, по которой надо идти далеко… Да мало ли что можно нафантазировать себе в молчании рядом с незнакомой женщиной, сосредоточенной в себе настолько, что жесткая складка залегла у сжатых губ…
Мы подъехали к аэропорту.
Здание светилось суетно и сонно. И внутри царил напряженный сон, изредка дробящийся голосом репродуктора. Здесь люди привычно оживали на мгновение, чтобы вновь окунуться в настороженную дрему. Свет ламп сжимал веки и накладывал резкие тени на обез-различенные сном и усталым ожиданием лица.
– Прибыл рейс Мурманск-Минводы, – сказал репродуктор. – Самолет вылетит на Минводы через тридцать пять минут, – добавил репродуктор устало.
Моя спутница прошла на выход. Губы жестко сжимались на совсем остывшем лице. Рука все так же сжимала листок телеграммы. Навстречу ей уже вылились пассажиры приземлившегося самолета.
Вернулась спутница неожиданно быстро.
Я не заметил, как она подошла, а когда тронула мой локоть – не вдруг узнал ее.
Глаза – распахнутые глаза ее – светились голубым мерцанием, как те маленькие, застенчиво-броские, бело-голубые цветы, что облепили большую ветку в руке женщины. Цветы были мне незнакомы, очень далекие и нездешние, как и женщина, что явилась с ними. Шубка распахнулась, а губам моей вновь явленной соседки вернулась припухлая беззащитность. Телеграммы не было. Вместо листка бумаги держала она эту ветку с далекими цветами, словно вобравшими в себя холодное, радостное снежное сияние, нежное и резкое, будто хруст утренней пороши…
На нас оглядывались пассажиры аэровокзала. И меня волновало это признание, пусть я и был простой случайностью.
Мне казалось, что и сон исчезал из-под высоких потолков зала ожидания. И само ожидание этих людей не казалось теперь сонным и бессмысленным. Они вырывались из случайной дремы своей и – улетали в другую, новую жизнь. Почему-то в дороге чаще пребывают мужчины.
Где-то их ждали уютные женские руки. Ждали раскрытые тёплые губы. И глаза, распахнутые невыразительными словами телеграмм. Ради тех глаз можно было вытерпеть даже обезличивающий, тусклый свет всех станционных ламп…
Мы возвращались в темной, без неба, ночи, когда женщина протянула руку к ветровому стеклу. «Прощу вас, остановитесь!..»
Я выключил мотор. И свет. Вокруг было безмолвно и безлюдно.
А сквозь облака пробилась, и вот уже выкатилась большая оранжевая луна. Стало светло; все кругом залилось бело-голубым светом. Призрачным и все же таким реальным, что хотелось почувствовать этот свет на ощупь.
– Когда она взойдет – ее везде видно, правда? – сама себе подтвердила женщина.
Мне представились далекие заснеженные холмы, на одном из которых мог, наверное, стоять сейчас человек и так же зачарованно смотреть на этот оранжевый диск в небе. Мог стоять он и на вздыбленной волной палубе. Потому что, действительно, луна – видна везде, когда она взойдет. И потому что она сводит взгляды этих двух, зачем-то разъединенных во времени и пространстве.
И, наверное, в этом пространстве меж ними есть свой смысл, как в той неувядшей ветке с белыми цветами, согревающей руку женщины. Как в том тихом свете, что обливает их обоих, когда взойдет луна.
Есть смысл в напряженных ожиданиях, стынущих женских глазах, готовых взорваться нежностью навстречу голубому сиянию. И блажен, кого видят эти женские глаза через дороги и время.
Когда взойдет луна…
Рождественское варенье
Странный мы всё-таки народ – двойственный, что ли… В каком ещё краю встречают=отмечают Рождество дважды? Или – Новый год? Только на Руси, даже если она бывшая Восточная Пруссия. Язычники мы всё-таки, пусть и завзятые атеисты. И, возможно, только у таких язычников, дважды радостно празднующих Рождество, и случаются самые нелепые истории, которые, однако, вовсе не обязательно заканчиваются трагедией. Все мы порою не отдаём себе отчет, к чему могут привести минутные слабости, следование которым… впрочем не будем торопиться с выводами, тем более, что, как ни пытайся перевести стрелки часов назад, это никому не удавалось даже в детстве.
Вот из-за такой приверженности традициям и приятному во всех отношениях увлечению приятель мой Дмитрий, вполне благополучный и благонамеренный человек, попал «как кура в ощип». Сам он и рассказал эту историю: не поймёшь теперь, смешную ли, грустную…
Увлечение у него вполне безобидное. Каждый год в конце лета и всю почти осень священнодействует он на кухне – варит разные варенья. И надо сказать, вкуснейшие, притом всегда одной консистенции, так что его-то варенье, в которое он никогда не добавляет воду, по одной ложке узнаешь. Клубничное, малиновое, сливовое, из черноплодки и яблок, даже из перележалых бананов, на которые почти не тратится сахар.
Разумеется, всё это разнообразие никогда не съедается, банки и баночки скапливаются в шкафах на веранде и в подполе, Митя раздаёт их друзьям и на кафедре. Жена его Александра, долгоногая и черноокая хохлушка, очень деятельная и, в отличие от него, скромного филфаковского доцента, управляющая солидной транспортной фирмой, порой благодушно ворчит на такое засилие банок-склянок, но это так, походя и любя.… Живут они уже двенадцатый год. У обоих было прежде по короткому браку, а эта встреченность оказалась удачной быть может оттого, что он на семь лет старше и на столько же примирившийся с жизнью, быть может – именно по разнице темпераментов. И кажется, единственное, что порой туманило их радость, это отсутствие детей. Но она до сих пор влюблена в его меланхоличное пение романсов, в его огромную библиотеку и начитанность. И в его умелые руки, которыми он, филолог, может и полку новую соорудить не хуже журнально-итальянской, и без слесаря-водопроводчика обойтись. И ещё любит Александра рождественско-новогодние праздники, начиная с двадцать пятого декабря и заканчивая четырнадцатым январём.
Приглашает Александра на Рождество, уже который год, трёх своих институтских подруг «на свеженькое варенье… ну, вы знаете…». Они – Катенька, Вера и Ната – и вправду знают и любят этот их сложившийся обряд, дань его увлечению: именно на первое Рождество (пусть и католическое) после всяких закусок и вин выставляются баночки с новыми вареньями – на пробу и восторги. Катенька уже давно разведена, тоже бездетна и не всегда приходит в сопровождении очередного «ах, он такой душка, это – теперь навечно». Зато Вера и Ната вполне благополучны в замужестве и умело управляются со своими «мужиками», предоставляя им считать себя «главами», которые, впрочем, деятельно поворачиваются шеей.… И они все красивы или милы, подруги Александры, хотя и каждая по-своему.
Ах, как прекрасны эти зрелые женщины в такую рождественскую ночь, как обжигающе манящи донесёнными до декабря солнечно-золотистыми шейками и грудью, чуть прикрытой мягкой тканью – черной, фиолетовой и вишнёвой, из-под которой видимо-дразняще проступают неувядшие бутоны сосков! Как женственны эти мягкие колени долгих ног на высоких каблуках, что придают женщине такую полётность в мягком комнатном вальсе! Как округлы эти обжигающие локотки, доверчиво лежащие на мужском плече, как таинственно глубоки эти глаза в мерцающем свете ёлочных лампадок, как влажны эти умело подкрашенные губы в сводящей с ума полуулыбке!..