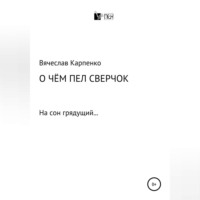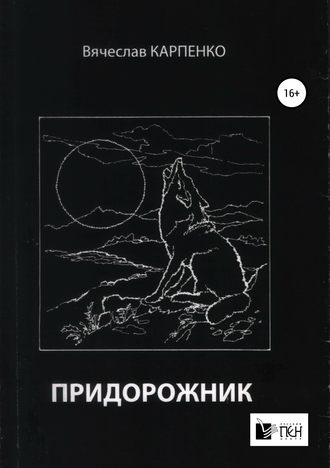
Полная версия
Придорожник
Да, память… чего вдруг припомнилась та давнишняя история… пять… смотри-ка, пять лет уже прошло! Чего ради вспомнилась та история… да, в Гданьске, где их траулер стоял на ремонте; так бесшабашно и даже… а что? – и красиво начавшейся. Эффектно, моряки искони любят эффект.
Они еще в мореходке с практики подъезжали к училищу от Московского вокзала каждый курсант – на трех такси… и традиция диктовала, и собственное мальчишеское ухарство, да и от голодного военного детства это было, наверное, освобожением, от всей той сдержанности хлебных очередей. А здесь – хозяин сразу трех машин: в первой через Кировский, потом Каменноостровский мосты на тихие аллеи Каменного острова вылетала рядом с таксистом – мичманка. Это ее вначале встречал долговязый Лексей Лексеич, начальник училища, их «кап-раз», капитан первого ранга, встречал, тая улыбку и грозя костистым кулаком второй машине.
Потому что вторая везла самого, ух как просоленного, «маремана» (теперь второкурсника!) «с морей». А уже в третьем такси следовал его чемодан с робой, до белизны вымытой морской модой, и с гюйсом-воротником, обесцвеченным каустиком до блеклой голубизны северного неба. За этот гюйс еще предстояло получить от того же Лексей Лексеича пять нарядов вне очереди…
Позже, уже всерьез работая по нескольку месяцев в Атлантике, они могли прямо с рейса, получив на борту аванс, слетать постричься-побриться в Москву, чтобы непременно вечерним рейсом и вернуться. Или пообедать – там же, просто и скромно пообедать без спиртного в хорошем ресторане, завершив компотом, и обязательно привезти счет, где тот компот значился.
Но нет, все не то, мимо, мимо… Не одно ухарство двигало им тогда в Гданьске на ремонте после четырехмесячного рейса, не мальчик ведь уже был. Тридцать два года исполнилось тогда главному механику среднего рыболовного траулера с финским названием «Кола», и «Дедом»[3] Кирилла называли на судне еще и любовно.
Нет, позже он ни разу не пожалел о своем поступке, наверное, повторил бы его снова, не будь теперешнего ощущения тщеты вообще всего, кроме самой жизни. Но тогда ведь тоже была – его жизнь, это определяет ведь человека, да – свой поступок, свой прорыв на другую ступень мудрости через бытийное благоразумие и… да, и через страх.
Это могло показаться странным, но именно в те тридцать два ему ударило в голову, что не может он без Марины. И страх утратить ее, копившийся четыре месяца рейса, повел его вместе с любовью. Такого еще не было, и потому он молчал, хотя на судне обычно не бывает секретов.
Была весна. Северное море дышало теплыми туманами, а в Гданьске лопались на деревьях почки и плыл клейкий запах первых листьев. Он совсем немного гульнул со своими механцами, ровно столько, чтобы одурманил этот запах листвяного настоя и смешавшегося с ним терпкого духа водорослей, который принес с собой туман.
Он набрал полную сумку всякой всячины «Выборовой» и сел в такси, а ребята понимающе помахали руками – видно, и в этом чужом городе есть куда ехать их молодому Деду!..
Возможно, они остановили бы, но он никогда о том не пожалел.
Надо, надо… надо вот сейчас… иначе он задохнется в этом воздухе, иначе всю жизнь будет преследовать его эта неосуществлённость… как преследует тот безответный пинок здоровенного воспитателя Ивана Альбертовича в детдоме… было Кире пять лет и ему удалось дотянуться и даже сделать глоток из банки с молоком, почему-то оказавшейся… просто вот так и стоящей на столе в их комнате. Эта банка потом стала зачем-то часто попадаться ему, остриженному наголо из-за насекомых еще в эвакопункте мальчишке с нелепо торчащими ушами. Он даже помнит щербину на кромке той банки и сладость единственного глотка молока, после которого получал здоровенный пинок… и надо было еще убирать это молоко на полу. Все становилось каким-то наваждением, потому что не мог он удержаться от того глотка, хоть и всегда его заранее тошнило от страха перед неминуемым пинком Ивана Альбертовича, неведомо откуда подстерегающего Киру. Мать нашла его в детдоме через год, но он долго еще сжимался в комок, поднося к губам стакан с молоком…
Какими словами убедил он гданьского водителя везти его к границе Ольштына, отдал ли он какие-то деньги? Это не имело значения никогда: значит, бывают такие слова и такое полетное состояние, что способны завихрить собою и чужого тебе человека; а может, позволяют и тому человеку вернуться к своему чему-то или обрести что-то свое, несбывшееся, расправить крылья своему… тому – запуганному и неосуществленному. За один такой полет надо любить любовь, и можно благодарить рождение твое за безоглядность ее крыльев…
Они почти досветла говорили за любовь с хорунжим-пограничником, к которому привез его Войтек и который оказался каким-то родичем водителя. Перед рассветом польский побратим в старательно застегнутом кителе поставил Кирилла на чуть приметную тропу среди высокой мокрой травы. Поставил с цветочным горшком в руках, а в горшке цвела бело-желтая чайная роза – ее передавал хорунжий «паненке Марине» вместе с поклоном… Да, и «братовым поцелуем» – хорунжий крутанул ус и туманно улыбнулся чему-то своему.
Без приключений добрался Кирилл до Багратионовска и сел в первый рейсовый автобус. Ранние пассажиры тоже улыбались, глядя на цветок.
Но Марины дома не было. И в городе: «Она же в отпуск уехала, разве не писала тебе? Путевка горела», – удивилась ее мать. «Вы ведь не предупредили ее… – добавила мать обиженно, увидев его лицо и поспешно принимая горшок с чайной розой. – Да и… знаете, молода она для вас, не обижайтесь уж. У нее…»
– Как это вы оказались здесь? – спросили механика в рыбпорту.
У него не было тех слов, как не было и тех крыльев, чтобы вернуться на судно. «Приехал домой… по своей земле. Заболел…» – бормотал он, не умея солгать и сам не зная правды. Но тут вернулся в порт его траулер, и вмешался капитан, как-то сумев притушить скандал приказом о списании механика на берег. «Поработай в техотделе, там люди позарез нужны, ничего, – говорил капитан ему. – Думать надо бы… Через рейс-другой заберу, назад придешь. Да хоть и вторым поначалу…». Он был согласен с капитаном.
И на субботник он пошел вместе с портовиками, потому что как раз рухнула семиугольная башня, и остатки «Палаты московитов», названной так еще по первому посольству русичей Василия III. Стены подсекали тросами, натягиваемыми мощными тракторами и танками, которые были впряжены сразу несколько, словно кони-тяжеловозы. Замок начальством города было решено снести. И на субботниках горожане вместе с солдатами разбирали разбитые стены тринадцатого века.
Город был, в общем-то, небольшой, пусть и областной, так что ничего странного не оказалось, когда провинившегося механика столкнула судьба с Борисом, а художник уже ввел его в круг ровесников, для которых замок стал не только ценностью исторической, но и способом утверждения истин, вынесенных из детства и школы. В их детстве рушилось слишком многое, на глазах рушилось. И теперь они ощутили свое право сохранять и себя противопоставить разрушению.
Из развалин древнего замка у художников, архитекторов и журналистов выросла идея «Музея мира», способного своими порушенными стенами и башнями напомнить – что же несет война. И молодые люди со всем азартом и неоглядностью бросились отстаивать этот проект, уже премированный на конкурсе. Отстаивать перед теми, кто вначале проект не понял по невежеству, а потом не решился отменить приказ о сносе – чтобы не признаться в том невежестве.
История замка вобрала столетия города и труда, и опыта, и знания нескольких народов, живущих на этих землях рядом: Коперник и Кант, первая книга на литовском языке и отец Суворова, бывший здесь комендантом. И те солдаты последней войны, совсем недавно в последний раз штурмовавшие эти стены… Память. Она увлекла моряка – его отец тоже погиб где-то здесь. И отвлекла было его.
Потому что Марина вернулась, а мать ее убедила в «несамостоятельности» этого моряка – «все, мол, они такие, пьют ведь небось! И ждать не дождешься с этого их моря, что за семья…» Все случилось так обычно и просто, но ему-то казалось, что эту пустоту в душе ничто не заполнит, а он устал от мужского своего одиночества в общежитии. Его матери уже не было к той поре на свете. И девушка ушла: «Я замуж выхожу… ты не сердись.» Не сердись… и в самом деле – на что же сердиться-то?
Да-а, и вправду: пришла беда, открывай ворота. Его траулер был еще в море, а он составлял обычные ремонтные ведомости, когда вызвали Кирилла в управление. И не просто – аж к самому начальнику управления. Да так, что даже и ждать в приемной не пришлось. Секретарша, будто напуганная его фамилией, заскочила в кабинет и тут же открыла перед ним дверь.
Грузный, но как-то по-военному подтянутый Главный, которого он и видел-то за все время раза два в президиуме, вышел из-за стола ему навстречу. Механик растерялся сразу: лицо Главного… да как же его зовут-то… нет, не вспомнить, у секретарши бы… лицо начальника было расстроено и бледно, а это, наверное, хуже, чем если бы оно угрожало или злилось. Хуже, хуже…
– Ну и натворил же ты, братец… – управляющий заглянул в листок, что держал в руке. – Бегунов! Как же ты здесь оказался, когда судно твое в Гданьском стояло? И капитан твой… хор-рош, подлец… думали – все шито-крыто, отсидишься? Для этого сперва свою команду получше надо знать… а тебе – друзей-товарищей. Что за моряки пошли – анонимщики, тьфу!.. Пацан, ах пацан – и ведь не понимаешь, да?! Письмо о твоем «десанте» написали… кто-то, чтоб его! И не строй целочку, я все знаю – даже, что невеста, к кому летел, отставку дала. Что-о?..
Он не знал, что говорить тогда, у него просто холодно было внутри, и вина перед своим кэпом давила больше всего… и перед ним, вот этим простецким пожилым мужиком, который не кажется сейчас начальником, хотя, наверное, может и под суд отдать. Он поежился.
– Ладно… Р-ромео, все знаю. А за́мок тебе на кой черт сдался? Что там за подписи ты собирал? Что тебе-то в тех развалинах? Ты же меха-ник, трудяга! – какое тебе дело до их интеллигентских выкрутасов, этих твоих художников-картежников? Что?! – лицо Главного побагровело.
– История…
– Тебе, братец, своей истории не расхлебать всю жизнь, а ты о мировой печёшься. Есть кому о ней думать.
И дорога в море ему закрылась навсегда. Как-то так произошло, что и в техотделе ему предложили уйти.
– Куда? – спросил он.
– И в порт не ходи… – отвел глаза его шеф.
Пить в том городе было легко, он надевал мундир с шевронами и прямел спиной, не касаясь стены в шумной пивной возле площади, откуда были видны работы на развалинах. В пивной всегда толкались моряки, его узнавали и не очень расспрашивали о жизни, ему сочувствовали, как любому списанному на берег надолго, и наливали широко. Опускаться оказалось легко и приятно, ему нравилось жалеть себя… А вернувшиеся из рейса ребята с его траулера собрали однажды денег и засунули насильно пачку в карман. «Кто же из вас? – терзал он себя. – Кто писал-то?..» Он вглядывался в каждого, но спрашивать не решился, ему сначала было противно само укоренившееся подозрение, а после стало все равно. О капитане он тоже не спрашивал.
Когда стало вовсе невмоготу, он продал форму и уехал. Шоферил в геологической партии, да тоже… О море пытался забыть, пытался как угодно затуманить память свою, а вот поди ж ты, помнится. И вот здесь теперь, что он ищет, потеряв самого себя?
Прошлую зиму он удачно пережил, чего там…
Приятель устраивался работать сторожем высоко в горах, куда добирались только спортсмены да метеорологи, и взял его с собой. Приятель тот скоро исчез, а он прижился здесь на всю зиму в тепле и сыте, и в тишине. Тишина, правда, отступала в выходные дни, когда поднимались щеголеватые парни-туристы с рюкзаками, магнитофонами, лыжами. И с девушками, веселыми, длинноногими, беспечными. Детей с ними никогда не было, и Кириллу почему-то казалось, что дети были бы неуместны рядом с этими легкими, озабоченными весельем и здоровьем, молодыми людьми.
Остальное время он помогал дежурному метеорологу разгребать снег и допивать оставленное вино. Или спирт, который выдавался вахтенному технику на какие-то технические нужды. Приборка в двух домиках турбазы много времени не занимала, а грабители, от которых он должен был охранять заносимые метелями домики, откуда здесь возьмутся?
Теперь, впрочем, вторую неделю стояла непогода, зима заканчивалась даже здесь в горах. А это самое неприятное время: то заколобродит нежданный ветер, то солнце припечет и где-то ухнет лавина, то низкие облака начинают сыпать жесткую снеговую крупу, а потом мороз заставляет сжиматься камни. И снова ветер.
Но зато это и самые спокойные дни, безлюдные.
Молчали заснеженные, пересеченные темными складками, горы. Маленькое окошко в его небольшой комнатке-сторожке зависало над обрывающимся вниз валунным скатом. И верхушки хребтов словно волны набегали на окошко прямо из серого низкого неба.
Ветер бесновался и стонал в каждой морщине каменных волн, он вбивал снег в эти морщины, спрессовывая его в длинные белые языки – будто старался и снег превратить в камень. Лишь камень и мог сопротивляться этому времени, их спор продолжается столько, сколько он, сидящий в тепле за окошком, и вообразить себе не может. И все же то время дает человеку ощутить себя: медленное, равнодушно-бесконечное время, неподвластное мысли и потому даже не пугающее человека. Его не пугает этот движущийся, свистящий, хохочущий воздух, что уносит его дыхание, как уносит и невидимые частицы камня, скругляя края трещин и изломов, и сами бока хребтов сглаживая, и недвижные волны их каменных всплесков.
«Пять лет, – подумал Кирилл. – Вон куда занесло, а все с морем сравниваешь…»
Он поежился, прогоняя безжизненные мысли, когда вдруг дошли до него резкие, чуть сипловатые крики двух черных птиц. То есть, вначале он чуть распознал их крик, вмешавшийся в посвист ветра, а после уж увидел их самих – двух черных альпийских галок с острыми клювами. Галки косо летели навстречу ветру, низко поперек белого склона горы летели. «Как печатные, – отметил он. – Черные на белом… Летят ведь».
У самого окна на обрыве, все так же перекликаясь, хоть и были совсем рядом, птицы сели. Чуть потоптались на месте, встряхнулись и пошли к его домику, высоко поднимая лапы и по-прежнему подбадривая один другого своими вскриками.
Он прильнул к самому окну, словно стараясь удержать их взглядом, но птицы исчезли. Вскоре он услышал позванивание щеколды, хлопанье крыльев и постукиванье в дверь крепких клювов. «А… на гнездо уже собирают» – догадался он. Так и было: птицы в два клюва настойчиво выдирали ворсинки из войлочной обивки.
Кирилл оторвался от окошка, тихонько подошел к двери и осторожно приоткрыл: птицы неохотно взмахнули крыльями и сразу сели на перила крыльца. Ветер колюче ударил в приотворенную щель, выбивая слезу. Галки словно понимали, что он не хотел их пугать. В клюве каждой виднелось по клочку надерганной шерсти, напоминающей паклю, и птицы поглядывали на него круглыми черными глазами, будто отсылая его назад в комнату. «Пигхи, пиуги… У каждого свое дело, – казалось, говорили они. Изжелта-розовые клювы не открывались, горловой звук напоминал бормотанье. – Пьихть-пиуги… Что особенного?..»
Дул ветер. Морщились стекаюшие вниз серо-белыми складками горы. Все так же смурнело низкое небо, тяжелые клочья облаков оседали на вершинах хребта, суля новый снегопад. Но все же в жёстком дуновении ветра проскальзывала, вздохом ли, чутошной одышкой, но проскальзывала струя помягче – близилась весна. И клювы этих птиц, с ворсинками войлока, тоже сулили весну и новую жизнь в гнезде.
Он уже закрывал дверь, когда раздался недальний хлопок и одна из птиц забила крыльями, валясь с перил на снег. Крик второй птицы, косо поднявшейся на крыло, отозвался у человека в груди.
Раненная галка попыталась подняться и боком съехала с косого сугроба. Она еще не выпустила из клюва своего пучка шерсти, глаза ее с недоуменным и больным вопросом остановились на Кирилле, а он широко открыл дверь, удерживая рывки ветра. Он не мог оторваться от этих глаз, которые становились всё безразличнее, уже сливаясь со снеговой фиолетовой тенью, и скоро потухли. «Ну вот и все… – мелькнуло в голове. И вернулся мыслями к выстрелу: – Осатанел от скуки. Так вот…» А вечером пил с метеорологом остатки спирта, и в углу жилья молодого техника притулилась та мелкашка, а на тумбочке вместе с какими-то схемами и расчетами лежала рисованная мишень со множеством удачно пробитых дырок.
Бывший механик охотно пил разведенный спирт и думал, что больше не сможет смотреть в свое окно, видеть насупленные хребты, слушать ветер; еще думал, что не сможет видеть ни галок, которые прилетают сюда за паклей для гнезд, ни метких метеорологов. Жизнь обрывает жизнь… «И ведь со скуки… так вот», – эта безсмыслица в который раз вошла в него, дальше надо было снова гасить постоянный вопрос. Он уйдет отсюда, хоть и перезимовал здесь, и поесть-выпить здесь всегда находилось. «Уйти… не надо мне», – других мыслей не было. И вдруг вспомнилось: «своей истории не расхлебать, а ты о мировой печешься, есть кому о ней думать.» Так кому же? – Ночью он исправно допил свою рюмку и пожелал востроглазому технику спокойных сновидений.
А ранним утром он уже был в городе у пивного ларька. Здесь, в городе, стояла почти жара, деревья зеленели, розовели последние цветы урюка и снежно белели черешни. И его узнавали у пивного ларька, а позже у гастронома: «Здорово, Дед!».
…Каким это образом прозвище тянулось за ним через всю страну, хотя давно утратило свой изначальный смысл? Он и сам уже редко вспоминал, или старался не помнить, что было время, когда так называли его уважительно, что тогда – там, в море, пять лет назад – у него даже было право так величаться. «Дед, стармех, старший механик…» – ухмыльнулся он, а перед глазами косо летели навстречу ветру, летели низко поперек белого склона горы две черные альпийские галки. «Как печатные… а чайки белые… также вот летят ведь».
Кирилл оглянулся, увидел того, кто окликнул его «дедом». Увидел неизменный замызганный плащ-маломерку, из-под коротких обтрепанных рукавов которого высовывались подвернутые рукава заношенного свитера. Взглянул на себя словно со стороны, отчужденно. И он ничем не отличается. «Вот тебе и Дед!..» Ближайшее, Каспийское, море плескалось отсюда где-то за три тысячи верст, а его все еще окликали «дедом» даже полузнакомые случайные люди. Да других у него и не было последние годы, других он ведь и сам не хотел и не искал, проваливаясь все дальше в этот омут.
Что делает он здесь, у пивного ларька этого южного сытого города? Все эти пять лет – куда они, что помнится? «Вот как, только эти галки и остались… – усмехнулся он криво. – Хватит!».
Кирилл вдруг выплеснул на землю из стакана, осторожно поставил стакан на ящик рядом. И пошел, не оглядываясь. «Тронулся! – услышал за спиной. – Ты куда это, Дед?».
Вскоре Кирилл был уже на почте. Телеграмма получалась длинная и несуразная, да и где бы он взял деньги на такую телеграмму? Он сел писать письмо своему бывшему капитану. «Вот так, – мелькали мысли. – Хоть рядом с морем…».
И над тем морем будут летать белые чайки. Навстречу ветру.
6
– Мама, а чудеса Дед Мороз делает?
– Делает, сын. Спи…
– А он, всегда один приходит? Почему он один?
– Не всегда, с ним Снегурочка бывает. Спи же…
Сейчас уже было ясно, что никуда не попасть.
Еще недавно оживленная улица опустела в момент. Перемешанный торопливыми ногами липкий снег медленно расплывался по тротуару, откуда-то слышалась музыка и невидимый смех, которые делали улицу еще пустыннее.
Они стояли рядом под козырьком киоска, за стеклами которого молчали журналы. Одна из газет смущенно поздравляла их с Новым годом. С наступающим Новым годом – до него оставалось совсем немного, а их нигде и никто не ждал.
Чем-то неуловимым они были похожи – эти юноша и девушка у газетного киоска на пустынной улице. Может быть, от общей растерянности, или – от желания успокоить один другого. Или от лимонного света фонаря, в котором все расплывалось, становилось мягким и невесомым. Но они были в самом деле чем-то похожи, чуть ли привздернутыми носами, обиженно ли приспущенными уголками детских губ. Их и звали-то одинаково: только его всегда называли Валюшей, а ее – тоже всегда – Валькой.
До двенадцати оставалось пятнадцать минут.
Через пятнадцать минут положено истомившимся над закусками гостям встать и взволновать себя и друзей своих нестройными тостами. И – рюмочным звоном. И вспомнить что-то уютное, может быть – запах маминой руки, подкладывающей дед-морозов подарок. Или – одинокую ракету, запущенную остервеневшим от разлуки штурманом в очередную волну. Многое далекое или желанное – и потому особо волнующее – вспоминается в эти двенадцать часов…
– …Ну и не надо: мы вот здесь встретим! Кто так еще праздновал? Не мучься, Валюша: я ведь к тебе ехала. В ресторане я могла бы и в Минске посидеть, а здесь зато морем пахнет. И мне вовсе не холодно…
Ей было холодно. Он чувствовал, как Валька сжимается, загоняя дрожь внутрь, куда-то под сердце. И в который раз подумал, как нескладно получилось с ее приездом: сорвался быстро, ничего не подготовив, ребятам в общежитии сказал, чтобы не ждали, да и в ресторане, если б повезло, разве были бы они одни? А ему надо сказать Вальке наконец, как нужна она ему, весной ведь, он защитится и уйдет в море… Дома-то она могла бы весело праздновать… не мерзнуть, а вот – приехала. И теперь согласна пить шампанское здесь… из бутылки. Хорошо хоть упросили швейцара вынести это шампанское.
Валька дотянулась губами до его щеки и высвободила руку:
– Дурашка, ведь семь минут осталось.
От фонарного света часы расплывались, циферблат казался необъятным и словно плыл по воздуху. Сумка, которую Валька открыла, тоже выглядела великоватой и казалась хозяйственной в руках тоненькой Вальки, тоненькой даже в этой черной синтетической шубке. Из сумки она достала зеленую бутылку и шоколадку, которую швейцар почему-то сам догадался вынести «на сдачу». Валюша оморозившимися пальцами срывал с пробки фольгу. Какой-то мужчина появился и топтался на остановке, нетерпеливо вздергивая голову на часы и в глубину улицы, откуда мог появиться хоть какой-то транспорт.
И подошел ведь трамвай! И в его лязге, и в пустоте за светящимися окнами молодые люди у киоска почувствовали себя еще более сиротливыми, они невольно коснулись друг друга плечами, чтобы не потеряться в этой сиротливости.
Мужчина неудобно взбирался в трамвай: руки заняты, а на ступеньках, видно, снег натоптали до льда. И Валюша уже хотел перебежать дорогу, но тот вошел в вагон и смотрел на них в окно. И словно ждал чего-то. Медленно тронулся трамвай, а юноша снова завозился с пробкой.
– Что вы эт-то делаете?!
Они оба вздрогнули от неожиданного крика. И увидели того мужчину, прыгающего назад со своими свертками. Кондукторша расплющила на стекле лицо, потом махнула водителю – мол, уже набрался! Трамвай взвизгнул на повороте…
– …Я эт-то вас спрашиваю, вам что – места на земле нету?
И отдышался:
– Идем! За мной…
– Вы не имеете… – Валька просунула руку юноше под локоть.
– Имею… Идем же, может, успеем.
И заторопился, оглядываясь и бурча, впереди них…Дом стоял здесь же, невдалеке, они поднялись следом на второй этаж.
– …Оправдываться некогда и не к чему. Как есть, тому быть, малы еще осуждать… Лучше все равно теперь не найти, – словно не человек сказал, а дверь скрипнула, открываясь.
Юноша и девушка стояли на пороге, а из комнат по-прежнему скрипел голос, который почему-то завораживал и подчинял их себе.
– Раздевайтесь… а-а, черт… зеркало потом… стул на кухне… проходите же, еще и уговаривай! – хлопнула пробка и включенный приемник отозвался перезвоном курантов.
– Еще минута: выпьем за старый, как положено… будь он неладен…
– А теперь за Новый, уж всем сестрам по серьгам пусть будет… нового счастья желать не буду – это берегите. Пей девочка, до дна пей… от тебя это счастье больше зависит… Хрупкое оно – счастье-то мужское, не с морем бы ему вязаться…
– А теперь – похозяйничаем!
Они могли отдышаться и оглядеться. Их неожиданный хозяин казался бы полным, если бы не вытянутое лицо с твердыми глазами под пепельными бровями. Брови почти не выделялись на немного отечном бледном лице, по которому трудно было определить возраст, но молодые гости жили в том своем времени, когда люди в сорок кажутся уже почти стариками. Новый китель с несколькими шевронами и петлей на рукаве казался на мужчине затасканным, и по лацкану ползла дорожка из пепла. И вся квартира была пепельной: валялись книги, которых давно не брали в руки, на сером пианино громоздилось несколько запыленных чемоданов, а на письменном столе засох цветок. И везде пепел, он каким-то путем попал даже в плоскую и, наверное, красивую люстру…