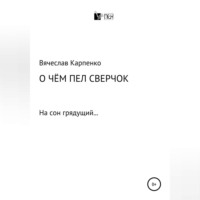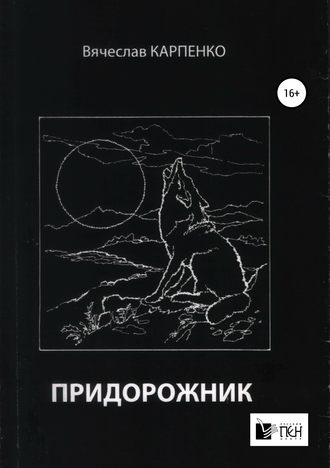
Полная версия
Придорожник


Вячеслав Карпенко (1938 г.) учился в Мореходном училище, Ленинградском университете (Ленинград-Санкт-Петербург), закончил Высшие литературные курсы (Москва). Работал в геологических партиях (Коми, Карелия), служил в ВМФ, ходил в море (Мурманск, Калининград), был журналистом (Калининград, Алма-Ата), электриком, кочегаром, егерем. Трудился в журналах «Новый фильм», «Простор» (Алма-Ата), «Запад России», «Параллели» (Калининград). Автор десяти книг повестей, рассказов, сказок («Вожаки», «Рыба была большая», «Мой правый берег», «Истинно мужская страсть» и др.). По его сценариям сняты документальные фильмы «Сестрички», «Это Я вышел на улицу» и др. Награждён «Орденом Мухи» (Казахстан, Алма-Ата), премией им. К. Донелайтиса (Литва, Вильнюс). Член Русского ПЕН-кпуба, Союза российских писателей.
Следы на воде
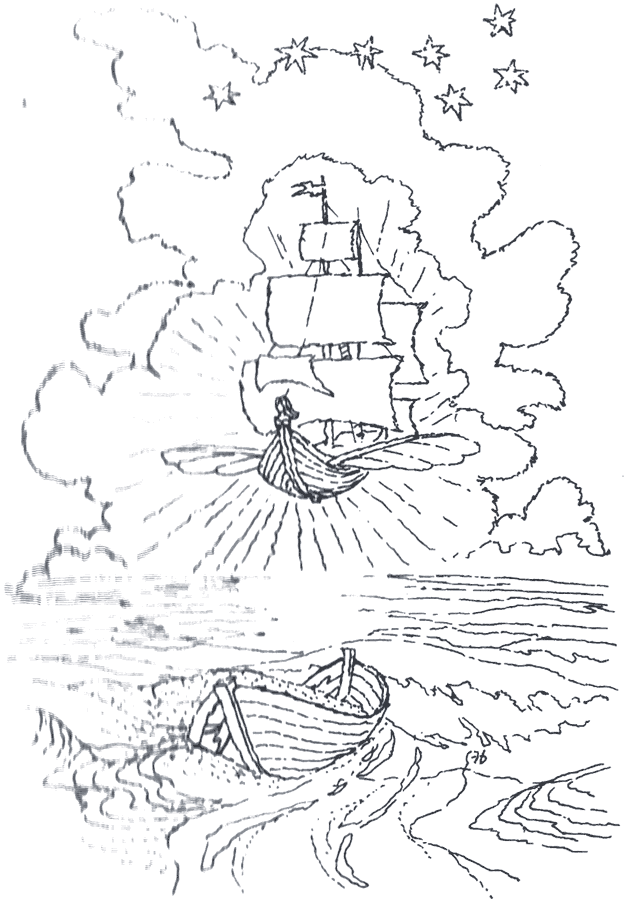
Свой парень
Мотор ревел надсадно, когда колёса влетали в заснеженную колдобину. Совсем недавно утихла пурга, прорвавшая стену леса, который тесно подступал к дороге по обе стороны. Тогда они выходили из кабины «лендлизового» «Студебеккера» и лопатами отыскивали колею.
…Два человека, замученных двухсоткилометровой дорогой, сжимаемых морозом и съёжившимся лесом. Единственной их опорой в этом замершем за стёклами мире оставался луч фары да пропахшая бензином теплота кабины. Вторая фара была разбита при погрузке.
Они везли обсадные трубы для буровой бригады со станции Княжпогоста, продрогшего нервного узла «железки» Коми-республики. Трубы необходимо доставить срочно: прервать хоть на час работу на буровой означало гибель скважины – зима…
Оставалось двенадцать часов и сто двадцать километров пути. И заносы на дороге подстерегали машину всё чаще. И мотор всё сильнее задыхался в очередном усилии, пока не закипела вода в радиаторе. Приходится остановиться и развести костёр, чтобы натопить снегу. Младший, почти мальчишка, попавший на север из романтического упрямства, неловко оскользнулся, наливая воду в парившее отверстие, и обернул ведро на себя. И теперь надо вновь набивать снегом прокопченное ведро, а сорокаградусный мороз сразу заковал валенки, ледяной коркой прихватил ватные брюки.
Через несколько километров по новой пришлось отгребать из-под колёс снег. Ноги его сжимало обручем, кружилась голова, и тянуло ко сну, но он кусал губы и ни за что не признался бы в своей слабости. Потом вроде и отпустило, и на следующем перегоне младший даже закончил рассказывать о белом безмолвии, пленившем троих путников, о борьбе и победе, о тайной нежности мужской дружбы. И о волках, которые бывают благороднее человека – не замечены в каннибализме.
– Смотри-ка ты, – покачивал головой водитель, не отрывая глаз от дороги. – Здорово, видать, знал этот Лондон нашу жизнь. Налей… и себе!
Спирт обжигал горло, они открывали двери, чтобы зачерпнуть снега. «Считай, что мороженое» – советовал водитель, с усмешкой кося взгляд на молодого.
– Джек Лондон – это писатель, а всё прошел сам: парнишка «на подхвате», газетчик, матрос, золотоискатель, кажется, даже пират…
– Интересный, стало быть, парень. Ты-то как?.. А сейчас он где?
– Умер. Сорок лет уже…
– Свой был… Пошли копать, а то мотор сорвём начисто.
И вновь они копали. И ехали дальше. И опять отбрасывали снег, освобождая вязнущие колёса. Пока не показались огни Визинги – небольшого села на берегу северной реки Сысолы, теперь закованной метровым панцирем льда.
Когда младшему разрезали валенки, чтобы снять их с опухших ног, он закричал. Скрипучим криком, вырвавшемся наружу и возвращающим сознание.
На следующий день сорокалетний водитель протиснулся в наиндевелую дверь сельского медпункта.
– Вот: принёс, – он добродушно выдохнул спиртово-табачный пар. – Может, быстрее время-то уйдёт. Ты здесь поправляйся, ничего…
Это была книга Джека Лондона «Смок Белью». И – бутылка спирта, питьевого.
Настроение
…Меня всегда раздражали белые ночи. Белые ночи и трамваи.
Видимо, потому что они отрицали меня. Вместе с тобой. Отрицали… и уходили от меня. Всегда – от меня. Белые ночи ОТ меня. ОТ меня – трамваи. Они и тебя скрывали или увозили – ОТ…
От… от… от… всегда – от. Только – ОТ.
А я ждал – КО мне… И ты знала это.
Я тоже пробовал их не замечать.
Поднимал голову, поворачивался спиной. Просто – закрывал глаза…
Но напускная гордыня оборачивалась бессонницей. Или – сбитыми ногами, гудящими от пройденных километров. Поражением, нет… тоской.
…Есть на Севере болезнь. МЕРЯЧКА – МОРОКИ – так её называют северные люди.
Болезнь снегов и света. Болезнь… Красоты! Болезнь слабости и одиночества.
Неприятия Природой – Человека. Непрощения Блудного Сына.
Здесь человек живёт день. Месяц. Несколько месяцев.
Над ним – дёргается Небо. Над ним – изгибается, колышется, взрывается и ревёт Небо. Ревёт, бушует Свет. Свет… Свет и Цвет. Краски. Свето-краски!
Зелёные, розовые, красные, оранжевые, голубые. Фиолетовые, оранжевые. Оранжевые, как абрикос – на исчерна-синем холоде ночи. Оранжевые. ОРАНЖЕ…
– Потушите Небо! – выскакивает в снег и кричит человек. Человечек – под колышущимся, раскалённым морозом небом. – По-отушите небо… Потуши…туши…
… Ушёл, наверное, последний трамвай?
Посмотри: под ногами теплятся каштаны. Влажные каштаны, за коричневым их глянцем – сочувствие, там жизнь – за глянцево-влажной коричневой кожей.
Ты набираешь пригоршни каштанов. Матово-влажных. Жаждущих тепла и земли. Жаждущих своего слияния, возвращения в её, Земли, лоно.
И ты просыпаешься ночью, и тянешься к их сочувственному теплу… Ты уверена, что можно вобрать в себя это тепло – и ничем не отвечать?
К утру каштаны засыхают. Чего, кажется, недоставало им? – Немногого, как и нам: разделённости их одиночества. Земли. Слияния…
Ещё ползает белая ночь. Уже взвизгнули трамваи.
– Потуши… ПО-ТУ-ШШШИ-ТЕ-НЕ-БО!..
Дороги
Мне дважды повезло. Мне просто удивительно повезло. Я приехал в этот город. Сумел приехать, не мог не приехать. А это было трудно сделать – приехать. Трудно и – необходимо. Необходимо, пусть и трудно. Необходимое – всегда трудно.
Но я приехал. Я не мог не приехать.
Впрочем, не приехал – прилетел, хоть это и ничего не меняет. Я прилетел и вошёл в телефонную будку.
– Не могу ли я услы…
– Ох, это ведь ты… опять – ты! Ну конечно же – ты… Так можно ведь заикой стать – не ждала…
Ну конечно же – я. Приехал, прилетел. Примчался. Заявился, да? Да. Да-да. Прилетел в эту будку. Телефонную. Теперь все будки – мои.
Ты только говори. Всё, что угодно – говори. Молча – говори.
Да. Да-да-да… Чего я хочу? Действительно, чего я хочу…
Я хочу совсем немногого.
Совсем необходимого. Хочу так много. Счастья увиде… «Алло! Алло… Ал…»
Гудки.
Короткие.
Короткие. Как – свидание. Как – жизнь.
Возвращение
«Девушка, которая с первым лучом солнца положит на могилу Бируте цветок, найдёт его вечером в руках суженого…»
(…в Паланге)Осень осыпала золотом землю, но хризантемы на клумбе за соседской оградой ещё белели среди пожухлой травы. Последний Дар золотой Осени.
«АЛЛО, ты сейчас выйдешь, и мы поедем… мы уедем… совсем уедем!»
– Но…ты?! Здравствуй, для начала! Откуда…
«Конечно – здравствуй. ЗДРАВСТВУЙ! Я жду тебя, и она ждёт – Бируте. Ты ведь не забыла её?»
– Забыла-а?! Ты…
…Весталке нельзя любить. Только для Бога горит твой костёр. Ты забылась, Бируте? Ты не можешь – не должна – смотреть в глаза смертному. Даже – князю. Твоему – Князю. А ты – Любишь!
Бойся, Бируте, страшна месть за Твою любовь. Не Бога месть, нет – что Богу до маленькой весталки, закланной людьми Ему в невесты. Закланной людьми, чтобы откупиться за свои грехи. Страшна месть оскорблённого шептания, обиженной надежды на спасение. Чувствуешь, какие взгляды змеятся по твоим плечам?..
Оглянись: слабеет огонь, который тебя обрекли поддерживать. Вернись – и опустятся руки, уже поднимающие камни в пыли собственных маленьких страстей. Вернись… забудь Князя и заглуши биение своего сердца, успокой дыхание, так вызывающе обостряющее грудь. Вернись, забудь – тебе, как прежде, будет сытно и покойно – бесстрастно и ровнохладно. Вернись – это просвистел первый камень… его скоро назовут Громом, этот камень. Так удобно – взвалить на богов и гром от них… Они похоронят твою любовь… чтобы потом… позже… много позже петь о тебе, Весталка, грустные песни…
Шумит в соснах прибой. Что-то шепчут ветру дюны. Тает под луною выплеснутый морем янтарь…
«Послушай, зачем ты встаёшь так рано? Где нашла ты цветок такой поздней осенью? Вернись: ты заклана, по плечам твоим уже змеятся взгляды оскоплённых кастрюль. Вернись – тянутся руки за камнем, обёрнутым в сплетню…
– Алло, я ведь могу… могу поднять этот цветок!..
Тает поднятый тобою янтарь.
Почём нынче тот пуд соли?
Повесть в рассказах
– А море ещё солоней, чем я думал…
1
«Обнаружили баркас белого цвета,
Без хода, с самодельным парусом».
(Из радиограммы с борта поискового самолёта)… – Страшно мне, Дима, никогда я, видно не привыкну. Возвращайся быстрей… вернёшься – может, уедем отсюда. Уедем? Ты механик, везде работу найдёшь…
Они стояли у самой воды, по щиколотку в ползущем, прогретом с утра песке. Невдалеке, у хлипкого дощатого причала покачивался баркас. Солнце отражалось в его недавно крашеных бортах. На баркасе всё было готово к отходу. Бригадир, возившийся на борту, разогнул спину и махнул рукой.
– Пошли, Дмитрий! Прособирались, последние нынче отваливаем.
– Не верю я ему, морю этому…
Проходов провел рукой по щеке жены, успокаивая.
– Зря ты… Иду-иду, Николаич! Зря ты, Валюха, в море и так горькой соли много. Привыкай уж, к вечеру ведь вернемся. Вон какая погода отличная, далась бы рыба!
Баркас медленно отвалил. Дмитрий прибавил оборотов, и берег стал удаляться быстрее.
– Стоит твоя-то, не уходит, – кивнул бригадир. – Не обвыкнет все никак, моя вот меня с вечера к черту на рога послала и носу на прощанье не высунула, напрощалась за двадцать лет… Да тоже – вид один делает!.. Так, говоришь, Мить, квадрат вчера узнал?
– Корешок у меня на тральце штурманит: рассказывал, что там косяк тресковый жирует, они на пути засекли. Далековато…
– А нам чего – далековато, с мотором чать.
Мерно постукивал мотор. Оба матроса задремали – видно, вчера в соседний колхоз по девкам бегали. Николаич курил и в такт мыслям своим и ритму двигателя сплевывал за борт.
Проходов думал о том, что только в рейсе и можно помолчать: самое мужское дело – молчание о своем… И еще думал, что пора бы переходить на траулер, вон какие на днях еще два красавца-СРТ[1] пришли в управление. Поработал два года – хватит, а то и забудешь все, чему в мореходке учился. Вон, постукивает себе, у этого движка и мотористу скучно. Да-а, должна же Валюха когда-то привыкнуть к его рейсам… Если на траулере – это по три-четыре месяца, а здесь из-за одного дня в рев ударяется. Ребенок нужен, вдвоем бы и ждали. Привык же он, коренной смоляк, к Балтике, и она ничего – притерпится.
А лов удался. Не соврал ему штурман. Косяк попался плотный, баркас потихоньку оседал под треской. Сначала брали подряд. Дмитрий посмотрел на возбужденное лицо бригадира, шутливо крикнул в самое ухо: «Всю Балтику на берег вывернуть хочешь?..»
– Только крупняк беру!
И не заметили, как с вечера приползли от горизонта тучи. Как налетел ветер, который, впрочем, сразу и ослаб. Лишь сильная зыбь качала баркас, да изредка набежит волна покруче. Но какой же рыбак оставит сети за бортом, да еще с рыбой.
– Выберем и – к дому, – Николаич поторапливал свою маленькую бригаду, уже предвкушая, как дивятся на берегу их удаче.
Забилась последняя треска, засыпая на борту, как проснулся шторм. Море рявкнуло и вцепилось в баркас. Ветер сорвал пену и мокрыми дробинами швырнул в лицо капли.
Дмитрий вывел регулятор оборотов двигателя до предела. Высчитал, что часа полтора ветер будет помощником, а потом придется повернуть, и волны начнут лупить по скулам.
– Проскочим, ничего! – крикнул он бригадиру, удерживающему руль.
А ветер шалел все больше. Волна догоняла суденышко, проносила его на себе. Игра эта становилась опасной: оголялся винт, и древний двигатель нервно увеличивал обороты. Дмитрий настороженно прислушивался к выхлопу и вздохам во втором цилиндре. Дотянуть бы…
До берега оставалось не более часа, когда двигатель затрясло, словно в коклюше. Вот тебе – чтоб не было скучно, сглазил-таки… Дмитрий резко перекрыл топливо.
Несмотря на ветер, на баркасе стало так тихо, что бригадир схватился за грудь – там громко шел будильник, его Николаич всегда брал с собой в море. И все услышали это радостное тиканье, радостное и важное, отсутствующее – как воспоминание.
Волна, примеряясь, хлопнула по правому борту около кормы. И, поняв беспомощность суденышка, понесла его в сторону. Заиграла, закружила баркас так, что и не понять было – куда несет…
– Парус, парус ставь… у меня одеяло… и плащ-палатку…
– Рыбу – за борт! Ах, ты черт, рыбу-у…
…Третьи сутки ярится Балтика.
Третьи сутки притихший поселок Пионерский всматривается в набухший свинцовый горизонт. Сначала невернувшийся баркас искали СРТ, теперь квадрат за квадратом ощупывает самолет, а траулеры настроили рации на его волну.
Валюху забрала к себе жена бригадира. Ольга Трофимовна только молча гладила плечо молодой женшины, она не теряла надежды так быстро, ей и на Каспии приходилось ждать, когда они с Николаичем там жили… За двадцать лет сколько слез выплакано, а девчонка – что ж, пусть поплачет, слеза бабья тяжесть с собой уносит…
А рыбаки третьи сутки сопротивлялись Балтике, которая все пыталась их подмять. И знали, что их ищут: иногда слышали самолет. Он пролетал, и становилось страшнее – умирать сызнова не хотелось.
Дмитрий Проходов чувствовал себя виноватым и ломал пальцы в остывшем двигателе. И, выглянув, снова прятался под плащ-палаткой, которой он обтянул движок. Там было страшно темно, и громче била волна. Но хуже было видеть сведенные в кулак лица, обращаемые к нему взгляды – как же, как, ну?!. Может быть, они и не винили его, но смотреть на них он не мог.
Они сорвали голоса и уже потеряли силы кричать вновь пролетающему самолету, но все же сипели, словно там их могли услышать. А потом – неожиданно близко и огромно, хотя он вовсе и не был таким большим, – увидели траулер и его черный борт над собой, и людей в зюйдвестках на этом борту. Люди кричали непонятно, не по-русски, но разве это имело какое-то значение – это все равно были люди, датчане или финны или кто там, они были свои – моряки…
… – Реви, девка, реви – легче будет. Дитё бы вам завести, да это дело наживное… вот вернутся. Реви: вернутся, тогда никак солонить нельзя, – успокаивала Ольга Трофимовна женщину.
Резко рванул по комнате сквозняк. Заорал с порога мальчишка, старший сын соседей Санька: «Там траулер подходит, теть Оля! И баркас на буксире…»
– Вот видишь… – всхлипнула Ольга Трофимовна. – Ждешь их, чертей мокрых…
Траулер уже швартовался.
Рыбаки с баркаса, худые и переодетые в робы да свитера спасателей, кутались на палубе в полушубки. Дмитрий увидел жену.
И не забыть ему вот этих женских опрокинутых глаз, расплавленных обрадованным горем. А бригадир степенно обнимал жену, и Ольга Трофимовна, словно ничего и не случилось, и они только сегодня расставались, что-то бурчала про щетину и пропахлость табачищем.
– Ди-има-а! Уедем, сразу уедем, – шепотом кричала Валюха, а Дмитрий поправлял ей платок и согласно кивал, и улыбался, потому что, когда их везли домой, облазил траулер и в машинном отделении посмотрел на работу, и теперь уж точно перейдет на большое судно, он и с Николаичем договорился – поддержит его уход перед начальством. На новый траулер порекомендует, у него везде друзья…
А будильник тогда бригадир выбросил за борт.
И придется теперь покупать новый.
2
«…Мозоли, как шевроны.Шевроны, как мозоли.По-флотски макароныЯ сдобрил крепкой солью.Та соль.Как в парусах сырых,Во мне еще живет,Во-первых.Ну, а во-вторых, —до свадьбы заживет…»(С. Симкин, «Четвертое море»)…НАКОНЕЦ-то последняя сетка из ста двадцати сбросила на борт три рыбины. Размалеванный концевой буй взобрался на борт и, описав плавную дугу в воздухе, солидно утвердился в кругу собратьев.
– Ша-ба-аш!
На палубе внезапно наступившую тишину закреплял последними ударами молоток бондаря. Матросы доставали влажные сигареты, с удовольствием вытягивали ноги в сапогах, оклееных чешуей по самые бедра. Лениво переругивались.
– Рубка-а-а! Воду на палубу-у!
Слышится перезвон телеграфа, затем мерные выхлопы двигателя. Позвонили на обед. В салоне висит пар и сдобные проперченные шутки.
Удерживая горячую миску, осторожно вплывает радист. У каждого к нему дело: он на земле одним ухом стоит.
– Володя, куда идем? Картину махать?
– Тебе бы только киношку… Число сегодня какое? – тридцать первое! К «семьдесят восьмому» за посылкой идем. Новый год встретим что надо: даже елку шлют с базы.
– А почта?
– Эх, и гульнем…
– Слышь, маркони, а далеко до семьдесят восьмого?
Море спокойно. К траулеру, что шел от базы, приблизились вплотную. Взяли посылку – ящик здоровый оказался, почту взяли… Покричали дружкам-знакомым.
Потом отбежали с милю, в дрейф легли.
…Пашка-кок персональную посылку получил. Давно он ходит, новый год и то в третий раз здесь встречает, знает жена, что надо в праздник. И письма – тоже есть. Они и в будни здесь нужны – письма… Повар Пашка отличный, даже шашлык порой преподносит. Честь-честью, на палочке. А в море после работы еда – дело большое, с пустым пузом много не наработаешь. Любят его ребята – понимают заботу.
На Новый год Пашка сюрприз готовит, запирается на камбузе, никого не пускает. Камбузник с важной физией ходит, салажонок!
Такой уж это праздник – Новый год – семейный праздник: всех он волнует, каждый с чем-то своим к нему приходит, каждый свои года прикидывает, каждому – по своему дорог… И подготовиться хочется получше: хоть и далеко от берега жданного, а от родного обычая отрываться не резон. Вот и роются в вещах: надеть что получше; баньку принять, побриться; письма прежние поперебирать. Радиограмму тоже придумать позаковыристей – чтоб на берегу грусть смягчить, чтоб вроде рядом посидеть.
Что ни говори, а дел много перед праздником. Вот еще посылку разобрать, шуткам поулыбаться, елочку нарядить…
Вечер подошел незаметно. Побегали самостоятельно – рыбу поискали, потом на пеленг разведчиков вышли, всем отрядом в один район вышли, где рыбу засекли. Вот уж и сети выметали. Через час в Москве новый год. Потом ещё через час – дома – в Калининграде. А здесь, у Ян-Майена, двадцать ноль-ноль. Трижды встречать можно!
Елочку нарядили перед вахтой. Маленькая, искусственная, а все приятно: по-домашнему вроде. Судов вокруг – город огромный. И везде, на каждом судне, сейчас так же: собрались в салоне и ждут.
Ждут.
Розданы радиограммы.
Каждый о своем думает, свое вспоминает.
А ждут вместе. Как и работают.
Кружка перед каждым стоит, а в кружке той – смесь. В посылке: и шампанское, и вино, и водка – понемногу всего. Даже коньяка бутылка. Не делиться же – в чайник все, после разберемся!
Ждут…
В приемнике – как в груди – часы отбивают. Капитан встает.
За что первый тост?
За берег, конечно. И за родных-близких, как по радио говорят. И за землю-родину, что далеко, а поди ж ты – вот она, рядом. И еще многое вмещает этот один молчаливый рыбацкий тост:
– Будем…
Над флотом огни взвиваются, пускают ракеты. Над одним траулером больше, над другим меньше: от третьего штурмана зависит, какой позапасливее на берегу да не жмотный – целый салют устраивает. Красиво! И радостно. И чуточку грустно…
Только Пашка-кок свой обещанный «сюрприз» внес, как вахтенный заавралил. Буи, кричит, притонули. Это уж столько рыбы в сетях, не доглядишь – весь порядок на дно уйдет. Не хотелось бы Пашку обидеть, а теперь – какой уж здесь «Наполеон»! А старался ведь человек… Праздник праздником, а в море первое дело – работа. А то так напразднуешься, что потом на берегу у кассы людям в глаза стыдно смотреть будет. Кок не первый год ходит, он тоже понимает.
В одиннадцать начали выборку, не стала ждать рыба утра. Дед Мороз одарить захотел, видно. С первых сеток килограммов до двести пошло. Потом за триста перевалило. Шуба такая через рол тянется, что страшно становится. «Шубой» у нас рыбу в сети называют, когда из-за нее и сетки самой не видно. А сеток еще до ста за бортом.
…Вот и механиков на палубу выперли – мало рук на такую рыбку! Теперь капитан у штурвала стоит, стармех – в машине, да Володя-радист – у себя в рубке. Остальные наверху, на рыбе. Почти по пояс уж в ней, в сельди, стоим, руки занемели, а весело: музыку «маркони» на палубу дал. И добро – трюма завтра забьем!
Сегодня? Времени сколько уже? Четвертый час?! – Не пришлось дважды Новый год встретить. И не беда – «Наполеон» днем съедим с удовольствием полным, Пашу поблагодарим. А деда Мороза вместе с Москвой помянули-встретили, хватит. Вот с подарком его управимся, отдохнем до базы. Там, глядишь, и к берегу…
А дома… на берегу… спят давно…
3
«…Хороший парень – это не профессия, ты человеком будь!»
(Из разговора на палубе.)…Казалось, не задался у нас этот рейс с самого начала.
Уже потому не задался, что какой-то болван запланировал наш отход на пятницу. Конечно, это все предрассудки – какая там разница, в какой день выходить? Только лучше бы на пятницу отход не планировали. Приметы не врут. Портнадзору что – лишь бы скорее вытолкнуть по графику, сам-то он с берега нам помашет. А махать в пятницу ручкой – это тебе не в море выйти!
Ну, положим, и мы не дураки – в пятницу выходить. Вот тебе и предрассудок: в главном двигателе что-то забарахлило как раз в самый этот раз. Не пускается наш главный двигун, хоть механики бьются там, еще и цивильных костюмов сбросить не успев. Не пускается, хоть мы сверху сочувствие выражаем и последние свои береговые капли отдаем – барахлит двигун и все тут! Заведется он ровно в двадцать четыре ноль-ночь, как только субботе начаться…
Но важнее другое: не задался рейс в самом деле потому, что нашего прежнего капитана сменил в этом рейсе новый. И никто из команды о нем и слыхом не слыхивал… А с прежним мы несколько рейсов ходили на этом траулере, который у нас «Мерефой» называется. Добычливо ходили, себе позавидовать можно.
Девушку из маленькой таверны
Полюбил суровый капитан…
Это пел перед отходом бондарь Витька Сысоев на палубе, перебирая струны гитары, играть на которой он не умел, но очень любил. Витька попал дневальным на отходе, и к вечеру его не сменили, потому что он холостой, а механики все равно должны были провожжаться до полуночи. Так что никто из провожающих не уходил, а Витька сидел на задраенном и обтянутом брезентом трюме и пел про эту самую девушку «с глазами дикой серны», которую полюбил капитан.
– Вить, а нашего нового как зовут?
Сысоев обычно все знал раньше других в силу певучести своего характера. Но тут даже он сплоховал: «А черт его знает, этого нового кэпа… И вообще, ребята говорили: он всю жизнь старпомом где-то ходил. Наш-то Трофимыч умел ловить! Чует мое сердце, не будет с этим старпомом удачи… черт его фамилию знает…»
– Скребцов моя фамилия. Валентин Степанович Скребцов, – раздалось рядом с нами, и новый капитан выступил из тени от рубки, откуда-то прямо из лебедки, что ли, он выступил.
Так себе был капитан, ничего приметного, кроме формы: все галуны положенные сверкают. А ведь только вчера, небось, назначение получил! Посмотрим, конечно, только не будет из него хорошего рыбака, чего бы иначе он в старпомах так долго сидел?..
– Вы почему, товарищ матрос, поете? Работы на отходе мало? Вот тряпка какая-то на палубе валяется, а вы… поете!