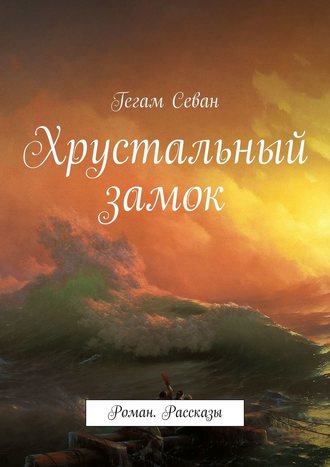
Полная версия
Хрустальный замок. Роман. Рассказы
Да, вот уже два года я люблю её, а она ни о чём и не догадывается.
Впоследствии время внесло свои правки – выяснилось, что я любил отвлечённо, слепо, я любил саму любовь! А Сона была обыкновенной девушкой, такой же, как все, со своими недостатками, со своими слабостями.
Впрочем, юность всегда живёт больше мечтами, чем реальной действительностью, и пусть оно так всегда и будет.
Да, я рос впечатлительным, мечтательным мальчиком. Волнения, разные наблюдения и переживания – всё это накапливалось во мне, чтобы вылиться однажды в какую-нибудь вспышку, которая удивит всех окружающих и ещё больше меня самого.
Итак, я был впечатлительным, мечтательным и любил Сона. В конце концов, думал я, эта любовь угробит меня, и я слягу от тяжелейшей чахотки. Вот, думал я, и пришёл мой черед. Но учитель биологии разочаровал меня, на мой вопрос он ответил, что любовь – не микроб и сама по себе чахотки не вызывает, что душевное состояние, вызванное любовью, и отсутствие хорошего питания расшатывают организм и делают его более подверженным всяким болезням, в том числе и чахотке.
В таком случае моя мама очень портила мне дело – я питался слишком хорошо, вся надежда оставалась на душевное состояние.
Помню, как однажды соседка наша сказала моей маме:
– Почему вы позволяете своему мальчику так много читать, это ненормально в его годы, может наступить переутомление…
О, как я тогда обрадовался, как возликовал.
У меня была нелёгкая юность. Моя мама тяжело болела, и я проводил у её постели долгие бессонные ночи.
Мама всё чаще говорила:
– Если я умру…
– Не говори так, мама.
Тёмное ночное небо в окне… Что я буду делать, если с мамой что-нибудь случится…
Начался новый учебный год.
Теперь и я вместе с остальными учениками нашей школы езжу на занятия и обратно на пароходе, но это не имеет уже для меня прежней прелести. Я стал взрослее.
Как-то я направлялся в школу, держа в руках маленькие фотокарточки: я снялся для каких-то документов. Вдруг ко мне подбежал Торос, выхватил одну карточку и передал своей сестре со словами:
– Отдашь Сона!
В ту минуту я не сообразил, хорошо это или плохо. Но через два дня ко мне опять подошёл Торос и насмешливо пропел мне в лицо:
– Сона очень рада, что ты её любишь, бедняжка не знала, не надеялась даже…
И тут я понял, что случилось непоправимое, такое, чего не должно было случаться. Ах, я дурак, думал я, мне давно следовало самому объясниться, – как же можно было так…
Теперь уже просто необходимо было написать ей письмо, рассказать, как её люблю и как мучаюсь. И я написал своё первое любовное письмо… на двадцати четырёх страницах. Кончалось оно довольно кротко: я хочу только одного, чтобы ты знала о моей любви и хотя бы холодно, хотя бы издали здоровалась со мной, и, если можно, прислала бы свою карточку – в обмен на мою…
Были приняты только первые два условия, о третьем не могло быть и речи. Я был счастлив как никогда и не понимал, что настал конец самому прекрасному, самому красивому периоду моей жизни. Я витал в облаках, и меня поспешили спустить оттуда. Прежде всего мои друзья. Сона не сумела стать всему противовесом и удержать меня в том неземном, переполненном чувствами и мечтами состоянии…
Я был беззащитным существом, брошенным в пасть жестоким превратностям, и если я нашёл свою дорогу среди всей путаницы жизни – стоит поблагодарить судьбу.
С тем же успехом я мог оказаться полным банкротом, пойти ко дну…
Христо стал преступником. Из меня вышел писатель. Могло быть и наоборот, не так ли?
Надеюсь, вы теперь понимаете, почему я люблю таких, как Христо? Их детство, и отрочество, и юность прошли в сложных ситуациях, в гуще жизни, и не их вина, что они погибли.
Им суждено было быть людьми искусства. А они стали преступниками.
Правда, между двумя этими полюсами пропасть, но…
Но ведь Христо с той же непримиримостью поверил в то, что существует на свете святыня, и он не сумел, не захотел поступиться этой верой. Христо потерпел поражение потому, что был неопытен, потому, что очень уж личная, очень субъективная была его «святыня».
Христо был простым и ясным человеком, наделённым большим сердцем. Он вырос в безнравственной, извращённой среде, как все мы, как я сам. Среда – это общественный строй, и единственным оружием против окружающей нас скверны была наша неистребимая вера в человека, наша юношеская бескорыстная любовь к жизни. Это моё глубочайшее убеждение, и нет надобности слишком долго распространяться об этом.
Было два пути для нас: либо валяться в грязи, либо вознестись к звёздам…
Моя несостоявшаяся «богемная» жизнь
Моей давнишней мечтой было завести собственную лодку, пусть даже маленькую – неважно, – но обязательно свою. Отправиться на этой лодке далеко в море и быть наедине с природой.
В Мраморном море было множество маленьких незаселённых островов. О, как я мечтал пристать к их поросшим мхом берегам, растянуться на прибрежных камнях и смотреть в синее-синее небо. Слушать шум волн и чувствовать запах соли. Больше всего на свете я любил природу – такую, как она есть, неприкрашенную, дикую. В такие минуты сердце моё готово было разорваться, всё мне представлялось тогда необычным и прекрасным, и воздух, казалось, был напитан любовью.
Как мне тебя недоставало, мой Христо!
Я боготворил две вещи – человека и природу. И людей я тоже любил, как природу, – таких, какие они есть, неприкрашенных… Но бывали минуты, когда даже природа казалась мне враждебной…
Да, моей заветной мечтой было завести свою лодку, и надо сказать, что таких сумасбродных, как я, во всяком случае, в дни моего отрочества, было немало.
Я нашёл себе товарища – мы сложили наши сбережения, упросили своих матерей не очень на нас сердиться и с шестьюдесятью золотыми отправились в Балат – и купили довольно-таки большую лодку, курсирующую до этого вдоль обеих берегов Воскеджура.
Самые радостные минуты, связанные с лодкой, были минуты, когда мы перегоняли её от Балата до Гнала, гребя попеременно.
Пригнали мы её и, счастливые и усталые, под завистливые взгляды друзей и знакомых вытащили лодку на берег.
А на следующий день, когда мы пришли к ней, солнце уже сделало своё дело. Впрочем, беду мы заметили, только спустив лодку на воду. Уставшая от многолетней работы, лодка эта словно бы нашла, наконец, повод «уйти в отставку». Она рассохлась под солнцем и сильно протекала. Хозяин её нас обманул…
И завистливые взгляды сменились улыбкой при виде наших торопливых попыток пристать обратно к берегу. Лодка наполовину была уже затоплена водой, и мы ладонями выплёскивали из неё воду, сконфуженные, красные от стыда и злости.
Одним из «несчастий» моей жизни было то, что чужие люди зачастую завидовали моим удачам и благам, не зная, какой горькой и дорогой ценой они мне достаются. Впрочем, все эти люди, если бы они только пожелали, могли иметь в тысячу раз больше этих самых благ.
Другим моим «несчастьем» было то, что я не умел пользоваться этими благами, достававшимися мне с таким трудом.
Скажем, мне нужны ботинки, я иду в магазин… «Дайте мне пару самых лучших, на ваше усмотрение» (что за кокетство, что за «ваше усмотрение»! ), и вот, пожалуйста, через два дня «лучшие» ботинки разваливаются. Я несу их к сапожнику, и новые ботинки в результате починки делаются старыми.
То же самое произошло и с лодкой. И теперь все мои знакомые, смеясь, называли её «Гегамова подводная». Для того, чтобы отремонтировать её как следует, нужна была куча денег, почти столько же, сколько она стоила. Несколько дней подряд я не мог заставить себя пойти на берег и обследовать, как следует «своё сокровище». «Гегамова подводная», – ах, как мне не везло в жизни. И когда десять дней спустя, мысленно уже видя лодку переделанной и обновлённой, я пришёл на берег, то увидел её… разобранной на дрова.
Мой друг, который оказался куда практичнее меня, продал лодку истопникам. На берегу печальным напоминанием о несбывшейся моей мечте лежали два одиноких старых весла.
Я подарил весла Торосу. Вдохновлённый моим примером, он тоже купил себе лодку, но совершенно новую и… за пятьдесят золотых.
Очень хорошая лодка была у Тороса. Он часто приглашал Сона кататься на ней. По вечерам, когда все высыпали на берег гулять.
Вот такая история произошла с моей лодкой. О, сколько же было смеху и сколько было отпущено шуток по поводу «Гегамовой подводной». Я смеялся вместе со всеми, но как горько мне делалось потом. Как горестно я оплакивал свою несостоявшуюся «богемную» жизнь…
Раздетая мечта
Как овладела Шамирам, убегавшим от неё Ара4,Так я овладел мечтой своей, убив её.В. Текелян…Хотя бы холодно, хотя бы издали здоровалась со мной – мне большего ничего не надо, и ещё пусть знает, что люблю её… Так я писал «своей» Сона.
Я не видел её уже несколько месяцев. И когда я наконец встретил Сона по дороге в школу, я почему-то отвернулся. Так мы и разошлись, не поздоровавшись, словно незнакомые.
Товарищи мои не оставляли меня в покое:
– Ну как, Гегам, целовались?
– В кино вместе ходили?
– Ну и как там у вас?..
– Нормально, – отвечал я на всё, закипая злостью и ненавидя их за циничные расспросы. Впрочем, высказывать вслух своё мнение по этому поводу я не решался. Я боялся, что надо мной станут смеяться. А мои сверстники не стеснялись, рассказывая про свои «любовные похождения». Был даже один мальчишка, звали его Арам, так тот вообще хвалился, что однажды в кино, сидя в ложе, он почти донага раздел свою девушку…
Раздел?.. Но зачем?.. Я недоумевал, я ровным счётом ничего не понимал.
Несвоевременно обнажённая девушка – это всё равно что «раздетая». Бесстыдно и безжалостно оголённая мечта, а «раздетая» мечта – не мечта уже.
Но, что греха таить, все эти рассказы передавались с таким жаром и темпераментом, что я невольно заслушивался ими.
Помню, был солнечный день. Мы с Арамом шли в школу, и вдруг навстречу нам показалась Сона.
– Иди, – толкнул меня Арам, – и назначай на завтра свидание…
Легко сказать – назначь свидание, я ведь даже и здороваться-то, как следует, не здоровался со своей возлюбленной. Если я сейчас не подойду, скандал на всю школу обеспечен. Нет-нет, надо было любым способом спасаться от насмешек Арама.
И, неизвестно откуда набравшись смелости, я громко поздоровался с Сона. Слава богу, она ответила улыбкой, заметно побледнев при этом.
Этого было достаточно, чтобы я совсем потерял голову.
Всё изменилось для меня в одну минуту. Земля, люди, школа. Я был полон любви ко всей вселенной. Даже Арам был мне теперь мил.
– Иди, дурак, – говорил он мне, – чего стоишь, назначай свидание… А грудь какая… иди же…
«Грудь какая…». Ну конечно, у неё должна была быть грудь, ведь она девушка. Но я никогда не думал об этом. Для меня Сона не была девушкой, она была моей любовью, моим счастьем, бальзамом к моему сиротству, моей литературе… всем.
Какое счастье – поступаться лучшими своими чувствами для того, чтобы не выглядеть смешным в глазах людей, ничего не понимающих в прекрасном!
Мы бываем в плену у таких людей… Пока ты, борясь каждую минуту, доплывёшь до берега и скажешь всем: «Погодите!» – бывает уже поздно. Всё несчастье в том, что человечество подчас представляют именно эти экземпляры рода человеческого, а в мире, где властвуют деньги, всюду они первые, так уж повелось.
Итак, я не задумываясь пошёл к Сона, чтобы не показаться ничтожеством в глазах товарищей…
Она ждала автобуса, как всегда. Я не посмел сразу подойти к ней. Так как она была в окружении подруг. Пришлось сесть в автобус. Он был полон народу. Я стоял как набитый дурак, зажав в руке деньги и два билета. И пока, набравшись духу, я наконец протиснулся к Сона, автобус был уже возле школы и Сона готовилась сойти.
– Куда это ты, Гегам?
– Я… пришёл сказать… Завтра буду ждать тебя у станции Гарпе, в час дня, – выпалил я и повернулся, пошёл, не дожидаясь ответа…
На следующий день я проторчал на станции Гарпе битых четыре часа.
Потом Арам всё приставал ко мне:
– Ну как, состоялось свидание?
– Состоялось.
– Хороша она телом?
– Хороша, великолепна.
– Ну, побалуйся немного, а потом уж мы примемся за дело…
Я дрожал от бешенства. И этот негодяй мог так говорить о Сона!.. А я… кто объяснит мне мою собственную подлость по отношению к девушке.
Я был обижен и в то же время втайне радовался, что Сона избавила меня от тягостной, неприятной мне «сцены» свидания.
Прошли месяцы. Я избегал встреч с Сона и даже ходил в школу другой дорогой. И горько сожалел о собственном бесстыдстве. Думал, что будет, если Арам возьмёт и расскажет ей о нашем с ним разговоре. Я уже хотел идти и просить прощения у неё, но не осмеливался.
И однажды вечером я встретил её.
Она держала в руках конверт. Я чувствовал, что Сона волнуется. На ней лица не было. Она сунула письмо мне в руки и убежала.
О, это непередаваемое волнение, пока я распечатывал конверт. Это было любовное письмо, она сама назначала мне свидание, в воскресенье. Обещала вместо церкви пойти со мной и просила не сердиться за то, что в прошлый раз не пришла. Просто у неё не было предлога, чтобы выйти из дому. А родители всегда знают, куда и зачем она идёт. Единственная возможность – это не пойти в воскресенье в церковь. Хотя и это, конечно, рискованно… Но всё же она должна встретиться со мной. И без того уже намучалась за эти месяцы. Первая ученица в классе, она перестала заниматься, стала посмешищем для всех. О, только бы я не сердился, не огорчался, она любит меня, вот и фото, которое она не дала мне тогда…
Я почувствовал себя ничтожеством. «Что же ты наболтал Араму про неё, отвечай теперь, – говорил я себе, – что же ты молчишь…».
За первым воскресеньем последовали другие – и так до лета. А летом мы не стали переезжать в деревню. Моя мама была очень больна. Мы сдавали наш дом жильцам и всё-таки очень нуждались. Я ездил на остров Гнал и давал там уроки ребятишкам наших знакомых.
После занятий я поднимался к голой вершине острова. Там стоял греческий монастырь с маленькой часовенкой. Я забирался туда и, задыхаясь от волнения, ждал Сона. И она приходила, непременно приходила.
Мы шли с ней на другую сторону острова, петляя по головокружительным и безлюдным тропинкам. Сона часто плакала. О, как я любил её и как невинны были наши прогулки.
Мы усаживались на каком-нибудь камне, устремив затуманенные счастьем глаза на далёкие горы.
Мы смотрели на парусники, на большие корабли, которые отплывали к безвестным и незнакомым берегам.
– Сона…
– Что?
– Можно я поцелую тебя?
– Нельзя…
– Почему?
Если ты поцелуешь и бросишь меня, я буду очень мучиться.
– Значит, ты не веришь мне?
И мы отворачивались друг от друга.
– Но я хочу тебя поцеловать. Если ты не позволишь, я не приду больше.
– Нельзя.
И, рассердившись, я в самом деле не приходил в следующий раз на условленное место.
Но спустя несколько дней, горько раскаиваясь, со слезами на глазах бежал туда, чтобы вымолить прощения себе. Она рукой закрывала мне рот.
Но дай мне сказать! – говорил я. – Ты же не знаешь, что я хочу сказать!
– Знаю. Ну хорошо, скажи, скажи…
– Нет, ты сама то-то хотела сказать…
– Почему ты не поцеловал меня в прошлый раз?
– Но ты не позволила.
– Ну так целуй теперь, целуй скорее!
И она сама прижималась ко мне и целовала меня в губы…
Прекрасные эти поцелуи, они были выражением невинной юношеской преданности друг другу. Мне тогда казалось, что мы владеем всем светом. Такая любовь в нашей среде была явлением, по крайней мере, непривычным. Мои товарищи слишком часто меняли свои «любови».
– Ты что, попал к ней в сети? – спрашивал Арам.
Все говорили о нас с Сона. Я был, по общему мнению, «расточительным, проматывающим отцовское наследство, гоняющимся за безделицами в жизни и слишком рано начавшим грешить юношей».
«Бедняжка, – говорили про Сона, – совсем он ей вскружил голову, шатаются в горах с утра до вечера».
И однажды мать Сона позвала меня к себе.
– Мальчик мой, – сказала она, – я знаю тебя, ты кажешься мне честным человеком, но ты понимаешь, эти разговоры… Видишь, я до сих пор молчала, но теперь вынуждена вмешаться. Тебе нельзя больше видеться с Сона. Если узнает её отец, будут большие неприятности. Ты сейчас иди и, если действительно любишь Сона, подумай о своём будущем.
– …Но это вопрос нескольких лет, мадам.
– Потому я и хочу, чтобы вы расстались, а то и так уже бог знает что говорят. Если бы знала обо всём, я бы не позволила вам так далеко зайти…
– Но мы… только любим друг друга, мадам, и больше ничего.
– Больше ничего? – повторила она как-то странно.
– И потом Сона…
– Насчёт Сона я всё сама решу. Я не хочу говорить об этом с твоей матерью, но если ты будешь упрямиться, мне придётся это сделать.
Через некоторое время я встретил Сона на улице.
– Мы должны встречаться, Сона.
– Невозможно, – сказала она, – подождём немного, потом поженимся.
– Поженимся?.. Но ведь это так нескоро – надо учиться, потом военную службу пройти…
– Я люблю тебя и буду любить всегда.
– Но мы должны встречаться!
– Невозможно…
И почему-то я радовался всему, что она говорила, даже тому, что нам больше нельзя встречаться. Если ей так кажется – значит, это правильно.
Воспоминания, связанные с Сона, более чем отвечали моим идеалам любви и жили во мне ещё долгие годы. К сожалению, это был обман, как являются обманом все сильно идеализированные вещи.
Наше материальное положение ухудшилось. Моей матери было совсем плохо, и я просто нуждался в любви и сочувствии. Я опять стал «украшением» роберовских вечеринок. Каждый тут имел свою «партнёршу». Только я один держался обособленно, держался со всеми как общий друг. Но однажды в моё одиночество вторглись, и я бы не сказал, что был недоволен этим.
Её звали Матильда. Интересная, высокого роста и… с красивой грудью. Она недавно рассталась с возлюбленным и теперь хотела «забыться».
Всё это было навеяно американскими фильмами, и, как следует из этих фильмов, я был призван помочь ей «забыться» и забыть «старую» любовь. Во всяком случае, таково было общее мнение моих товарищей, мнение, высказываемое с нескрываемой завистью.
Ну а чем она являлась для меня? Неискушённое моё сердце признавалось мне – ничем. Просто девушкой.
Во время очередного танца она спросила меня:
– Ты любил кого-нибудь?
– Я?
– Да.
– Нет…
– Ты говоришь неправду.
– Почему же?
– А Сона? Эта маленькая школьница?
В голосе её была насмешка. И я ответил, как опытный ловелас:
– Всё это в прошлом.
– Сона дружит с моей сестрёнкой, она просила спросить у тебя, любишь ли ты её по-прежнему. И знаешь, что она сказала? «Он мой, что бы ни случилось».
– Вот как?
– Да. Что передать ей?
И почему-то я сказал:
– Скажи, что я люблю тебя.
И выключил свет в комнате. Так было принято в этой компании. Я почувствовал, как губы её приблизились к моим.
– Мы, – сказала она, живём на Большом острове, у нас своя вилла, приезжай на будущей неделе. Я буду ждать тебя в пятницу с двухчасовым пароходом.
В пятницу я отправился на Большой остров. Я не волновался, напротив, какая-то решительность владела мною.
Она встретила меня почти голой – так одевались дочери богачей на Большом острове. В одних шортах и бюстгальтере.
– Погуляем немножко, – сказала она, – пройдёмся к кедрам.
Теперь сердце моё громко билось, какая-то волна поднималась в моём теле, и ладони у меня горели.
И когда мы дошли до кедровой аллеи, губы у меня совсем пересохли и дыхание перехватило. Мне ужасно хотелось пить. Мы присели на сухие кедровые ветки. Это был пустынный уголок, скрытый от людских глаз. И только птичьи голоса нарушали тишину.
Привычным, свободным движением она положила голову мне на колени и, взяв мою руку, прижала её к своему обнажённому животу.
Это прикосновение, первое прикосновение к женскому телу, заставило меня вздрогнуть. Она усмехнулась:
– А как была Сона – ничего?
Мне тут же захотелось встать и уйти.
– Сейчас, – сказал я, – не время говорить о ней.
– Что ты намерен делать? – спросила она с вызывающей улыбкой.
Я, чтобы совладать как-то с собой и выиграть время, растянулся рядом на кедровых ветках.
– Какой ты, – сказала она, – рассердился, да? Извини меня, я не хотела тебя огорчить.
Инстинктивно рука моя потянулась к её груди.
– Нет, – сказала она приглушённым и изменившимся голосом, – нет, глупостей не будет.
– Я тебя поцелую, можно?
– Об этом не спрашивают, – сказала она, – это делают.
Я больше ничего не говорили, грубым движением рванул застёжку у бюстгальтера, порвал его.
– Там ещё один, – еле слышно сказала она.
Рука моя теперь лежала на её груди, на тонком шёлковом лифчике.
Я положил голову ей на грудь, потом поцеловал.
Она вдруг вскочила со смехом.
– Нет, – сказала она, – это уже слишком.
Я тоже вскочил и побежал её догонять. Нога у Матильды поскользнулась, и, тяжело дыша, она упала навзничь. Я уже не владел собой. Я дёрнул её за шорты, одна из пуговиц сломалась, другие расстегнулись сами.
– Нет, нет, – взмолилась она, не двигаясь с места.
А потом губы мои целовали её тело, а она, обхватив рукою мою голову, тяжело дышала…
– Целуй, ещё целуй…
Её горячее обнажённое тело совсем парализовало меня. Я видел, что глаза Матильды всё ещё закрыты. Она приоткрыла их и прошептала:
– Целуй же…
Теперь эта обнажённая девушка казалась мне чужой и незнакомой, и я не понимал, что я тут делаю, почему я тут очутился, зачем…
– Злой, – сказала она вдруг, – ты сделал мне больно. Я расскажу про всё Сона.
Я мгновенно отрезвел. Тут же встал и отошёл от неё на несколько шагов.
Какая-то пустота завладела мной, и сожаление, мучительное сожаление не отпускало меня. И всё это не имело никакого отношения к той, которая «одевалась» сейчас и просила меня тихим голосом застегнуть ей пуговицы на лифе.
Ясно одно: мне было нанесено страшное оскорбление… мною же…
– Когда ты придёшь? – спросила она деловым тоном.
– Посмотрю, – ответил я, – тебя ведь нетрудно разыскать.
– Что, – сказала она, – маленькая школьница была лучше?
Возвращаясь на пароходе. Я смотрел кругом, и всё виделось мне чужим. Даже заход солнца показался лишённым своего величия, и солнечные лучи, отразившись на далёких куполах мечетей, напомнили мне, что я нахожусь в Турции. Какая была между всем этим связь?
Спустя много лет, читая «Детство» Горького, я натолкнулся на строки, вызвавшие у меня слёзы, строки, которые определили мои чувства, обрекли их в мысль. В них говорилось об истинной, человеческой и прекрасной любви.
«Маленькая школьница», как я тебя любил!
Спичечный коробок
Это был студент университета, с которым свёл меня случай. Жизнь моя вообще многим обязана случайностям…
Через год он кончал университет. Математический факультет, и был лучшим студентом на курсе.
– Я слежу за тем, что ты пишешь, – сказал он как-то, – ты мог бы стать настоящим писателем. Если бы отнёсся к этому серьёзно и продумал свою жизнь, свои идеалы.
– Мои идеалы, – ответил я высокопарно, – человек, природа, море…
– Прекрасно, – сказал он, – тогда что же ты думаешь о счастье человеческом?
– Надо, чтобы все были счастливы.
– Вот и хорошо. Ну а сам ты счастлив?
– То есть?..
– Я хочу сказать, как ты живёшь, как ты мыслишь своё будущее, прежде всего?
– Я стану юристом и писателем.
– Не возражаю, а где ты возьмёшь средства для этого?
– Я не думал об этом.
– И что же?
– Я постараюсь стать писателем, если не смогу продолжать учёбу.
– И ты думаешь, литература тебя прокормит?
– Пойду в учителя.
Он смеялся.
– Сдаётся мне, – сказал он, – не знаешь ты жизни. Учительство позволит тебе кое-как влачить существование, да и то если ты будешь покорным и тихим учителем. О желудке своём необходимо позаботиться хотя бы ради литературы.
Да, желудок становился проблемой.
– Возьми себя, – продолжал он, – думаешь, ты сможешь быть счастливым, если на руках у тебя будет голодающая семья? Хотел бы я знать, чем ты будешь кормить её – небесами или, быть может, луной?..
Странные были вопросы, посыпавшиеся на меня.
– Если, – сказал он, – ты действительно хочешь посвятить себя литературе, надо тебе поразмыслить о счастье, о своём счастье и о счастье всех людей.
– Но что мне для этого надо делать?
– Ты, дорогой мой, должен многое прочитать, прежде чем самому писать, – это, во-первых. И ты обязан понять жизнь. Вовсе не лёгкое дело быть писателем.

