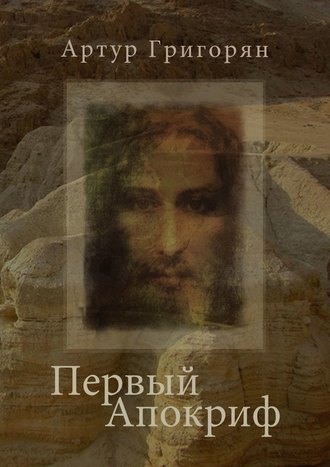
Полная версия
Первый Апокриф
Один – чернобородый, плотно сбитый, с коробом на шее – нёс в руках небольшой куль, в то время как второй – повыше и похудосочнее – взвалил себе за плечи объёмистый мешок поклажи. Незнакомцы, пройдя по мосту до дороги, повернули влево, удаляясь. Я вскочил на ноги, торопливо обув сандалии на мокрые ступни, и бросился вдогонку, не замечая крупных песчинок, впивающихся в пятки.
– Шалом вам, добрые люди! – окликнул я их ещё издали. – Не подскажете ли, где могу найти праведного неви Йоханана Ха-Матбиля?
Незнакомцы дружно, как по команде, повернулись ко мне, но именно синхронность движения подчеркнула их несхожесть. Чернобородый развернулся резко, ловко, крутанувшись на носке одной ноги, с какой-то кошачьей пластикой, в то время как второй потерял при своём движении равновесие, и лишь спасительная рука товарища избавила его от перспективы сковырнуться с ног. Я подошёл к ним почти вплотную, что позволило мне рассмотреть их получше.
Чернобородый, прищурившись, царапнул меня цепким взглядом, и углы его чуть полноватого, чувственного рта тронула усмешка. Он был примерно моего возраста, хотя ранние залысины на висках, раздающие вширь его и так высокий лоб, накидывали ему годков пять, если не больше. Тонкий, с лёгкой горбинкой нос и слегка вывернутые ноздри придавали его облику что-то от хищной птицы. Во всём его облике чувствовалась порода, как в ином племенном жеребце, которых по баснословной цене бедуины да арабы продавали на торжищах.
Второй, помоложе, воспользовавшись оказией передохнуть, опустил мешок на землю, застенчиво улыбнулся, склонив голову, и кинул на меня взгляд слегка исподлобья. Рыжеватая редкая поросль не прикрывала ни длинного, невнятного подбородка, ни изрытых оспинами щек. Голова его была удлинённой формы, с жидкими космами волос того же ржавого оттенка, а плавная дуга довольно крупного носа, особенно печально загнутый книзу кончик, добавляла его образу изрядную порцию сентиментальной грусти. Он был настолько неказист и неловок, особенно на фоне видного товарища, что поверхностный наблюдатель мог бы сразу отвернуться безо всякого интереса и был бы неправ: весь этот невразумительный облик искупался лучистым, удивительно мягким взглядом тёплых, зеленоватых, чуть ли не бархатных глаз.
– Ха-Матбиля? – переспросил чернобородый. – А зачем он тебе?
– Мне надо поговорить с ним, – ответил я бесхитростно, стараясь не замечать нотку насмешки – не столько даже в его голосе, сколько в уголках карих, с хитрецой, глаз, уставившихся на меня оценивающе.
– Вот как! Поговорить, значит. А надо ли ему самому, чтобы ты с ним поговорил? – вдруг ехидно и белозубо осклабившись, спросил он, чем вызвал смешок у молодого, который тот, смутившись, прикрыл ладонью. – Может, Ха-Матбиль и не горит желанием вступать с тобой в беседу?
– Это уже моё дело – моё и Ха-Матбиля, захотим мы беседовать или нет, – вспыхнул я. – Я вас всего лишь попросил указать мне дорогу, если знаете, где его найти. А не знаете, так не отнимайте ни у меня, ни у себя времени, упражняясь в остроумии.
– Ух ты, ух ты! Какие мы обидчивые! Прямо и спросить нельзя, – вновь расплылся в улыбке чернобородый, что меня уже окончательно вывело из себя.
Но прежде чем я успел повернуться к насмешнику спиной или грубо ответить, в разговор вступил второй:
– Да ладно тебе, Йехуда91, что ты пристал к человеку? Видишь, что обижается, а продолжаешь, – после чего повернулся ко мне: – Тебе повезло, брат, мы сами из его послушников и как раз держим путь к лагерю, так что можешь пойти с нами. Это недалеко, пониже по течению.
Я смутился, поняв, что чуть не разругался со своими будущими братьями-послушниками, в ряды которых и стремился попасть. Вспыльчив я, что греха таить. Работаю над собой, работаю… Нет, получше, конечно. Раньше, бывало, распалюсь в азарте – глаза искрят, эмоции навыпуск, режу глаголом с оттяжкой, наговорю лишнего, потом себя же и ем поедом. Пытаясь скрыть замешательство, поспешил с предложением:
– Давайте тогда я помогу вам донести вещи. Вы, наверное, устали?
– Не откажусь, – улыбнулся молодой, – понесём мешок по очереди. Тебя как зовут?
– Йехошуа Бар-Йосэф. Я из Нацрата, что в Ха-Галиле.
– Ты тоже из Ха-Галиля? – обрадовался тот. – Мы земляки – и я оттуда, из Кфар-Нахума92, что на берегу Кинерета. Меня Андреас зовут, Андреас Бар-Иона93.
– Только ты мог не заметить его галильского говора с первого слова, – ввернул ехидно его спутник.
– Рад знакомству, Андреас, – улыбнулся я в ответ, сразу почувствовав симпатию к нему и за добрые слова, и за подкупающе открытую улыбку, осветившую лицо, и даже за то, что мы с ним оказались земляками.
– А это – Йехуда Иш-Крайот, – представил он чернобородого, который всё с той же полунасмешливой улыбочкой кивнул мне. – Ты на него не обижайся, Йехошуа. Он, правда, колюч на язык, но так-то по жизни добрый малый.
– Ага, добрейшей души человек, мягкий и пушистый, как гамла94, – опять сострил Йехуда.
– Да я уже понял, что надо быть гамалем95, чтобы оценить твои остроты по достоинству, – не удержался я от ответной шпильки.
К моему удивлению, Йехуда разразился заразительным, весёлым гоготом, который подхватили и мы с Андреасом.
– Ха-ха-ха! Признайся, Йехуда, утёрли тебе нос твоим же оружием, – утирая слёзы, выступившие из глаз от смеха, сказал Андреас.
– Да уж – я смотрю, тебе, Йехошуа, палец в рот не клади! – весело и беззлобно ответил Йехуда. – Ну, пойдём, а то братья с голоду опухнут, пока мы тут лясы точим.
Я взвалил на себя мешок, Андреас взял куль из рук Йехуды, а тот – мою котомку, и мы двинулись в дорогу. Андреас по дороге рассказал, что они с Йехудой, который был казначеем общины, возвращаются из Бейт-Абары, где закупили еды на всех. Где-то на полпути мы опять перетасовали поклажу. Так, весело и непринуждённо беседуя, словно со старыми приятелями, мы и дошли до лагеря.
Первое, что я почувствовал при виде его – недоуменное разочарование. Мне даже показалось, что меня не туда привели. Разве это нищее кочевье может быть местом проповедей неви Йоханана? Разве в таком месте Божественные откровения должны достигать ушей алчущих правды? Все так буднично, так просто и неброско: груда скомканных котомок и затасканных тюков под раскидистым деревом, куда и мы сложили свою поклажу, да парочка навесов, натянутых меж стволами, под которыми наслаждались тенью стайки послушников. Ни дать, ни взять – бедуинское кочевье или временный лагерь нищих паломников, что двигались нескончаемыми группами мимо Нацрата в дни праздников, направляясь в Йерушалаим.
А не надо было понукать фантазию, рисуя себе в мечтах кущи96, где самый воздух насыщен святостью и величием откровения. Реальность не обязана следовать мечте, и мне остаётся лишь принять её такой, какова она есть, либо отвернуться и продолжать строить замки из песка, сетуя на то, что жизнь обманула высокие ожидания. Да, тут всё просто, всё обыденно, и именно здесь нужно найти то, что я ищу. Всё, что нужно мне – это уста, чтобы произнести слова истины, уши, чтобы услышать, голова, чтобы понять услышанное, и сердце, чтобы принять его. Остальное – лишь оболочка, скорлупа, и наивен тот, кто судит о содержимом по расцветке оной.
Мои спутники подошли к прочим послушникам. Я же, слегка робея, остался на месте, у тюков. Неподалёку человек пятнадцать собрались вокруг высокого мужчины старше средних лет, сидящего на валуне, и именно к нему и направились Андреас с Йехудой. Неужели это он самый и есть? Он был центром этой группы, выделяясь не только своим ростом, но и громким, властным голосом, активной жестикуляцией и особенно тем вниманием, с которым остальные его слушали, лишь иногда короткими репликами вмешиваясь в горячий монолог. В волнении я даже не заметил, что между божественным светом, который мне виделся во сне, светлым образом доброго мудрого старца, излучающего покой и благодать, и этим импульсивным оратором с горящими глазами мало общего. Он скорее был похож на ту грозовую тучу из сна – клубящуюся, багровую, полную первозданной мощи.
Мужчина был высок – выше любого в этой группе, худ и жилист. Открытый, бугристый лоб, длинные спутанные волосы, ввалившиеся щёки, простая накидка через плечо из верблюжьей шерсти, перепоясанная широким кожаным поясом. Но первое, что притягивало взор – его глаза. Слегка выпуклые, как бы навыкате, горящие почти болезненным светом, они впивались в собеседников, буравили насквозь, искали что-то в глубине, в потаённых закромах души, нащупывали, обнажали, отметая барьеры и стены. Под их взглядом было неуютно, холодно даже в этот жаркий день и немного страшно, до мурашек. Действие взгляда подкреплялось бурной, порывистой жестикуляцией Йоханана: вот он сжал кулаки, вот всем телом рванул куда-то, а тут взмахнул рукой, будто отправив в подкрепление слов волну силы, чтобы аргумент был не просто весом, но смёл бы оппонента. И при всём этом он умудрялся не спускать глаз с того, к кому обращался – фанатичных, горящих глаз. Йоханан впечатлял! Это был вождь, пророк. Я будто увидел воочию Элияху неви97, как представлял себе, и это соответствие хоть с каким-то из моих умозрительных образов примирило меня с невзрачностью обстановки и будничностью окружения.
Андреас с Йехудой, подойдя к Йоханану и дождавшись подходящего момента, что-то негромко сказали ему, указывая на меня, и он тотчас повернулся.
– Подойди сюда, брат мой, – подозвал он.
Я в волнении приблизился, раздвинув стену послушников собой, как Моше98 воды моря. Стоя рядом с Ха-Матбилем, ещё раз оценил его рост – а он на полголовы был выше, хоть я и сам для иудея был довольно высок. Горящие глаза впились в меня. Показалось, что сейчас этот взгляд прожжёт во мне дыру, выйдет через затылок и, нырнув в реку позади, поднимет столб пара. Но я, глубоко вдохнув и плотно сжав челюсти, выдержал его, даже не моргнув.
– Шалом тебе, рабби! – обратился я к нему взволнованно отрепетированной фразой. – Прими меня, недостойного, вкусить от источника мудрости твоей и стать твоим послушником.
Йоханан продолжал буравить меня, и под его шероховатым взглядом мне стало как-то не по себе, а из головы вдруг вылетели все остальные заготовки, хоть было их ой как немало!
– Нет у меня ничего из того, что мог бы ты вкусить. Не место тут явану99 – ни тут, ни где-либо на земле, обетованной сынам Авраама, Ицхака, Яакова100.
Ответ будто пощёчиной хлестнул по лицу. Как – меня, десять дней месившего пыль дорог Ха-Галиля, Шомрона и Эрец-Йехуда только для того, чтобы встретиться с ним, и, наконец, нашедшего, вот так выгнать, как мальчишку, прилюдно отчитав и оскорбив, причем незаслуженно? Кровь прихлынула к щекам от обиды и несправедливости; и едва сдерживаясь, чтобы не сорваться на что-нибудь такое, после чего мне действительно ничего не останется, как уйти отсюда с позором, я ответил Йоханану:
– Я не грек, учитель. Меня зовут Йехошуа Бар-Йосэф. Я из Нацрата, из Ха-Галиля. Я плоть от плоти отца моего, иудея, и сам иудей от рождения. За что ты гонишь меня?
Йоханан помолчал, не спуская с меня колючих глаз. Затем взгляд его несколько смягчился; наконец он величественным жестом взял меня за плечи и миролюбиво приобнял.
– Брат мой, если ты наш, если Бог Авраама – твой Бог, то присоединяйся к братьям своим. Но прежде чем стать моим учеником, ты должен омыться от всего, что наполняло тебя до сего дня – от грехов и нечисти, от суеты мирской; и, чистый и невинный, лишь тогда будешь готов встать в наши ряды. Да будет Йарден тебе миквой101. Иди за мной.
Гнев и обида ещё жгли мне щёки огнём, а ноги уже последовали за Йохананом. Мы спустились к реке. На берегу я, повинуясь Ха-Матбилю, скинул сандалии и симлу и в одном кетонете102 вошёл за ним в реку по пояс. Он же, возложив мне на голову свои большие, тяжёлые руки, трижды окунул меня в прохладную воду Йардена с макушкой. Я едва успел зажмуриться и задержать дыхание.
– Очистишься ты сими водами от смрада и нечисти грешного мира, отринешь сомнения, чтобы с чистой душой встретить грядущего Машиаха. Слово Божье, моими устами произнесённое, да будет услышано тобой. А теперь иди, Йехошуа. Отныне ты один из нас, брат мой.
Я открыл глаза. Вода стекала с мокрых волос по лицу, приятно охладив горящие щёки. Обида ушла, уступив место ликованию. Ведомый за руку Йохананом, я вышел на берег. Я один из них! Эта мысль била ключом, фонтанировала радостью и одаряла всё окружающее своей частичкой. Неприятный осадок от первого приёма отступил куда-то далеко, скрывшись в глубинах подсознания. Наверное, я выглядел довольно комично, стоя на берегу в прилипшем к телу кетонете, глупо и счастливо улыбаясь, пока с меня струйками стекала вода. В этот миг весь мир мне казался родным и близким: и Андреас, дружески улыбающийся в ответ, и Йехуда, заговорщически подмигивающий, и незнакомые бородачи, окружающие меня, с этого момента ставшие моими назваными братьями.
Остаток дня помню уже смутно. Переполнявшие эмоции не давали сконцентрироваться ни на разговорах и проповедях, которые ещё были в тот день, ни на нехитрых хозяйственных хлопотах.
Незаметно подкрался вечер. Разговоры у костра медленно угасали, народ по одному расходился спать. Мне же всё не спалось – уж слишком насыщен был день впечатлениями. Я отрешённо наблюдал за языками пламени, лениво пожиравшими сухие ветки и принесённую кем-то толстую сучковатую колоду, весь во власти эмоций, когда ко мне подсел кто-то. Повернувшись, я малость оробел, увидев Йоханана Ха-Матбиля. Но сейчас он был спокоен и умиротворён, с улыбкой наблюдая за костром и ловко перебирая правой деревянные чётки.
– Удивительная вещь – огонь, – неожиданно негромко, словно обращаясь к самому себе, проговорил Йоханан. – Сколько ни смотришь на пламя, никогда не устают глаза. На него можно любоваться так же бесконечно, как и на водопад. Но есть одно «но». Иногда огонь – это знак Божий. Огненный столб вёл наш народ в пустыне, спасая из плена мицраимского. А порой – порождение врага рода человеческого. Он прельщает, но он же и губит, как когда-то прельстил змей Адама и Хаву103, и понять, от какого источника исходит он – от Господа или от врага – дано не каждому, – Йоханан отвернулся от костра, посмотрев на меня: – Признайся, Йехошуа, ты был не на шутку уязвлён, когда я назвал тебя яваном.
С наигранным спокойствием я длинной веткой дотянулся до крайних угольков и помешал их, стараясь сконцентрироваться на оранжевых отблесках, мерцающих из-под белой золы.
– Нет, рабби – не уязвлён, а лишь удивлён несправедливостью этого обвинения.
– Несправедливость? Ты судишь о том, что есть справедливость, а что нет, лишь по тому, насколько это согласуется с твоим пониманием справедливости?
– Но ведь я иудей, рабби, по крови и по духу. Если меня называют яваном, то я имею право судить, справедливо это высказывание или нет, не так ли?
– Судить? Ты имеешь право лишь иметь своё мнение, но судить! Ведь тот, кто судит, наделён также правом выносить приговор, карать и поощрять, не так ли? Судья ли ты, Йехошуа? Разве можешь ты, со своим скудным пониманием мира, назваться им? Согласись, что право судить этот мир лишь у того, кто и создал его, кто является высшим благом, абсолютом; другими словами – у Ашема и у тех, на кого он сам укажет. Уж не хочешь ли ты оспорить его права, Йехошуа?
– Нет, учитель. Право высшего суда над деяниями людскими, конечно же, в руках Господа нашего; и ни мне, ни кому другому не оспорить этого. Но чем руководствоваться нам, смертным, чтобы понять, что есть правда, а что кривда на нашем уровне, в повседневной жизни?
– Воля Господа – вот единственный критерий, который отделяет для нас благое и правое дело от неблагого. Всё, что сказано и сделано во славу Господа, всё, что случилось по воле Всевышнего – есть благо. И, напротив, любое деяние, которое даже если и кажется тебе благим, но не по воле Господней сотворено – суть зло, и за него будет взыскано.
– Учитель, разве не всё, что происходит в мире, происходит по воле Господа? Так как же может случиться что-либо против его воли, что бы требовало наказания?
– Человек обладает свободной волей. Он волен выбирать, на какой путь становиться: на путь, указанный Господом, или начертанный Ха-Сатаном104. И только Ашему дано судить, насколько человек преуспел в исполнении воли его, а насколько – в неправедном пути. Лишь праведники спасутся в день прихода Машиаха – а он не за горами, этот день. Кто же берёт на себя смелость самому судить деяния людские, тот берёт на себя дела Божьи, и кара ждёт его.
– Иначе говоря, учитель, – попытался я обобщить, – не суди, да не судим будешь?
Йоханан удивлённо посмотрел на меня, словно пробуя на зуб сказанное мной.
– Именно так, Йехошуа! А ты молодец – быстро схватываешь, хорошо говоришь и умеешь делать ёмкие и ясные выводы. Я вижу, ты далеко пойдёшь. Добро пожаловать в общину, Йехошуа.
– Спасибо, учитель, – отозвался я, польщённый.
Йоханан отошёл, оставив меня переваривать всё вышесказанное. Я же, посидев ещё немного, лёг рядом с Андреасом, ровное дыхание которого выдавало, что он спит здоровым, крепким сном, характерным для молодости. Мне же не спалось. У меня перед глазами всё мелькали эпизоды сегодняшнего, насыщенного событиями и эмоциями дня; и никак не приходило успокоение. Именно теперь, в сгустившейся вокруг меня тишине ночи с маленькой щелью для треска цикад, было достаточно времени переосмыслить случившееся. Из глубины подсознания всплыла загнанная туда обида, пробившись сквозь пласты радости и душевного подъёма, которыми я наспех завалил её. «Нет тут места явану!» – зазвучало вновь в ушах громовым йоханановым голосом, и это вновь заставило вспыхнуть мои щеки. Почему? Почему он именно так меня принял?
Память возвращает меня в далёкое детство. Вот мне девять лет, и мы мальчишками играем в окрестностях Нацрата в канаим и римлян. Все хотят быть зелотами105, а соседский Моше, сын Гэршома – крупный мальчик, обычно бравший на себя роль заводилы и вожака – играет за Йехуду Гавлонита106 и распределяет роли, кто кем будет. Никто не хочет играть на стороне римлян.
– Я тоже хочу быть канаем107! – кричу я, как и остальные, пытаясь перекричать других.
– Ты мамзер108, ты будешь легионером! – раздаётся пренебрежительный голос, в котором звучит вызов и презрение.
Я оборачиваюсь на голос и вижу Моше, смотрящего на меня с ухмылочкой, ждущего мою реакцию. Он на голову выше, на два года старше и намного сильнее. Но разве могу я проглотить такие слова? На такое отвечать надо сразу, иначе – конец; иначе моя мальчишеская репутация будет уничтожена, и во всех наших забавах мной будут помыкать, над безответным будут издеваться даже те, кто слабее. Мальчишки всегда жестоки по отношению к робким и беззащитным.
И я, не затевавший никогда драк и не любивший в них участвовать, даже не посмотрев, кто стоит рядом с Моше (а его всегда окружала парочка прихлебал, готовых поддержать любое слово), бросаюсь на него с разбегу, валю на спину и, не давая опомниться, начинаю наносить удары кулачками. Он явно не ожидает от меня такой прыти, но приятели его тут же накидываются на меня, и в небольшой получившейся куче-мале, катаясь в пыли, мы как следует мутузим друг друга, пока остальные не растаскивают нас.
– Ты кого назвал мамзером, хазир109? – плача, пытаюсь я вырваться из рук держащих меня, сплёвывая кровь из разбитой губы.
Моше, никак не ожидавший, что его, признанного лидера мальчишеской компании, вот так вот отмутузит тот, кто заведомо слабее, тоже плача и размазывая по лицу кровь, хлещущую из носа, кричит в ответ: «Ты мамзер, ты яванский подкидыш! Мне отец рассказал! Легионерский ублюдок!»
От обиды и несправедливости я убегаю домой и, найдя свою мать, хлопотавшую в доме по хозяйству, реву, уткнувшись ей в подол.
Я действительно не очень был похож на своих родных братьев и сестёр – круглолицых, черноглазых и кудрявых, бывших будто уменьшенной копией моего отца Йосэфа. Худощавый и рослый для своих лет, со светло-карими, с зеленцой, глазами и светлыми волнистыми волосами, я резко отличался от них внешне, и это не могло не бросаться в глаза. Правда, с годами волосы у меня слегка потемнели. Но глаза, высокий лоб и светло-каштановые волнистые усы и борода, отросшие годам к двадцати – всё это было так нетипично для окружающих нас детей авраамовых, что нет-нет, да и заставляло соседей сравнивать меня с яванами Декаполиса110 и туманно намекать на мое незаконное рождение, что меня сильно обижало. Эти полунамёки были для меня болевой точкой с детства – быть может, потому также, что я и сам смутно сознавал их небеспочвенность, но тут же, краснея от стыда, гнал от себя эти сомнения. Мне казалось, что даже тень подобных мыслей смертельно оскорбляет мать. Именно потому захлестнули эмоции, когда совершенно незнакомый человек – Йоханан, мой кумир, вдруг с первых же слов чуть не отправил меня с позором восвояси, попутно разбередив незаживающую рану.
Незаметно я перешагнул невидимую границу, отделяющую воспоминания ото сна. Казалось, вот я ещё вижу Моше с испуганными глазами, пытающегося остановить кровь – и вот он уже стремительно уносится вниз; а я не бегу, а будто взмываю над Нацратом, влекомый невидимой силой и обретший крылья. Я часто летаю во сне; это удивительное ощущение настолько реально, что, проснувшись, порой не могу понять, что было сном, а что явью. И теперь я снова парил в вышине, видя внизу маленькие суетящиеся фигурки приятелей и недругов детства. Потом взгляд оторвался от них, и открылась гладь Ям-Кинерета.
– Иешу, Иешу! – издалека слышится знакомый голос.
Мама, Мириам! Она зовёт меня туда – вверх; и я вдруг, взмыв над облаками, закрывшими земную твердь, вижу перед собой толпу наших соседей, непонятно как оказавшихся тут. Я будто скольжу между ними, не задевая, хотя стоят плотной стеной. А они даже не замечают меня, смотрят куда-то в одну сторону на то, чего мне ещё не видно, и глаза у них полны ужаса и боли. И вдруг передо мной открывается каменистый холм на западной окраине Нацрата, возвышающийся прямо из облаков. На холме, отбрасывая длинные тени почти к самым моим ногам, стоят кресты, под которыми скучают под лучами садящегося солнца римские легионеры. Я уже знаю, что увижу дальше; не хочу этого, но не в силах сопротивляться. Медленно, с нарастающим ужасом безысходности, поднимаю глаза к крестам. Там они – незнакомые мне люди с распухшими, безвольно склонившимися на грудь лицами, усеянными жирными мухами, с широко раскинутыми в стороны руками, прибитые огромными гвоздями к перекладинам, безобразно нагие, с неестественно вывернутыми ногами. Они страшны, они чудовищны. Хочу отвернуться, но не могу; будто загипнотизированный, смотрю в лицо ближайшему, и вдруг в его искажённых болью чертах узнаю Йосэфа111 – своего престарелого отца.
– Иешу, не смотри, отвернись! – едва слышится в ушах голос матери. Медленно, будто пятясь, начинаю отдаляться от крестов и вдруг, не отрывая от них взора, теряю опору и падаю. Падаю с той самой высоты, на которую только что поднимался, падаю вниз, и всё ближе земля, всё неумолимей…
Просыпаюсь, тяжело дыша, будто действительно свалившись с высоты. Ощущение настолько реально, что даже ломит тело. В висках стучит барабанной дробью, часто-часто, но предутренняя прохлада и мерное дыхание спящего рядом Андреаса возвращают меня в реальность. Спать уже не хочется, и я, накинув на себя покрывало, чтобы уберечься от свежего ветерка, спускаюсь к реке. Там, примостившись на прибрежном стволе ракиты, решаю встретить рассвет и успокоиться.
Этот сон – воспоминание об ужасе детства – повторялся вновь и вновь. После того как было потоплено в крови восстание Йехуды Гавлонита и Цадока112, по всему Ха-Галилю стояли кресты – квинтэссенция римского правосудия, на которых приняли мучительную смерть тысячи иудеев. И то, что мне довелось тогда увидеть на каменистом холме под Нацратом, кошмаром преследует меня; слава Богу, последнее время нечасто. Но сегодня ощущение было очень, просто пугающе реальным.
Между тем ночь постепенно таяла, размываясь предутренними сумерками. Прямо передо мной, за Йарденом, за полосой невысоких деревьев и кустов, возвышался слоистый холм. Песчаные слои пологим зиккуратом113 поднимались к вершине, заканчиваясь группой небольших скал. Над их зазубренным краем медленно серело небо – всё светлее и светлее, пока из-за правого уголка этой гряды осторожным оранжево-красным язычком не блеснуло солнце. И сразу зарозовели слоистые облака, тонкими полосками обозначенные чуть выше горизонта. Мне, притулившемуся на сыром от росы стволе, улыбнулось ещё сонное, едва пробудившееся утро – первое утро моего послушания в общине Йоханана Ха-Матбиля.
Глава IV. В начале было слово
Нас было немного – человек тридцать, составлявших основной костяк общины Йоханана. И был ещё неиссякающий поток паломников, что приходили послушать проповеди, получали очищение в водах Йардена и вновь покидали общину. Кое-кто задерживался на пару дней, но большинство уходило сразу же после омовения. Ритуал, определённый порядок движений, обрамлённых заученным текстом – вот что для многих подменяет собой суть и содержание. Таковых можно было насчитать от пяти до тридцати человек ежедневно, так что проповеди Йоханана всегда проходили при довольно большом скоплении народа.

