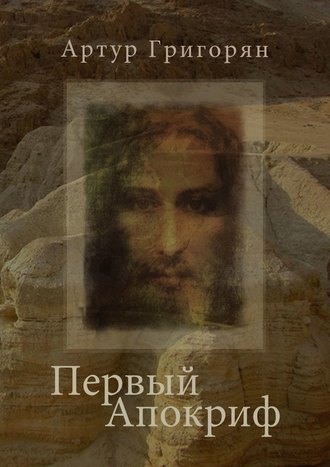
Полная версия
Первый Апокриф
Я с собой книг не брал, кроме парочки медицинских, и боялся, что без чтива будет скучновато коротать вечера – так что эта находка меня очень обрадовала. Почти всё я уже читал, за редким исключением, но перечитать интересную книгу никогда не считал для себя зазорным.
Однако прежде мне хотелось обследовать все отсеки моего хранилища, и я, сложив до поры книги стопкой на столе, попытался выдвинуть последний, нижний ящик. К моему удивлению, это мне не удалось. Я прикладывался и так и эдак, дёргал неожиданными рывками под разными углами, пытаясь застать противника врасплох – всё напрасно. Попробовал сдвинуть комод с места – тоже безрезультатно.
Молчаливая упёртость мебельного патриарха разозлила не на шутку. Ни силой меня Бог не обидел, ни комод не казался таким уж тяжеленным. Ладно, упрямец, мы пойдём другим путем. Я вытащил два верхних ящика, но, к моему удивлению, доступ к нижнему не открылся: поверх него была приколочена толстая доска, полностью скрывающая содержимое.
Любопытство моё разгоралось всё сильнее. Щедрая фантазия, отягощённая бременем эрудиции, рисовала клады, которые могли быть спрятаны – от алмазов мадам Петуховой до сокровищ Агры19. И хотя законность моих претензий на наследство была более чем сомнительной, я успокаивал себя тем, что кроме меня, скорее всего, никому эта тайна уже не откроется. Безжалостно раздавив в себе червячка сомнения, я с фонариком в руках полез внутрь комода, чтобы обследовать его заднюю стенку и понять, почему так и не удалось его отодвинуть. Как и ожидалось, секрет объяснялся просто: комод был намертво приколочен к стене. Отодрать вековые гвозди не было никакой возможности, да и незачем: секрет-то, похоже, внутри последнего ящика.
Из пыльного чулана натащил кучу инструментов – молотков, топоров, ломов и ещё каких-то девайсов, названий и назначений которых не помнил. Сложив всё на полу в художественном беспорядке, взялся отдирать переднюю стенку ящика. Скоро тяжёлая створка, отгибая нижние гвозди, заскрипела вниз, и я, скорчившись в три погибели, жадно заглянул внутрь сокровищницы, подсвечивая себе фонариком.
С минуту я внимательно пялился в щель, потом сел на пол в полной фрустрации20. Ящик был абсолютно пуст. Опять опустился и, взяв фонарик в зубы, обеими руками залез внутрь узкой полости. Не доверяя собственным глазам, внимательно обшарил все углы, куда мог дотянуться, прошёлся пальцами по швам и граням, потыкал палочкой в заднюю стенку – ничего.
Нокаут. Фантазии о несметных бриллиантах рассыпались в дым. От обиды за то, каким глупцом оказался, даже не стал убираться, а, оставив всё как есть, завалился спать, не раздеваясь.
Утром, пытаясь не смотреть в сторону погрома, учинённого накануне, я быстро собрался и отправился в больницу. Ближе к вечеру, покончив с делами, вернулся опять в Храмину21 – как я, с лёгкой руки старины Умберто, стал называть свой дом.
Выпив чаю и пораскинув мозгами, я решил уж докончить начатое, чтобы не было мучительно больно за бесцельно раздербаненный комод.
Доска, закрывающая нижний ящик, вскоре также была отодрана, и его пустота обнажилась передо мной во всю безнадёжную ширь. Ничего нового. Единственное, что было необычного – прожжённая на дне, прямо посередине, фигура, которую при некотором воображении можно было принять за стрелку, направленную к стене. Я было подумал о «двойном дне» и простукал дно ящика, а также оценил на глазок пространство под его нижней стенкой: двойного дна не было.
Лишь медицинская дотошность позволила напасть на след. У меня с институтских времён сложился профессиональный навык: смотреть больного не только на предмет явно видимой патологии, но и не пренебрегать общим осмотром, несмотря на то, что в большинстве случаев он был простой формальностью. Привычка – вторая натура. Так и здесь: простукав дно, я не остановился на этом и почти машинально побарабанил по всем стенкам комода.
За прибитой задней стенкой – там, где должна была находиться стена – явственно угадывалась пустота, гулкая полость. Она занимала не всю поверхность, и именно отличие в звуке перкуссии22 заставило меня обратить на это внимание. Я внимательно простукал ещё раз и карандашом обозначил границы тимпанита23. Получился прямоугольник прямо по центру задней стенки, чуть выше уровня пола, высотой сантиметров сорок и в ширину около семидесяти. Остальная поверхность тупила несомненной стеной.
Я обошёл стенку, чтобы оценить её с обратной стороны, из другой комнаты. Там, в глубине гардероба, в котором, как я уже упоминал, отсутствовала задняя стенка, в подтверждение предположения был массивный выступ стены.
С замиранием сердца я вновь вернулся к комоду, поплевал на ладони, взялся за топор, размахнулся и нанёс удар. Инструмент с трудом вгрызался в толстое дерево, и я провозился с ним немало, пока наконец кончиком лезвия не провалился в пустоту. Ещё несколько не особо метких ударов, и туда уже можно бросить взгляд. Я жадно припал к получившемуся отверстию, подсвечивая фонариком. Там действительно что-то откликалось металлическим блеском, и это придало мне новые силы. «Чем не Индиана Джонс24 в сокровищнице?» – мелькала восторженная мысль.
Топор и пила сделали свое дело, невзирая на мою косорукость. Ниша наконец открылась, позволив, слегка ободрав пальцы, вытащить на свет божий содержимое: невысокий деревянный сундучок с обитыми железом краями, закрытый на ржавый замок. Он занимал почти всю нишу, не оставляя свободного пространства. Ничего примечательного больше не было.
Восторг и азарт кладоискателя в такой степени охватили меня, что руки дрожали. Замок, на который сундучок был заперт, оказался настолько старым и ржавым, что серьёзным препятствием не представлялся. Пара ловких движений стамеской, ювелирный удар молотком – и он сорван. А я, едва сдерживая восторженное повизгивание, осторожно и нежно, как ребёнка, поднимаю его крышку.
То, что предстало моим глазам, мало напоминало клад в обычном представлении. Ни дублоны да пиастры, ни бриллианты с топазами не бросились в глаза, и где-то с минуту я просто таращился на содержимое, стараясь притушить недоуменное разочарование.
Сундук был разделён поперечной перегородкой на две неравные части. Слева лежали какие-то странные цилиндры – груда толстеньких удивительно ветхих свитков грязно-жёлтого, почти серого цвета, накрученных на стержни, со следами едва различимых, полустёршихся каракулей. Там же, в отдельном крохотном отсеке, были потемневшие до черноты деревянные то ли чётки, то ли бусы, на среднем, самом крупном звене которых была загогулина типа запятой.
Справа же лежало нечто, прикрытое сверху бурым, с зеленцой, сукном с вышитым скромным крестом. Я снял эту ткань и под ней обнаружил книгу в коричневом кожаном переплёте без каких-либо опознавательных знаков или записей на обложке. Бережно раскрыл. Она не настолько обветшала, как свитки, и не начала разваливаться у меня в руках. Более того, вглядевшись повнимательнее, я уверился, что язык её больших трудностей не представляет. Это был церковно-армянский25: буквы были всё те же, маштоцевские26, язык несколько архаичный, но я в своё время осилил Библию на староармянском и решил, что уж что-что, а эту книгу понять сумею. Книга была рукописная, листы прошиты; на моё счастье, чернила не стёрлись и четко выделялись на пожелтевших листах. Едва ли она была очень уж древней, если даже язык, как показалось, вполне был понятен мне, современному человеку.
Я всегда интересовался древней историей, и находка меня обрадовала намного больше, чем могло показаться с первого взгляда. Старые книги и рукописи, хранящиеся в Матенадаране27, похоже, пополнятся весьма интересным экземпляром. Во всяком случае, с книгой сомнений не было. Загадку представляли свитки, разгадать или даже осмотреть которые не было пока никакой возможности – они просто разваливались в труху при попытке развернуть. Из тайников памяти всплыли иллюстрации к древнеантичным письменам, но это было бы настолько большой удачей, что я на всякий случай не стал обольщаться авансом. Тайну их можно будет разгадать в Ереване, по возвращении, и куда более компетентными людьми, а не мной, дилетантом. Кроме того, была надежда, что ключ хранится в книге, которая вполне была мне по зубам.
Аккуратно сложив хрупкие цилиндры обратно в сундучок, я закрыл его и обратился к книге. Судя по объёму, читать её мне придется не один день, а понимать – ещё дольше. Для упрощения процесса я решил переводить прочитанное на более привычный мне русский и записывать в отдельную тетрадь. Забегая вперёд, признаюсь, что несколько переусердствовал, обновляя древний текст, и в приведённом мной варианте он выглядит совсем по-современному, с терминами и оборотами, которые никак не могли звучать в описываемую эпоху. Мне было важнее передать смысл, а не форму, и я постарался максимально отдалиться от архаизмов грабара28.
Я бережно положил книгу на стол, поставил рядом тетрадь для записей, удобно расположился на тахте, подкрутил фитилёк лампы и раскрыл первую страницу. Повествование началось.

Милостию божией я, дпир29 Мовсес, мыслю предначати сию книжицу, кия суть переклад на язык армянский древних свитков, что исперва свенитися в монастире нашем, Гехарде30. Реликвии сии, суть свитки пергаментни, а такожде сулица31 святаго Лонгина32, ныне нельзя боле набдети в стенах сих, понеже султан Ахмед Османлу33 на земли Араратские поспешаху. Аще беда не минет монастиря нашего, то горе нам и умаление. Темже помыслили мы разумением свои во спасение тяжкоценних реликвий сулицу святаго Лонгина вослати в Эчмиадзинскую34 обитель, тер-хайр Аствацатуру35, а свитки с перекладом, кий я уповаю совершати – в Гандзасар36, тер-хайр Есаи37, дабы избавити от поругания святыни под сенью святых престолов. Писано в лето 1171 года38 дпиром Мовсесом, во стенах монастиря Гехард.

Копьё Лонгина в сокровищнице Эчмиадзина.
КНИГА 1. ИСКУШЕНИЕ
Глава I. В темнице
За спиной скрипнула тяжёлая дверь, оставив меня одного в полутёмной каморке, в подвале, где мне предстоит пережить эти несколько дней. Пережить… О чём я, Господи? Пережить их мне уже не удастся. Прожить бы. Дней осталось мало – слишком мало, чтобы… Чтобы что? Не знаю.
Тишина в каморке звенящая, только в левом углу звучит тихонько: кап, кап… Полновесные капли начали обратный отсчёт. Сколько их мне осталось? Обхватываю голову занемевшими, будто чужими, руками; крепко сжимаю виски. Под пальцами тугой жилкой пульсируют капли – отливаются в слова, бьют в уши пудовыми волнами.
– Приговариваю… Распять! – слова префекта39 – будничные, скучающие, небрежно брошенные из холёных его уст, перечёркивают всё и звенят, всё звенят в голове.
Как? Меня? Меня – такого живого, полного сил, надежд, со всеми моими идеями, мыслями, всем тем, что во мне живёт, дышит и пульсирует, взять и просто прибить гвоздями к деревяшкам! Кто это решил? Почему без меня? Почему никто не спросил меня, что я, я думаю об этом?! Это моя жизнь – моя, а не тех, незнакомых мне людей! Они же не знают ничего. Ведь во мне целый мир – безбрежный, бездонный; как же они смеют перечеркнуть его? И что теперь? Он пропадёт? Разве такое возможно? Разве миры пропадают просто так, по мановению чьей-то воли?!
Кап, кап… Бесстрастный хронометр, не обращая внимания на моё отчаяние, продолжает отсчитывать одному ему известный срок. Звуки, отражаясь от серых стен каморки – этого просторного склепа, ставшего для меня предтечей погребального – тысячекратно усиливаясь, гудят набатным звоном.
Руки, с силой сжавшие виски, возвращают меня к действительности. Набат словно отдаляется. Хаос несвязных обрывков мыслей отступает на какое-то время, втянувшись в небольшой, нервно пульсирующий кокон. Открываю глаза и оглядываюсь, оценивая своё последнее пристанище. Сырая, полутёмная каморка для смертников. Левый угол тонет в полумраке, правый рассечён парной диагональю озарённой пыли, нарисовавшей на полу удивлённый пятачок света. Лучи пробиваются сквозь два небольших полукруглых окна, закрытых толстыми ржавыми решётками.
Сумасшедшая мысль мелькает в голове. Я бросаюсь к этому спасительному свету, к зияющему зеву окна, хватаюсь за решётки и изо всех сил пытаюсь сдвинуть или хотя бы расшатать. Тщетные потуги: я едва могу до них дотянуться. Собственное бессилие чуть не высекает слёзы отчаяния. Собрав силы, подтягиваюсь повыше и, зажмурившись от бьющего в глаза предзакатного солнца, бросаю взгляд сквозь решётки. За окном сереет двор Преториума40 – желтоватая стена, идущая по периметру. Какой прок, если бы удалось даже расшатать прутья? Отсюда не выбраться. Путь к спасению наглухо заперт.

Дворец Ирода Великого, где находился Преториум.
Сзади натужно скрипнула дверь, заставив отпустить решётку и обернуться. Темнокожий нубиец41 с клеймом на щеке, с охапкой соломы в руках, пригнувшись, входит в каморку, а сзади в дверях маячит бликами легионер. Раб складывает солому в правом сухом углу и молча выходит. Это моя постель? Недурно. Мелькает мысль, что моё предсмертное ложе куда мягче тех, которыми я зачастую пользовался на свободе. Заставляет улыбнуться даже. Я тяжело опускаюсь на солому, закрываю глаза. Усталость набегает прибойной волной – напряжение последних часов даёт о себе знать. Под убаюкивающий ритм капели медленно впадаю в тревожную полудрёму.
Жалобный скрежет петель заставляет меня встрепенуться и сесть на ложе. Входит тот же раб, держа в руках невысокий, грубо сколоченный столик, также молча ставит его в центре каморки на освещённый пятачок, водрузив на него масляную лампадку, и выходит. Но я остаюсь не один. В каморке ещё кто-то, вошедший вслед за рабом. Подслеповато прищурившись, отмечаю в полутьме высокий гребень кентуриона42, венчающий силуэт в проёме дверей. Зачем он здесь? Может, меня опять поведут к префекту? Может, что-то изменилось?
Вошедший, стоя в полумраке, молчит и, кажется, внимательно присматривается ко мне. Молчу и я. Наконец кентурион проходит в центр каморки на освещённое место, блеснув массивными фалерами43, и тяжело усаживается на приземистый столик, оставленный рабом, сняв шлем с поперечным гребнем и положив рядом с собой.
– Ты помнишь меня, иудей? – были его первые слова, казалось, прозвучавшие не из его уст, а гулко заполнившие всю каморку.
Странная речь. Я пристально вглядываюсь в чеканное лицо, освещённое косыми лучами. Ну-ка, ну-ка? Ах да, конечно! Память на лица и события у меня отменная, в отличие от имён, тем более что общаться с кентурионами приходилось не так уж часто. Как же его звали? Ладенос? Лагинус?
– Помню, кентурион, – отвечаю и замираю, не узнав собственного голоса. Что-то странное со звуками происходит в этой темнице – они как-то насыщаются утробностью и тут же гаснут в вязкой атмосфере, словно говоришь в кувшин, плотно прижатый к губам.
Как всё повернулось-то! Тогда, в нашу первую встречу, он практически молился, чтобы моим рукам сопутствовала удача, а теперь оказался в рядах тех, кто собирается пресечь мой жизненный путь.
Тягостное молчание затянулось. Зачем он здесь? Что ему нужно от меня?
– Как здоровье отца? Рана затянулась? – спрашиваю, только чтобы нарушить тишину и перебить невыносимый звук капели.
– Давно уже. Шрам остался, и рука побаливает, когда поднимает, но он уже привык. Правая-то всё равно у него сильнее.
– Как его звали, кентурион?
– Пандерос.
– Да, да. Пандерос. А твоё имя… – слегка растягиваю окончание фразы, давая понять кентуриону, что требуется напомнить.
– Лонгинус44. Корнелиус Лонгинус. А ты Йехошуа Бар-Йосэф45, – скорее утверждающе, чем вопросительно заканчивает он.
Как-то невесело звучит голос кентуриона. Если бы это не выглядело странно, можно было предположить, что даже где-то и виновато. А может, всё дело в странной акустике помещения.
– Йехошуа, я начальник стражи Преториума. В эти дни, пока ты будешь ждать исполнения приговора, мои легионеры будут охранять тебя. Мне жаль, что приходится отвечать на твоё благодеяние подобным образом. Поверь, меньше всего я бы хотел, чтобы ты находился тут.
– Забавное совпадение. Не поверишь, но мне ещё меньше хотелось бы находиться тут, – усмехаюсь я.
Интересно, что даже в такой ситуации ещё остаются силы шутить, хотя получается не очень-то весело. Чёрный юмор – не худшее убежище от ужаса действительности.
– Что я могу для тебя сделать? Не проси только того, что противоречило бы моему долгу солдата.
Смеётся он, что ли? Что мне может понадобиться? Какой бессмысленный вопрос для того, кто через несколько дней предстанет перед Господом. Что ещё может мне понадобиться, чего я не успел дополучить за три с половиной десятка лет земного бытия? То, что мне действительно нужно – это жизнь. Жизнь! Жизнь и свобода! Вон из этих серых стен, просторным саркофагом окруживших меня, прочь из этой безысходности и ужаса! Но именно этого он не может дать. А остальное… Да что мне с того?
Я молчу. Лонгинус также не нарушает тишины в ожидании ответа. Капель. Сырость. Мигающее пламя свечи. Наконец он встаёт с жалобно скрипнувшего столика и надевает шлем.
– Ты подумай, Йехошуа. Если что-нибудь надумаешь, постучи и попроси охранников позвать меня. Я их предупредил, чтобы дали мне знать незамедлительно. Всё, что в моих силах, сделаю.
Кентурион ушёл. За дверью стихают тяжёлые шаги и вновь гнетущая тишина, отмериваемая эхом расплющенных о камень полновесных капель, повисает в каморке. Этот мерный звук, похоже, окрасит все мои последние дни, став аккомпанементом мыслям и чувствам до самой смерти.
Смерть… Что это такое – смерть? Как было спокойно рассуждать об этом где-нибудь вдали отсюда, в окружении учеников и слушателей; и как страшно сейчас, когда она почти осязаема. Она живёт со мной в этой пустой комнате – незримо присутствует, как бесплотный дух, ждёт лишь несколько отмеренных по каплям дней и затем материализуется, заполнив собой всё пространство вовне и внутри меня. Не будет ни этого мира, ни комнаты, ни Преториума, ни Йерушалаима46, ни Эрец-Йехуда47 – ничего уже не будет реальностью, а будет только она – необъятная, непостижимая.
Как я шагну туда, за эту грань? Грань? Шаг? Не надо упрощать, Йехошуа. Будет больно, очень больно. И очень долго. Хотя, может, повезёт, и я впаду в забытьё. Каково оно – быть распятым, что ощущаешь на кресте? Вспоминаю свои детские страхи – приватный свой кошмар, преследующий меня с тех пор, как впервые увидел казнённых канаим48, и содрогаюсь. Вот оно! Вот что будет со мной. Бесформенная масса нагой и окровавленной плоти, иссыхающая под палящим йерушалаимским солнцем.
И что потом? Что ждёт меня за этим порогом, который всё ближе? Может, там будет ожидать чистое, пустое небо, и душа моя воспарит над бездной, свободная и счастливая, освободившись от бренной плоти, которая сгниёт в земной юдоли?! Может, меня будет ждать свет, море света, захватывающая дух чистота и свежесть, заполняющая грудь?! Какую грудь? Я же освобожусь от этого тела, не увижу его больше; ни я ему не буду принадлежать, ни оно мне.
С интересом смотрю на свои руки, будто увидев их впервые и готовясь расстаться с ними сию же минуту. Это же я! Это тоже часть меня – такая же неотъемлемая, как и душа! Буду ли свободен и счастлив, лишившись этого тела, этих рук? Сколько раз дух мой был счастлив за то, что могли сотворить руки, сколько раз меня распирала радость, что Бог даровал им талант лечить людей! А глаза? Ведь они позволяют смотреть на этот прекрасный мир. Я зажмурился и вновь открыл их, но вместо затхлых стен каморки перед затуманенным взором зазеленели берега Йардена49, Ям-Кинерет50 на утренней заре и Мидбар-Йехуда51 с причудливыми желтоватыми скалами, теряющимися вдали. И этой красоты я буду лишён! Мир, с такой любовью сотворенный Ашемом52, будет навсегда мне недоступен! Разве может это быть во благо, принесёт ли освобождение?
Я вновь зажмурился. Темнота и пустота. А вдруг там тоже будет темнота, и во сто раз чернее? Не море света, но бездна темноты, непроглядного мрака – безбрежного, безнадёжного, а дух мой неупокоенный будет тщетно искать выхода из этого мира? Кап, кап… Господи, опять он – этот холодный звук!
А может, всё-таки, души возвращаются? Что, если моей душе предстоит освободиться от всего, что было в этой жизни, очиститься и омыться, и вновь, прозрачной и юной, вселиться в невинное дитя и не помнить ни единого мига этой жизни? Боже, дай знание, что ждёт меня! Дай знак! Пошли видение! Я хочу знать и в то же время… я боюсь этого знания.
Что станется после смерти? Тело сгниёт и будет пожрано червями, но не это меня страшит. Хотя и это тоже. Но тут хоть всё понятно, а что будет с тем бездонным миром, что есть в каждом человеке, и который делает его именно тем, кем он есть? Чем я останусь на земле после смерти? Лишь образом, оттиском в памяти живущих, следом в песке. Говорят, мы живы пока нас помнят; но каким запомнят меня? Кто может понять меня так, как понимаю себя я сам? Мать моя и братья? Я давно с ними расстался, да и не было их рядом в самые важные минуты – что они могут сохранить, кроме смутных воспоминаний? Ученики? А что они? Разве они знают меня? Да, я пытался донести до них своё понимание мира, но разве то, что они услышали, сделало их мной, заставило взглянуть на меня моими глазами? Да и возможно ли это?
Какой сумбур в голове. Словно в разворошённом улье, где пчёлы суматошно мечутся, утерявшие цель, лишившиеся царицы. Обрывки мыслей блуждают в усталом мозгу, но никак не удаётся их оформить в стройную концепцию. Естественный вывод ускользает, хотя кажется, вот только протяни руку – и он тут. Видимо, пережитое за день слишком тяжким грузом легло на мой разум. Но надо доосмыслить, надо найти в себе силы освободиться от всепоглощающей доминанты отчаяния. Это важно, я чувствую!
Что есть я, Йехошуа, на самом деле? Разве моё восприятие себя истинно? Каждый из моего окружения видит меня по-своему, преломив сквозь призму своего мировосприятия. А мой образ формируется из всего этого, поверх которого тонким слоем идёт мой собственный взгляд на себя. Но мой взгляд – нечто конечное, ему предстоит быть запертым в этих стенах ещё несколько дней и безвозвратно уйти в небытие. А что потом? Кем я буду через неделю, месяц, год? Безумным рабби53, устроившим погром в Бейт а-Микдаше54, которого кто-то провозгласил Машиахом,55 или человеком, ищущим свою истину и своего Бога, преступником, распятым на кресте, или колдуном, оживляющим мертвецов? А ведь я и не смогу повлиять на то, кем останусь в глазах потомков.
Если предположить, что память обо мне переживёт современников, откуда, из каких источников она будет складываться? Из воспоминаний случайных знакомых, пересказанных теми, кто меня ни разу не видел? Невесело усмехаюсь: какая незавидная участь! Сколько искажений, сколько чудовищных нелепостей будет нагромождено. И в этих досужих сплетнях, в этих измышлениях незнакомых людей память обо мне растворится, исказится и трансформируется, может, даже до полной моей противоположности! А если каким-то чудом удалось бы услышать, что говорят обо мне через много лет, я бы, наверное, сам себя не узнал. Ужасная участь. Во сто крат лучше забвение, чем таким образом выродиться в чудовище, которое меня сегодняшнего может ужаснуть.
Забвение… Всё моё существо восстаёт против этого. Как – умереть и сгинуть? Я не хочу забвения, но и боюсь той памяти, которая меня ждёт. Ужасный выбор, безнадёжная дилемма. Выбор? О каком выборе я говорю? Разве он у меня есть? Он же произойдёт без моего участия, и памяти или небытию только и останется пассивно подчиниться неизбежному. Неужели я бессилен что-либо изменить, хотя бы в столь малом? Да, приговор неумолим, судьба в этом предопределена, и едва ли посчастливится избегнуть смерти, но память?
Довольно! Надо отвлечься, иначе я сойду с ума ещё до казни. Окидываю взором серые стены. Что там? Ну-ка, ну-ка, посмотрим, посветим лампадкой.
Левый угол узилища сырой, с влажными разводами по стене. В самом углу с потемневшего потолка, то ли попадая в такт биению моего сердца, то ли навязывая его, капает вода. Интереснее правая стена – сухая и чуть более освещённая. На ней можно разобрать нацарапанные письмена. Их много – на арамейском, греческом, даже латиницей. Имена, имена – Цадок, Моше, Шауль, ещё и ещё, их едва можно разобрать. Наверное, эти несчастные так же, как и я, боялись быть преданными забвению и хотели хотя бы тут оставить корявый и жалкий след для потомков, оттиск себя на земле, покидаемой безвозвратно.

