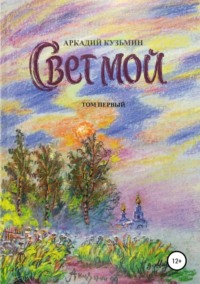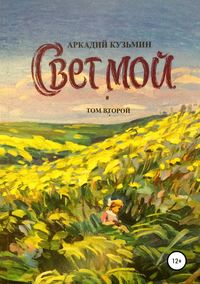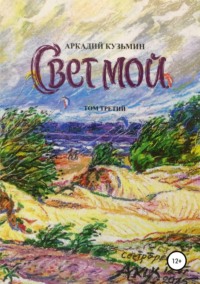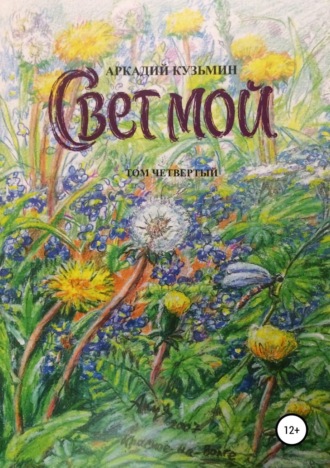 полная версия
полная версияСвет мой. Том 4
– Это еще из-за отсутствия макета – нам ничего не видно без него, – досказал Махалов.
– При всей трагичности разорванного козленка, в книжке читается все смешно, а здесь, в эскизных рисунках нет и намека, – настаивал Перепусков.
– А если бы тут была бы какая-нибудь старуха нарисованная, – предложил Фридкин, (он был всезнающ) – она бы своим видом вызывала смех у читателя.
– Но с пародией-то это никак не сопоставляется, – сказал художник.
– Простите, но сопоставление только фотографий с текстом – еще тем более не получается, – возразил Фридкин.
– Я хочу сказать, что тут волки просто волки. Они кошмарные. А вот там старуха – нет. Приемлема, – уточнил Махалов.
– Вот это же рисованное? – уточнил Перепусков. – А это иллюстрация к Гончарову, к «Обрыву» – эта барышня?
– Мне хотелось бы сказать еще слово, – сказал опять Махалов. – Желательно и обязательно, Коленька, чтобы, во-первых, у тебя к следующему разу был ясный, разработанный макет, чтобы не было таких разговоров. Во-вторых, мне все-таки обидно, что здесь не вижу художника-изобретателя. Это мне обидно, понимаете ли. Он много экспериментирует и прочее. Но я не вижу его собственной руки и остро отточенного пера. Пусть работает – не работает, но я не согласен.
– Надо, главное тщательнее нам отбирать, чтобы не давать повод диктовать нам условия и чтобы и мы не попадали в число выбранных для издания случайные вещи, – сказал главный кудлатый редактор, живописец, – как отбирают живописцы. Графики, например, все дают на художественный совет, без отбора, и поэтому много плохого попадает, принимается, а у живописцев – строже отбор.
«Если бы выступал главный редактор – график, то, конечно же, сказал бы наоборот», – подумалось Антону.
– Вон тот же Мосиев, – подсказал Фридкин. – Его на пушечный выстрел не подпускали к издательству, а тут стал даже моден только потому, что типография приважила и диктует нам условия.
Антон не стал ждать дальнейших разбирательств заявок и счел благоразумным тут подать на подпись Овчаренко свое заявление об увольнении, воспользовавшись некоторой заминкой в обсуждении работ.
– Ты что? – испугался Овчаренко.
– Ухожу. – Антон положил на стол пред ним листок бумаги. – Подпиши.
– Но я не могу сейчас! Ты что? Ты же видишь: совет идет!
– А я больше ждать ни минуты не могу: три месяца ты все тянешь, уговариваешь, кормишь байками. Хватит! Сегодня – пятница. Учти! Я работаю последний день! Я замену себе нашел? Нашел! Все: привет!
– Ну, ладно, прошу, приди в понедельник: передай дела – и я подпишу, – только и смог Овчаренко умалить на это Антона.
И сделалось все так, как договорились наконец с ним, в понедельник. Без дураков.
С всероссийским развалом и издательств тоже, что лишило заработка графиков, Антон решил обратиться, как живописец, к выставкам, вот-вот возникающим где-нибудь в городе; он вытащил из кладовки свои натурные этюды, написанные на картоне маслом треть века назад, и вставил в простенькие рамки. Они бесспорно выделялись какой-то своеобразностью: почти лессировочным нанесением на поверхность грунта красок, без их пастозности; на них не было никакой живописной росписи, что иной раз отталкивает глаз и претит, и тепло исходило от этих недозавершенных листов. Их хотелось погладить ладонью, как некие живые существа, выпускаемые вдруг на волю. Как гладил однажды на выставке его холсты один художник, уже в возрасте потерявший зрение.
Вот эти-то пейзажи Антон и предлагал (должно быть, наивно, ему казалось) всюду, где мог, – и для общих каких-нибудь и личных выставок. Чаще те были платные – за помещение; только художнику без имени – не маститому, не раскрученному, нечем было оплатить, естественно. Хотя и возможная стоимость картинки в этом случае могла быть несравнимо меньше суммы, которую он получил недавно по счетам за книжное оформление. Но стоило попробовать. Нужно было жить, а значит, и действовать.
Его кто-то пригласил, и он выставил около пятидесяти своих работ в офисе строительной компании на Миллионнной улице. И несколько из них он продал по 200-250 рублей, а две подарил в счет бесплатного предоставления помещения.
На Литейном же галерейщица его упрекнула:
– Пейзаж Вы низко оценили. В пятьсот рублей. Ведь рядом у чужой картины ценник – в сотни долларов. Покупатель сразу решит, что Ваш пейзаж нестоящий. А его-то нужно продать…
– Позвольте… – Антон недоумевал. – Разве от цены зависит качество чего-то?
– Зависит от психологии людской…
– Но покупает-то сейчас народ безденежный, только любящий…
И, попав в клуб, Антон с первого же представления своих ярких пейзажей, раскинув их на полу перед глазами нарядной красивой дамы – директора, – проникся духом ощущаемо праздничной атмосферы какого-то особого дома. В нем жила и привлекала сюда всех культура общения в служении искусству его служителей, обладающих любовью, талантливых, опытных и терпеливых. И было раскидисто клубное дерево над жаждущими познавать под ним все тонкости артистического и иного ремесла; и тянулись сюда за познанием добра и света дети и взрослые, и заслуженные ветераны, и воины-афганцы. Здесь всех привечали радушно, отогревали… люди с щедрым сердцем, уже служившие и общавшиеся семьями. Вот в такой творческой семейственности. И неизменно главная хозяйка произносила проникновенные приветствия для всех. И для каждого гостя достойного находились нужные слова.
Так фактически с вернисажа картин Антона Кашина в этом клубе и все таланты начали выставлять свои изобразительные работы. А вскоре вызрело везде в Петербурге такое хорошее начало – бесплатно показывать работы любого старателя – художника – те, которые реалистичны, позитивны, радуют глаз, которые зрителю близки, равны, понятны по духу, незаумны, не несут в себе ребусных загадок и не требуют ложных расшифровок. Как и иконы, на которые верующие молятся, которым верят.
Новейшее российское жизненное устройство после переворота в верхах и смены руководства Антон воспринимал как одно очередное развлечение общества, театрализованное шоу, выходками, покупками, нарядами…
В этом было что-то не первосортное, картиночное, постановочное; что-то уже протухшее, взятое напрокат из старой России, из Европы.
Банки мухлевали с вкладами населения. Их накопления в сберкассах вдруг исчезли. Строители строили дома скверно и перепродавали жилье, обманывая очередников. Гремели всюду взрывы, обвалы; происходило неприкрытое насилие над людьми, но велись успокоительные заверения, молитвы, хотя враждовали даже религии – все хотели побольше захватить для себя религиозного пространства под именем лучшей веры в бога.
Поиграть в свою судьбу стало модным явлением, по получении свободы. Столько появилось вождей призрачных.
Политиканы старались держаться на плаву, быть востребованными: «а я еще когда говорил, предупреждал… а меня не послушались – и наказаны…» Они не производили ничего содержательного. Но как шустры, активны были. Ну, заклинатели, пророки. Из каких дремучих нор они вдруг вылезли, засветились?..
Вследствие начавшейся политической перестройки Антон почувствовал прежде всего разницу между тем, о чем писали классики – образы, характеры, поступки – они стали у простолюдин-героев иными, с чем он соприкоснулся. Это так разительно изменилось в жизни – эти людские характеры. Как же их теперь показывать, отображать? Какие-то нивелированные сглаженные стали, на одно лицо.
Мир вдруг смешался сумбурно, потек вольно и просторно – в соответствии со своими желаниями. И Люба вдруг увидела несправедливость своих истин. Так можно докатиться в своих вожделениях до черт знает чего – до полной анархии. Ведь такое уже бывало в истории недавней. Хорошо, что что-то жизнь еще держит на плаву в правильном положении, не накреняет сосуд сильно, чтобы не вылилось содержимое.
Чистые воспоминания как звуки этюдов Шопена, но они не раскрывали глубины и как бы прокатывались легко по поверхности, словно набегающие волны, слепя и играя.
Люди уже как-то стихийно, бесцельно двигались.
Океанские глубины не полнились и львиный рык не слышался, счастье у людей не плодилось, но лишь довольствовались добром джентльмены, леди, толстосумы; шумели конференции, пестрели ноутбуки, планшеты, экономические считалки. Торжествовала философия торгашей – их библия.
Вселенская круговерть бесконечна, неохватна. Она разновелика и противоречива. И так быстротечна текучесть наших дней. Не уследить за всем происходящим. И нет в том нужды. Проистекает все так, как надо, философски полагаем мы по инерции; нас ничто не лишит счастливого подарка судьбы – жизни беззаботной, предначертанной волей божьей, пуская она хаотична – слепа; она подобна лихорадочному мельканию кадров декораций, объективно то происходит или нет. Каждый житель подравнивает под ним – под общепринятое – свое поведение морально и интуитивно, наощупь от сердца. Как будто определенная заданность (как в муравьином хозяйстве) подгоняет нас всемерно, чтобы успеть куда-то по времени, по делам земным, чтобы зажить беззаботнее прежнего, невзирая на катастрофы и потери неисчислимые.
XV
Удачно заладилось так, что Кашины обычно отдыхали в Крыму, в Каче, где держались совестливые цены для вольно отдыхающих. Они гостили как-то и в Подмосковье, у Утехиных – Константина и Тани, младшей сестры Антона, на их обживаемой даче, где были очень живописные места в окружении лесных далей, озер, речки Вори и где часто бывал и потом Антон с этюдником и с упоением ходил по грибы со всеми.
Для него сущим подарком стало позднее приглашение в Костромскую деревню – край городка Красное-на-Волге, родину сотрудницы клуба «Лесной» Елены Чаловой, с мужем которой – Николаем он стал сдружаться. И сначала он даже охнул, узнав, что время в пути туда по железной дороге составляло семнадцать часов. Немыслимо! После-то той утомительной 36-ти часовой поездке в вагоне вместе с Любой и жалующейся на свою судьбу Ниной Федоровной из далекого Благовещенска – поездки, после которой он напрочь отказался ездить в поездах (и даже в командировки из Ленинграда в Москву) и почти не ездил по железным дорогам.
Конечно же, у него были свои странности и причуды, вернее, привычки. Вполне объяснимые.
«Это не по мне. Это не для меня», – каждый раз умозаключал Кашин, например, слыша и транслировавшийся по телевидению галдеж эрудитов, поднаторевших в специфике манипулирования обманов зрителей в чем-нибудь.
Вето для него самого было первым правилом.
– Нет-нет, извините, вы меня не уговаривайте! – сожалеючи воскликнул он в ответ на приглашение поехать за Волгу.
– Антон Васильевич, Вы эту ночь даже и не почувствуете нисколько, – уверяли его сотрудницы отдела клуба убежденно – весело, смеясь над его отказом.
– Да я зарекся путешествовать так еще пятьдесят лет назад, после того как мы ехали с Любой… постойте… сорок с лишним лет назад с Любой? Значит, мы с ней и юбилей нашей свадьбы можем проскочить незаметно…
Приглашавшие засмеялись.
– Значит, тогда ехали что-то тридцать шесть часов. В вагоне с одной болезненной женщиной, женой военного мужа. Там нам было муторно из-за жары, не работали вентиляторы. И тогда мы с женой еще лучше ладили между собой…
– Вам стоит лишь ночь в вагоне переспать – время незаметно пролетит, – уговаривали сотрудницы. – Что Вы любите? Прозу? Мемуары? Сейчас больше детективов развелось.
Короче, женщины были активны, настойчивы в уговорах, и он покорно сдался. Его всегда манили новые края и новые возможности испытать свои силы в творчестве. Изобразить всю первозданность природы, что он чувствовал каждый раз, когда появлялся на новом неисхоженном месте и находил вдруг что-то такое, что привлекало его как художника. Привлекало и знакомство с новыми для него людьми.
В то же время его устраивал по характеру и молодой деловитый хозяин дома, пригласивший его, уважавший его как тоже мастерового человека.
В купе вагона их, в числе едущей туда, в восточном направлении, из Петербурге, была еще молодая приятная пассажирка – технолог, как выяснил Антон, ткацкой фабрики. Она возвращалась с петербургской конференции, на которой обсуждался вопрос выпуска тканевой продукции. Она только сказала ему, что их фабрика ныне выпускает полотно из хлопка, так как посевы льна в Костромском крае сильно сократились.
И вправду, поездка в вагоне не была для Антона обременительной. Она с самого начала получалась ознакомительной в какой-то мере, что он любил.
Он совсем не понаслышке знал о ткацком производстве, не раз бывал на таких фабриках у себя в городе, что на Выборгской стороне, еще как проверяющий быт комсомолок-ткачих, представитель райкома комсомола, и был очень удивлен, даже поражен тем, как ткачихи выдерживают такой оглушающий перестук сотен станков; мало того, он впоследствии и оформлял, как художник, издание о другой ткацкой фабрике там же, находящейся недалеко от завода Карла Маркса, в цехах которого он частенько бывал, поскольку здесь практиковались ремесленники-комсомольцы. В этой фабрике он побывал в цехах, как экскурсант, вместе с любезной дамой, секретарем партбюро. Он не мог не спросить у нее, разве это по-хозяйски, что во дворе мокнут под дождем тюки хлопка? Но она заверила, что хлопок только что поступил – эта партия, а с помещениями у фабрики проблемно, но его вот-вот уберут под прикрытие. И между прочим к ним от потребителей жалоб пока не поступало.
Фабрика выпускала полотно и для шитья водолазных костюмов.
Фабричный коллектив был очень большой. Сменность ткачих небывалая. Администрация набирала иногородних и из провинции девчонок каждый раз, чтобы пополнить штат. Помногу. По сотне девчат.
Проблема с нехваткой чего-то в производстве Антону была знакома.
Что же касается льна, то Антон сызмальства хорошо знал голубые цветущие его поля, ходил часто рядом по дорожкам и слышал перезвон под ветерком их созревших бубенчиков. И боль в руках, когда убирал его с полей вручную, вязал в бабки, и когда позднее писал его в полях.
Антон очень доволен был разговором со спокойной молодой соседкой по купе, отличавшейся спокойными манерами; ее весь облик, но особенно темные крупные глаза точно говорили всем, что она была большая любовь для кого-то и ей, разговаривавшей, следует иногда опускать глаза вниз, чтобы ничем не впечатляться самой.
А также доволен тем, что она созвонилась по мобильнику с мужем, он приедет за ней к вокзалу. Все приятно было.
В Костроме на перрон к вагону, в котором приехал Антон, уже услужливо подоспел улыбавшийся Николай Иванович, как они и условились накануне по телефону: он помог спуститься с громоздким этюдником со ступенек вагонных, повел к машине. Они на стоянке забрались в нее и поехали, направляясь вниз по Волге – за городок Красное-на-Волге и дальше – в деревеньку.
Ожидания Антона оправдались. По краскам и бегущим холмам, и растительности всякой, пышной это был тоже изумительный край, с которым ему предстояло познакомиться ближе и подружиться. Лето еще только-только начиналось.
Только слепили глаза разливы желтых одуванчиков, и на фоне их черная корова паслась на привязи. Колышки синели.
И светло зеленели засеянные льняные полоски.
XVI
Антон Кашин познакомился с Николаем Ивановичем по воле случайности.
Был в стране известный период массового помрачения ума у общественных деятелей. Какую ересь они несли! Вслед за кремлевскими, считалось, зубрами, могущими осчастливить страну. С общей приватизацией пошла на распыл и издательская деятельность: все растаскивалось, убыло куда-то в пустоту; всплыла с легкостью в СМИ невежественность, дикость и болтливость новоиспеченных глашатаев истины; бородачи публично договаривались до того, что нужно выкинуть из Третьяковки все картины художников советского периода, как ничего не стоящие (а значит, поместить сюда их поделки, столь ценимые толстосумами за океаном!).
Все это происходило под знаком того, чтобы осовременить культуру. С благой помощью и западных коллег-светил. Не дай бог отстать от них!
Итак Антон Кашин уже не сотрудничал с издателями. Всплывали лишь редкие предложения. Одно из них было связано с совещанием в Таврическом дворце членов делегаций стран СНГ.
Его сблизило по духу с сорокапятилетним Николаем Ивановичем, мастеровым на все руки, вследствие устройства выполненных Антоном декораций к спектаклям. Николай Иванович с ведома своей жены пригласил Антона присоединиться к нему в деревенский дом, куда он уже приехал на лето вместе с молодой дочерью, мамой только еще ползающей малышки.
Антон с великим удовольствием художничал здесь, в тихой глубинке-заводи, на красочном буйстве природы; можно было писать пейзажи, не отходя далеко от дома, даже с террасы, если прыскал дождик: кругом цвели огородные, будто беспризорные посадки, аллеи березовые, дубовые, сопутствующие жилью, банькам, понатыканным везде колодцам журавлиным; на западе, если взглянуть, Волга водой блещит-искрит сквозь свисающие веточки, на востоке раскатываются складками поля – розовые пашенки и зеленящиеся разливы, засеянные чем-то; около дома колышутся роскошные заросли трав в рост человеческий, которые Антон бесконечно писал; оглушительная безлюдность – мечта сопутствовала здесь времяпровождению: если пойти вдоль покатого волжского берега, то за целый день не встретишь ни души. Дороги где-то вдали – местные, разбитые. Где-то редко прошумят мотором трактор или заблудшая машина отдыхающих, а по Волге проплывет с характерным шумком теплоход или баржа. К югу, за огородными кольями и кустами, за березовым косяком синело призраком полузабытое село Сунгурово, обживаемое нынче в основном московскими дачниками; там маячил силуэт разрушенного храма, подобно тому, что Антон некогда видел и на своей родине: стоячий белокаменный остов церкви среди группки охранных деревьев.
Местность поразила его прежде всего пластичностью, рельефностью, основательностью и высоким небом. Изображение ее отлично вписывалось красками на грунтованный холст.
И это же все находилось недалеко от знаменитого Левитановского плеса!
Общий стол организовал сам хозяин, Николай Иванович. Они вместе ездили за продуктами в магазины и закупали продукты впрок, а молоко, яички по договоренности брали у местных крестьян и делали превосходные простоквашу и творог. Иногда же Николай Иванович заводил мотор на лодке (он, как уважающий себя хозяин, держал ее на приколе, имел сходню), направлял ее за быстрину, за островки, и там рыбачил. И приносил несколько рыбин. И их вялили на ольховых дровах. У него все получалось.
С обедами помогала и спорая милая Оксана, у которой все получалось; она училась в кулинарном техникуме, умела и варить супы.
Для отдыха, когда еще работаешь по вдохновению, лучшего желать и нельзя.
И конечно же примечательно происходили у Антона разговоры с Николаем Ивановичем по догорающим вечерам на террасе, используя минуты, покамест нагревалась в чайниках вода для мытья столовой посуды, и после этого. Они говорили о смысле и целесообразности ими делаемого и про то, во что они верили и на что нисколько не надеялись, исходя из своего жизненного опыта.
В их словах слышалось лишь желание успокоить себя, свою душу сделанным и делаемым ими для себя и для людей по совести. Больше ничего им не нужно.
Николай Чалов был работающий знающий мастеровой: хорошо смыслил в строительном и в слесарном делах, в электрике, умело пользовался нужными инструментами, коих у него в мастерской хранилась тьма, распасованных в ящичках; он всякий раз копался в них, перебирая все, подыскивая то, что ему требовалось. Он перестроил террасу, и перекрыл всю старую типовую избу и двор железным листом и стал пристраивать к избе с левой стороны – печной, кухню, очень вместительную; он строил ее в одиночку и без всякого чертежа, но учитывал подводку сюда газа и готовя подвести также трубы для подкачки воды из колонки, которую он собрался опустить колодцем в низине. А кроме того сажал картошку, зелень, косил траву. Закупал на строительных базах и привозил все необходимые материалы.
Антона восхищало умение Николая Ивановича так хозяйствовать везде и на природе, хотя он был сугубо городской житель, родившийся в Ленинграде, и ему даже как-то неудобно становилось за то, что тот почитал Антона за талант, а он занимался вроде бы не таким серьезным делом по сравнению с занятиями Николая Ивановича.
Да, он был рачительным мастеровым на все, что говорится, руки. И все свои проекты рассчитывал и строил в голове с предельной точностью и необходимостью, органично используя природные материалы, какие, как песок и камни, которые он насобирал по берегу Волги.
Казалось, любое дело было ему по плечу. И ему очень нравилось благоустраиваться в быту. Он брался за все. И любил возиться по хозяйству. Не любил бесхозяйственных мужиков и рвачей.
Что его и дочь Оксану возмущало: захламление здешней природы (как и везде) отбросами, куда владельцы их зашвыривали, походя, не задумываясь. У таких – в основном наезжих сюда горожан лишь на выходные дни, ставших дачниками – уже башка никак не варила; они скидывали мусор куда-нибудь под куст, в овраг, недалеко от дома, мыли машины у Волги, в пруду, бесились, топтались на чужой усадьбе и что-то ломали. Шло обычное разгульство. Молодеческое. Без которого нельзя отдохнуть всласть. Ведь попросту не принято у таких людей быть тихими. Они с детства не воспитаны нормально. Вследствие этого и у детей этих нетихих родителей уже не стало никаких обязанностей, связанных с работой на земле, что у деревенских ребят: например, коз пасти, заготовить корм для кур, гусей или для кроликов, окучить картошку, прополоть огурцы на грядках. Крестьянские традиции начисто испарились в городских условиях.
При наступившей бесхозяйственности новые хозяева, строившие особняки и заборы к ним, не чурались захватом бесхозной огородной сетки, протянуть шланг в чужой колодец, набросать травы на соседний участок, закрыть частоколом проход, нарвать яблок из чужого огорода.
И нравы проявлялись пещерные. Вот сосед Чаловых – молодой разбитной парень, наезжающий сюда по выходным, однажды вечерней порой просто пострелял в охотку из дробовика. Но в эту пору районное начальство – охотники высадились не столь далеко отсюда. Захотели поохотиться на дичь. Только замеченные гуси не прилетели на означенное место, сбитые с толку шальными выстрелами. И вот охотники вычислили злоумышленника, наведались к нему, поговорили по-мужски с ним и, видно, так накостыляли ему, что он сразу захромал и не показывал здесь свой нос.
В деревне горожанин попадает в сельский быт и заботы, отличительные от груза городских будней, а также и от пляжной атмосферы у моря, и воспринимает это как освобождение от необязательных обязательств, сдерживавших его в поступках, ощущает природную близость, натуральную доступность себе.
Как-то Николай Иванович увидел вблизи от своего гаража в городе роскошный куст шиповника. Подумал: «Возьму-ка кустик на дачу. Отвезу». Прошло время, он уже было забыл о своем желании. Но тут вдруг увидел, что на том самом месте, где рос шиповник, все разворочено бульдозером (видимо, готовилось место под капитальную застройку). Пожалел. Но все же прошел дальше того места и увидел, что тот кустик неизвержен и проволочен бульдозером еще дальше, поломан, искурочен безобразно. Тем не менее Николай Иванович выдрал куст – он был еще живой. Этот куст спаситель держал какое-то время в ванне, а потом привез и высадил его на даче, около баньки. Куст этот прижился и дал цвет.
Николай Иванович стал причастен к маленькому милому эпизоду. Спустившись к моторной лодке, чтобы накрыть кожухом мотор (на случай возможного дождя), он увидел ящерицу, размером почти в карандаш. Стояла лодка на приколе метрах в десяти от берега, – глубина здесь, на Волге, от него по грудь. Она, значит, провела здесь полдня. Он, поймав ящерицу, опустил ее на кожух; оглянулся – а ее уже нет, исчезла. Нет – так и пусть, решил; не искать же ее и на первом этаже, кожух отвернуть. Но, глядь, она опять откуда-то выползла на край лодки: свесившись, глядит на воду. Он хотел снова ее поймать, но она – прыг в воду, поплыла к берегу, именно к берегу: понимает все, хоть и малое создание. Однако, она вскоре стала тонуть. Он быстренько комбинезон на себя – и мигом в воду. Она снова вынырнула – и поплыла. И вновь стала тонуть, брюшком кверху, пропала. Он поднял ее из воды, вынес на берег. Она глядела тут ничего не понимающе, глазенками хлопала. Вот ведь божья тварь. Выбрала перед страхом воды и человека смертельный прыжок в воду. И плыла ведь к берегу, понимая, куда нужно!
И еще Антон подивился другому поступку, что порадовал его.
Раз в четвертом часу пополудни он сидел на ступеньках крыльца и дописывал один этюд с букетом полевых цветов на желтенькой табуретке, как вдруг из-за травяных волн, будто набегая на него в атаке, веером вылетели одна, вторая, третья и четвертая автомашины и стали по краям поляны. Защелкали дверцы притормозивших автомашин, и из них повысыпались гости – семьями. Даже с маленькими детьми.