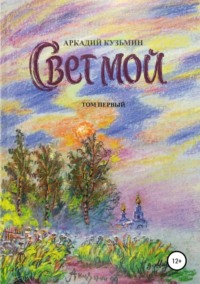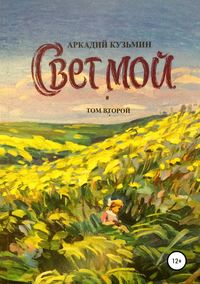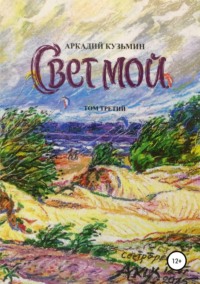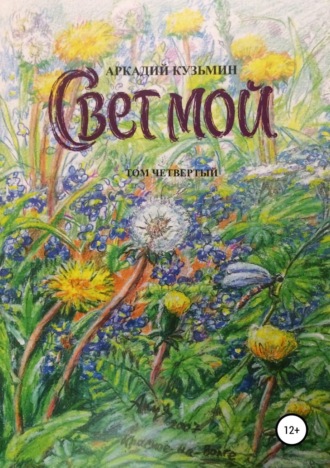 полная версия
полная версияСвет мой. Том 4
Янина Максимовна улыбалась, Павел Игнатьевич заходил по комнате. Антон сказал просто, обращаясь к Любе:
– Где это кольцо? Принеси, верни немедленно. Оно все равно тебе несчастье принесет. Оно дарено не из-за любви, а из-за выгоды.
– Мама, скажи, – обратилась к матери Люба, – так ты из-за него-то и приехала к нам? Возьми кольцо.
– Нет, не только, доченька, я не прошу, – заюлила та, а руки ее сами потянулись за кольцом. Глаза предательски заблестели.
– А сомнений и переживаний, верно, сколько было, Янина Максимовна? – сказал Антон. – И как все просто. Да, сколько вы разные, столько и похожие, право.
Она не нашлась, что сказать. Засуетилась с сумочкой.
Тесть встал с дивана. Это значило: он устал от всего хождения, ненужных разговоров и вообще не хотел и в разговоре волноваться – экономил силы. У него были свои представления о смысле жизни. Еще раз машинально, подойдя к окну, с сомнением взглянул на застойный низкий свет пасмурного осеннего дня. Сказал:
– Вот взялся ветер! Прямо в немилость. Сырой, очень тяжелый воздух. Три часа по городу походил – много дел оказалось с этим обменом. Не подступишься к нему. Стало мне плохо. Иду и думаю: сейчас упасть или потом? Решил: лучше потом. Купил на радостях, что так решил, журнал «Здоровье». Пойду, почитаю…
Янина Максимовна нахохлилась, поджалась – недобрая.
Нужно было прощаться.
Антон встал со стула и стал собираться, чтобы проводить гостей.
VII
Антон Кашин неспроста привел в издательстве наглядный пример из ученичества своей дочери Даши. Он несказанного гордился с самого начала, как отец, ее умением и способностью учиться и реально познавать, понимать и воспринимать окружающую ее действительность и так не доставлять больших хлопот родителям, совместная жизнь которых шла незавидным середнячком, хотя кто-то еще и завидовал им в чем-то. Но везде свои проблемы надолбами возникали, стоило взглянуть куда-нибудь.
Вот мартовским днем коротко звякнул дверной звонок. А спустя минуту в прихожей раскатился бранливый Любин голос – видно, на пришедшую дочь – третьеклассницу. Случалось, что Люба резко отчитывала Дашу, если видела у той какие-нибудь промашки по учебе или, хуже, явную провинность, еще при встрече из школы на пороге квартиры. К несчастью, она не умела воспитывать ее просто, не шумливо-драматическим образом; действуя порой слишком эмоционально, она не отличалась в такой момент трезвостью суждений, объективностью – напротив, считала полностью себя правой, справедливой во всем.
Антон, встав из-за стола, вышел в коридор. И спросил:
– Ну? Из-за чего надвинулся циклон? – Противник всякой истерики, он обычно старался препятствовать тому, чтобы жена частой руганью травмировала дочь – вызывала в ней психологическое отупение. Так что всегда вмешивался, как-то приглушая вскипавшие страсти Любы. Иначе женская буря могла бы пробушевать долго, зря; только был бы урон семье, спокойствию, делу, а толку-то, как ясно показывала жизнь, ровным счетом никакого.
– Раздевайся! Не стой истуканом! – гремела между тем Люба не меньше в присутствии мужа, словно этим самым лишний раз подчеркивая и при нем свою исключительную власть над дочерью, над семьей, – власть, на которую все время покушались домашние. В розовом сарафанчике, она, тощая, отважная брюнетка, гневно жестикулировала в коридоре, почти сжимая кулачки, готовая к бою; бледная же, худенькая темноволосая Даша, пугаясь и тупясь перед ней, у входной двери, на матерчатом коврике, и снуя ручонками, суетливо снимала с себя красные сапоги, черную куртку на молнии, вязаную красную шапочку. – Я вот не дам есть тебе, тогда ты подумаешь, как мне «тройку» приносить! Ты мне ответь, пожалуйста, почему же принесла по математике «тройку», когда знаешь этот предмет на «пять»? Что, я должна лазить в твой портфель – и ловить тебя на обмане?
– Я не успела сказать тебе, мама, – раздеваясь, тихо, дрожаще пролепетала Даша в свое оправдание, что, однако, нисколько не удовлетворило мать.
– Да, если бы ты сразу, когда пришла с уроков, сказала мне об этом, – разве я пустила тебя тогда на культпоход в ваше дурацкое кино? Не заслужила ты, тебе понятно?! Ты – мне наказание, так и знай!..
– Мама, я не хотела скрывать, честное слово… – тянула Даша неуверенно.
– Ну, и что ты увидела в кино? Какой фильм?
– Смотрели «Кот в сапогах».
– Во-во: десятки раз виденное!
– Нет, это был фильм новый – японский.
– Папуля все тебя жалеет – все приходит на выручку… Не было б его, – я б давно всыпала тебе, ой! Он не разрешает. Моли бога, что он дома. Разочек в полгода – вполне бы хватило. У, порода бабкина – бесчувственная! – взвилась Люба. – Ей говоришь, а она на карту лупиться!
– Потому что много слов, Люба, – сказал Антон. – Сыплются они, как из рога изобилия…
– Нет, на кой черт мне это надо было! Не могу понять тоже… Баба дурью маялась… На старости лет ребенка ей захотелось… Ой, как я жалею, что влипла в это детство золотое. Жизни нет у меня. У меня же жизни нет! Ты кровь мою пьешь в полном смысле слова. Мне гадко. Мне не хочется с тобой общаться. Справедливо, верно, отец мне говорил: «Люба, а тебе, видимо, и не следует рожать, ты к детям равнодушна, они осложнят тебе жизнь».
– Ну да, ты то приводишь чьи-нибудь слова, мнения, если тебе выгодно сослаться на что-нибудь, то за милую душу ниспровергаешь всех, если невыгодно… что-нибудь, – поймал Антон ее на слове… – Дайте тетрадку… взглянуть на ошибки. Вернее будет. – И, взяв тетрадь с трюмо, шагнул в комнату.
Люба все кипятилась за дверью, правда, уже без прежнего напора.
Тем временем Антон, открыв за столом на нужной странице Дашину тетрадь – с перечеркнутым красным карандашом примером и уверенно выставленной под ним цифрой «3» и дотошно пересчитав сложение десятитысячных знаков, нашел, что Даша сложила их правильно. Может быть, пример был на вычитание? Проверил: и по задачнику так. Выйдя опять из комнаты, сказал:
– Не вижу ошибки. Пример верно решен. Может, Вера Федоровна ошиблась?
– Вечно ты дочь защищаешь, чем портишь, – нервно отпарировала Люба, полыхая глазами, лицом. Она все-таки была на взводе, закусила удила; ее несло – нелегко теперь остановить.
– Но ведь надо признать: налицо здесь недоразумение.
– И не подумаю! – Люба лихорадочно, что-то делая, сновала туда-сюда.
Даша, будто почувствовав действительно поддержку, запросила:
– Мама, я есть хочу. Хочу есть.
– Спрашивай у отца, – ты на его деньги ешь; разрешит он тебе – накормлю, – бросила мать. – Я дать не могу, не такая добренькая, а он демократичный, сердобольный, – противопоставляла она его себе. – Он, конечно же, позволит – в пику мне… Разве я не знаю?..
– Папа, можно мне поесть? – воспользовалась ее советом дочь.
– Да, возьми сама, что хочешь, и поешь. – Не усомнился он в такой необходимости.
Тотчас же Люба демонстративно ушла с кухни. И запричитала по обыкновению:
– Как мне мало радости в доме, ой! Господи! На душе так тяжело… Прямо жутко. Век бы вас обоих не видеть мне, ой! – причитала с обычным привздыханием – по поводу всего: говорила ли она о ребенке при муже, ребенку ли самому, мужу ли о чем-нибудь. Это было нескончаемо. Одно и то же. И вовсе не потому, что все были уж так плохи, но в столь скверном свете она все видела при плохом настроении и выставляла его напоказ. – Устала я с ней. В вечном услужении. Может, ее в интернат на полгода сдать? Может, тогда она поумнет?
– Ну, ты все-таки думай, что говоришь! – решительно пресек Антон ее изливания. – Что ты несешь – ради красного словца?
– Нет, почему же! – сказала Люба как ни в чем не бывало, сверкая глазами. – Вон Ольга Михалева отдала мальчишку, так он через полгода шелковым стал: сразу наелся. Вся дурь мигом вылетела. О, какой послушный теперь!
– Не городи ты чушь! Не позволяй себе… Тем более с оценкой этой какая-то белиберда… Ребус…
– Ай, не выгораживай ее! – упорствовала Люба. – Не унижай, пожалуйста, меня сомнением. Она этим пользуется. Ни во что не ставит мать. А я требую от нее элементарнейших вещей. И здесь – особый случай: ведь она пыталась скрыть от нас, родителей, плохую отметку свою прежде чем пойти в кино. Кстати, замечаю: то не в первый раз. Ты-то меньше возишься с ней – не видишь; как же: у тебя взамен есть любимая работа, которой ты отдаешься весь… Впору позавидовать.
Антон не стерпел – порезчал в голосе (вечно он и ее воспитывал):
– Да полно, право, более десятка лет ссылаться, если что, на любимое, на нелюбимое. Кто же запрещает найти и тебе занятие по душе?… Найди его – и полюби! Но нельзя же, согласись, шпынять… Зайди-ка на минутку ко мне. Хочу досказать… не при Даше.
VIII
Она послушалась, равнодушная и с некоторым установившимся презрением к тому, что могла услышать от него: зашла в комнату и села в дальнее кресло у стены. И он, притворив за нею дверь, заходил перед ней и обсказывал все с сильным, как умел, убеждением, казалось ему:
– Пойми же хорошенько, Люба, что грех шпынать ее, разговаривать с ней менторски-назидательно, постоянно оскорблять ее, провоцировать скандал… Она ж – только ребенок, притом еще неокрепший во всех отношениях. С большой уже нагрузкой, – посмотри какой. Помимо учебы занимается в спортивной секции, в танцевальном кружке, в хоре; является председателем совета дружины, редактором стенгазеты, еще кем-то… Разве этого мало?.. А сколько еще бессмысленных классных заданий, вроде витражей, коробочек по труду и каких-то альбомов? И нагрузка на психику все растет… Снова я тебя, Люба, прошу: ты не делай вынужденно, через силу то, к чему не лежит душа; только никого не кори, а то сделаешь что-нибудь хорошее и этим же лупишь нас с Дашей, наказываешь, стонешь: «Ах, я всех обслуживаю!..» Веселенькое дело. Так и обед твой не лезет в горло, право…
И опять у него был с женой очень трудный разговор – все вращавшийся в конечном счете вокруг ее необоснованных требований, или, вернее, претензий к мужу: почему это он не сделал ничего для того, чтобы она была счастлива замужеством, как рассчитывала в девушках, да просчиталась по легкомыслию. Она не создана для возни с детьми, не любит их; не считает, что они – цветы жизни, – пусть другие бабы млеют над ними от счастья, а ее увольте от этого… Он-то прекрасно все знал… на что шел…
От волнения он тоже сел. К столу. В свое рабочее кресло.
Ее заведомо категоричные, шедшие наперекор суждения, отскакивали от всего, точно тугой резиновый мяч. Нет, беды в том не было. Но все-таки несправедливо: в пылу она, разумеется, излишне наговаривала на себя. Самозащищаясь, задиралась, как бывает. Например, соклассники Даши, едва показывалась она в школе, любя облепляли ее со всех сторон, даже мальчики, что редкость, – для всех находилось у нее теплое, ласковое слово… Не далее вчерашнего они ее просили приходить к ним еще: им очень запомнился недавний случай, когда она, занимая их в отсутствие учительницы, играла с ними возле школы! И так искренно она еще дивилась, сокрушалась по этому поводу: как же, видимо, мало было радости в семьях детей, что они запомнили такое!
– А! Оставьте меня в покое, – говорила теперь Люба отрешенно, отгораживаясь грубостью. – Я ничего не хотела и не хочу. Хотел ты. Вот и чухайся себе с дитем на здоровье!.. А будь моя воля, – я б ушла…
Антон только глянул ей в глаза: его натуре всегда претила ее выспренность.
– Но ты-то, я уверена, не уйдешь никуда, – сказала она в знак его обвинения.
– Верно, – согласился он. – Не могу. Не смею позволить себе этакую роскошь. Даже и сказать. И разве уходом своим (будь я другим) научишь человека чему-нибудь хорошему? Тем более тебя…
Люба, пожалуй, однобоко понимая свою роль и место в жизни, опять говорила о том, что одной ей было бы проще – свободнее и можно хахаля завести, как ее знакомые. Забот не знают. Говорила уже все знакомое.
И он справедливо возмущался:
– Ты держишься одного своего конька. Но пропагандировать для других, известно, легко то, что сама не будешь делать, – это несерьезный довод. Один хахаль – значит чей-то муж, отец, пьющий; если не один – это может не устроить, да? И чем-то он лучше меня, мужа, окажется? Ведь можно не угадать… Ненормально все: тебе, Люба, за сорок, а ты все хвост распускаешь, петушишься, все торгуешься со мной… За мнимую свободу…
– Ну, в городе современном прожить одной несравненно проще, чем в деревне… Есть где переночевать… Хоть сегодня…
– Одни декларации… Твои родители тоже так отгородились от всех… И что: сами наказали себя на склоне лет… Потеряли уважение…
– Но пойми же: я хочу и не могу… – И нижняя часть лица Любы мелко-мелко задрожала – предвестник близких слез у ней.
– Так зачем же тогда в кучу городить бог знает что?
В раздражении (и чтобы слез не видеть) Антон сидя отвернулся от нее. Затем встал, открыл немного форточку. Снова сел. И помолчал. Она также молчала, справляясь с волнением. Окно комнаты выходило на проспект, и стало слышней шумливое движение не улице транспорта.
Люба вздохнула уже обреченно, не переубежденная:
– Ох, хотя бы поскорей закончить все эти наследственные дела после смерти отца. Как это так? Знал, что доживал последние дни, а не оставил даже завещания! После смерти мамы трясся над нажитым; боялся, что обворуют… Я измучалась, издергалась с братцем. Меня угнетает вид протухшего и полусгнившего родительского барахла, над которым мать и отец почему-то от жадности тряслись всю жизнь, сколько помню. Не дай бог перепадет к кому-то…
– Не случайно же, – сказал Антон, – есть официальный медицинский термин-понятие: «синдром Плюшкина» – это свойственно старикам… Куда как понятно! распространенное явление.
– Но вспомни: они нам и на первых порах даже тарелки не дали, мы у соседки занимали. Хороша-то ложка к обеду… И вот теперь Толя из-за этого совсем, чувствую, отошел от меня, как брат, – все хапает, хапает. Как в прорву… Хотя к родителям был холоден… А еще партийный, с ученым званием, общественник. Видеть его не могу, – до того он мелочен, неприятен мне… Не хочу даже встречаться больше с ним: взвиваюсь… Надоело все!
– Да ты, если можешь, не бери ничего, прошу. Нам-то на что? Посуди, свои вещи, книги класть некуда – места не хватает… Хочет он взять – отдай ему все.
– Спасибо, – прочувствованно поблагодарила она. Помягчела. – Обещал позвонить мне ровно в три часа; уже четыре, а звонка еще нет; сегодня мы с ним уже не попадем в эту контору по наследованию, чтобы оформить все документы. Теперь жди, когда он разразится этим звонком…
– Ну, на среду договаривайся, если он позвонит, а то если мы в Эрмитаж собрались завтра: удобно – у Даши нет никаких кружков…
– Так мы насчет завтрашнего? – Уже более успокоилась Люба. – У нее же все-таки театр в одиннадцать.
– Давай и встретимся там, на Невском. Совместим… – Он по прежнему сидел, но повернувшись к ней.
– Ладно, – согласилась она тихо.
– Примерно в час? Я к этому времени сделаю дела в издательстве.
– Да, раньше вряд ли успеется.
– И тогда на месте посмотрим, как будем чувствовать… Я-то выдержу, но вы… смотрите сами… Если не устанете после театра…
Люба крикнула из комнаты:
– Даша, ты попила уже?
– Сейчас, – послышался ее голос из кухни.
– Иди-ка сюда!
Скоро та вошла в комнату, послушно и готовно стала у порога в ожидании. Люба опять строго спросила у нее:
– Вам сказали, в какой театр вы идете?
– В центре города, сказали, – был ее ответ. Она слегка было запнулась.
– Видимо, это – кукольный театр. Ну, утром уточним. Кто вас поведет?
– Вера Павловна.
– Молодая учительница? – опять хмурясь, отрывисто спрашивала Люба.
– Да, молодая, – спешила сразу ответить Даша.
– В какое время спектакль?
– Не знаю. Велели в девять часов придти к школе.
– Значит, кукольный театр.
– Я не знаю.
– Кто из ребят идет?
Даша стала по фамилиям перечислять учеников.
– Что, не все пойдут? Почему?
– Билетов не хватило. А кто… кого в пионеры будут принимать.
– Настя Иванова пойдет?
Настя была Дашиной подружкой.
– Нет.
– Отчего? Она же почти отличница, как и ты. Одна «четверка» в табеле.
– Нам учительница сказала: «Встаньте, кого я назову». И меня назвала.
– Стало быть, с пятерошницами идешь? Как же тебя назвала – «с тройкой»?!
– Не знаю. – Даша нагнула голову.
– А ты не подошла к Вере Федоровне и не спросила, дрянь такая?
– Люба, прекрати! – крикнул Антон. – Мы же только что говорили об этом. И что у тебя за недержание на язык?! – Её ругательный жаргон прямо-таки коробил его. И где только она понабралась его?
– Мама, мама, ты добрая; ты мне даже компотику дала. – Даша к ней подошла и прижалась.
– Подлиза несчастная! – чуть подобрела Люба. – А как называется спектакль?
– Нам тоже не сказали… Ничего: ни какой театр, ни какой спектакль.
– Ну, довольно! Иди, уроки делай. А то на тренировку к семи часам идти… Опоздаешь…
– Подожди чуть, мама… – ластилась к ней Даша.
– Кончай подлизунье свое! Противно мне с тобой! Ты непорядочно со мной поступаешь. Мне ничего не хочется для тебя делать. Ни-че-го! – раскатывался Любин голос.
– Ну, мама, мамочка…
– Мне, наверно, тоже надо ехать в театр, – сказала Люба Антону.
– Пустят ли тебя? – высказал он сомнение.
– Да будут, наверное, свободные билеты. Ведь кто-то наверняка не придет. – И к Даше снова: А Степанова идет?
– Да. – сказала Даша.
– Принеси сюда дневник!
И, как только дочь принесла дневник, мать, открыв его, опять взвилась – увидала, что, начиная с сегодняшнего дня – вторника, он еще не заполнен:
– Да ты, что, Даша?! Да когда ж ты перестанешь обманывать меня? А еще вчера смотрела мультики. Кто – папа разрешил? Я ведь запретила…
– Мамочка, я просто забыла… – говорила Даша.
– Врешь! Фу! Как это неприятно мне, что я, взрослый, умный человек, должна ходить вокруг тебя… и песочить…
– Я сейчас заполню его, мамочка. Давай…
– Н-на, уйди с глаз моих долой! Тошнит меня от тебя! Тоска зеленая!
И та ушла покорно, понурив голову.
IX
– Как-то нелепо получается, – заудивлялась теперь Люба. – Я на нее ору, тумаки ей иногда даю, и она-то все равно не боится и не слушается меня; а ты не орешь, не наказываешь ее, но она ведь больше слушается тебя. Скажи, отчего?
– Хорошо еще, что сама, голубушка, признаешься в этом, – отходил Антон в сердце. – Плохо то, что у тебя, или, точнее, в твоих с ней отношениях (а ты их так поставила) нет равной середины: вы то ругаетесь, то лижетесь…
– А в твоей-то жизни разве ровно все? – Она прищурилась.
– Не скажи… Я образумился… И можешь тоже ты. По моему примеру.
– Ой, мне тяжело перемениться. Извини.
– Очень нужно, Любочка. Для всех в доме.
– Нет терпения, Антон. Извини. Правда, правда!
Потом Люба подгоняла:
– Все, кончай, Даша. Уже десять минут седьмого. А нам к семи.
– Я кончила. – Та подошла к матери, уже совсем не грозной.
– Пока я ругалась, ты на карту смотрела, – сказала мать. – А теперь увидела, что я успокоилась… Чтоб тебе ни дна, ни покрышки! Как ты устроена!
– Да так, как и ты сама, – сказал на это Антон.
Да, они с дочкой уже ворковали мирно, с шутками, собираясь на занятия в легкоатлетическую секцию.
– Даша, бери тапки свои. Где они?
– Здесь, в пакете.
– Не выпендривайся. Время идет. Только после занятий из зала не выходи.
– Ладно.
– Оденешься, куртку расстегни и подожди кого-нибудь из нас – можем запоздать. А то поздно, знаешь, какие ребятишки!.. Вон ты слышала, как мне, женщине, лихо ответил одиннадцатилетний школьник, когда я спросила у него, почему он курит в школе: «Хочу и курю!» И даже голову не повернул ко мне. Полное презрение к старшим. А ты-то, что, козявка, для него… для таких…
– Мам, а знаешь отчего у Лены Тушиной папа ушел?
– И от нее ушел?! – скорбно ужаснулась Люба. – Такая милая девочка. Правда, милая?
– Очень.
– И пригожая мама. Мне очень нравится она.
– Да. Она, Лена, знаешь, мне сказала по секрету, что отец от них первый раз ушел, когда ей было четыре года. Сказал ее маме, что не мог переносить детский плач.
– О боже, какой нежный! Это что-то новое в мужчинах…
– Потом, значит, вернулся он. А когда у Лены сестренка родилась, он снова ушел.
– И, что снова из-за плача ребенка?
– Наверное, – по-взрослому говорила, пожимая плечами, Даша. – Я не знаю…
– Зачем же тогда они рожали второго? Нет, это только годится в рассказ о нравах наших испорченных пап и мам. Подумать только! Возьми и напиши, – посоветовала Люба Антону. – Вместо своих сочинений о пользе растений.
– Придется, – ответил он.
– Ну и что же теперь, Дашенька?
– Я спросила у Лены: опять же придет? – зачастила Даша. – А она сказала твердо: «Теперь мы с мамой его не примем ни за что!»
И после Люба успокаивающе говорила по телефону позвонившей ей Гале Березкиной, матери Димы, учившемуся вместе с Дашей:
– Да что ты, что ты, Галя, постой, послушай; я думала ты смеешься… Не волнуйся. Есть у нас лишний пионерский галстук. Я дам. Даша его один раз надела в школу. Да, да! Пусть Дима придет за ним. Пришли!
– Что, вышла с галстуком проблема? – поинтересовался Антон, едва Люба кончила телефонный разговор с Галей.
Люба поспешила поделиться с ним, взволнованная:
– Не одна я, наверное, такая сумасшедшая мать, а и другие тоже. Вон Галя стала гладить Димин галстук – и сожгла его. А завтра утром Диму тоже принимают в пионеры. Едет в музей. В глазах Димы ужас застыл, едва он увидел, что сделалось с галстуком. Представляешь ее, матери, состояние… Магазины уже закрыты – нигде не купишь галстук. Так она, разговаривая со мной, рыдала в трубку, а я сначала думала, что она смеялась так странно, – не сразу поняла. И дети-то нынче капризные. Так Дима ей сказал: «Ну, Дашин галстук я надену». Видишь, наша Даша в почете у мальчишек. Да и девочки, не скажу, благоволят к ней.
– А ты вот честишь ее. Такая-сякая, мол… И еще убойными словами. Давно говорю: надо прекратить. Ведь все отзовется впоследствии на тебе… Подумай!
– А в музее дети, когда их выкликают, бледнеют, даже падают в обморок… от придуманной торжественности этой…
С танцев Даша вернулась потухшая, явно нездоровая.
– Вот тебе наш театр и экскурсия в музей… – Посетовала Люба. – Ну, что поделаешь!..
И уже весь вечер Люба была ласкова, предупредительна с больной дочерью, ворковала над ней, называя ее зайкой, ласточкой. А у той стремительно подымалась температура.
X
К этому времени великого опустошения (и в умах не только русских людей) совпало так, что у Антона Кашина не осталось и закадычных друзей и близких по возрасту и духу товарищей-сочувственников. Ни одного. Он ощущал эти невосполнимые потери, хотя, если признаться, он всегда был подвержен одиночеству по складу своего мироповедения, если можно так выразиться. И потому даже не пытался как-то переустроиться получше, еще подоступнее для всех, без похожести на других. Опереться не на кого. Он – один!
Да, мир большой жил сам по себе, движимый своей энергией; а он, Антон, жил тоже сам по себе, приноравливаясь, не сдавая своих позиций. Он собственно, как всегда, чувствовал это относительно города и в лучшие свои годы (но он их не наблюдал); либо город не принял его, не как город Ленинград, а просто город; либо он, Антон, полностью не принял его в сердце своем, сколько бы не восхищались им ротозеи, небожители. Он как чувствовал себя здесь временным гостем.
Однако Антон в эти последние годы, вращаясь в людских коллективах, находил новых знакомых из числа молодых работников, работяг, проявлявшим интерес к его роду занятий, вместе работая и сближаясь с ними. Все закономерно. Антона привлекали неоднозначные характеры.
Антон привык писать на натуре, показывавшей ему многие открытия в его творчестве. Для этого он использовал любые возможности, особенно в летние и осенние периоды, выезжая из города поближе к сельской местности. Для него присутствие на природе было обязательно для совершенствования в творчестве, поскольку он не просто продолжал художничать, но старался найти в этом новое продвижение; это было для него постоянной учебой, самосовершенствованием не в том, чтобы лучше выписать предмет, а найти ему должное место на холсте.
К этому времени Даша жила уже самостоятельно, замужествовала; она вольная, работающая, раскрепощенная, моталась по свету в свое удовольствие. И Люба с Антоном каждый по своему распоряжался своим временем, досугом, свободные друг от друга. Хотя финансы (главное в семье) и питание (домашнее) были общие (и каждый мог готовить еду для себя), – из-за этого у них никаких недоразумений никогда не возникало, как и прежде.
Они не задирались всерьез часто, не безумствовали в том лихо; стычки у них происходили локальные, пустяшные, препирательские. Чаще всего в зависимости от Любиных настроений. У ней в голове словно прокручивалась самозаводная обвинительная лента – отцовское или, может, дедовское наследие. Она и включалась особенно в это тяжелое для России (а, значит, для всего населения) безвременье, кинутое под ноги либеральным коммунякам – типичным реваншистам, подогнувшим страну под себя, любимых. Бездарей. Они-то и дефолтом всех наградили. Худо было. Тогда Антон, проработав четыре месяца над детской книжкой, не получил ни копейки: лопнул банк, субсидирующий издательство, и оно в одночасье лопнуло. Тогда приходилось продавать какие-то вещи, дабы прососуществовать.